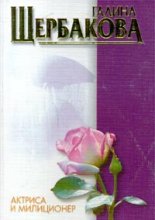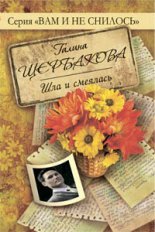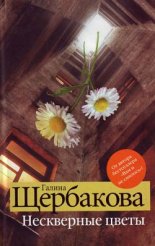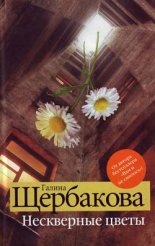Деревенские дневники Пьецух Вячеслав

- Ну почему? Нашелся один такой, землю взял, телят завел, сушилку свою построил - все, как полагается у мироеда и кулака...
- Ну и что?
- Убили.
- Как так убили?!
- А так: приехал какой-то хмырь с того берега Волги, вытащил из багажника двустволку и застрелил.
Солнце уже давненько перебралось на ту сторону реки и, точно с устатку, присело на кроны деревьев, произведя неожиданное, золотисто-салатовое свечение, молодая трава, еще нечувствительная к движению воздуха, потемнела, да и ветер стих, галки угомонились, слышатся только соседские, по-вечернему умиротворенные голоса. Вот уж, действительно, как подумаешь, благодать.
По вечерам обыкновенно бывают гости. Поскольку слышимость в наших местах противоестественная, то о приближении гостей из соседних деревень я узнаю задолго до их появления, когда они еще только въезжают в Козловку, а это за рощей, гречишным полем, речкой Козловкой же и предлинным оврагом, который почему-то называется - Сухой Ключ. По голосу двигателя я даже распознаю, кто именно едет в гости: то - Логиновы на "девятке", сё - Диодоровы на "рено".
Положим, вечерним делом сижу у Генки-Астронома на скамеечке у ворот. Заметим, что Астроном он прозывается вот по какой причине: за малой приспособленностью к хозяйству жена Татьяна частенько посылает его сторожить утят; сидит Генка на берегу маленького вонючего пруда, затянувшегося тиной яхонтового оттенка, и смотрит в небо: не ровен час, ястреб налетит и нанесет урон сонму его утят. Разумеется, такое меланхолическое занятие на могло не сказаться на его умонастроении, во всяком случае, понятно, отчего он пописывает стихи. Подозреваю даже, что Генка по-своему обогатил поэтическую традицию, по крайней мере он обошел японскую культуру тристишия "хокку", ибо навострился сочинять вирши, состоящие из двух строк. Например:
Того и жди
Пойдут дожди.
Или:
Внутри бьется, чуть дыша,
Молодежная душа.
Так вот, сидим мы с Генкой-Астрономом на скамеечке у ворот; я любуюсь на закат, грозно-багровый, волнующий, как дурное предзнаменование: запад придавила темно-лиловая туча, оставив голубую полоску по-над горизонтом, и солнце оттуда выглядывает, словно глаз, налившийся кровью,- Генка по инерции смотрит в небо.
- Ген,- говорю,- сколько молока надоил сегодня?
- Литров шесть,- отвечает он,- а вчера было полноh ведро. Ну с каждым днем всё хуже и хуже, то есть вся Россия помаленьку идет к нулю! В позапрошлом году продали лен? Худо-бедно продали, а в прошлом году льнокомбинат ни копейки не заплатил, и, можно сказать, пошел по миру наш колхоз. Так надо думать, что в этом году вообще лен сеять не будем, вот до чего дошло!
У Генки-Астронома три коровы, две свиньи, десяток овец и птицы не сосчитать, но он аккуратно голосует за коммунистов и после очередного поражения левых сил напивается так, что начисто пропадает, и Татьяна, вооружившись совковой лопатой, идет по деревне его искать.
Невольно подумаешь: русская жизнь, взятая среднеарифметически,- это сплошной какой-то "Вишневый сад", а взятые среднеарифметически русские люди сплошные фирсы, которых защемило по двум кардинальным пунктам, именно: человека забыли, и куда было лучше при господах. Ну не умеет - или не желает наш соотечественник жить сегодняшним днем, а предпочитает существовать либо днем завтрашним, либо вчерашним, не важно, что завтра для него чревато всененавистными демократическими свободами, а вчера он, высунув язык, гонялся по Москве за любительской колбасой. Но то, что мы называем "сегодня", собственно, и есть жизнь, и, стало быть, русский человек просто-напросто не очень-то любит жить, что проясняет многие особенности нашего быта и национальной истории, например, почему мы-таки победили в Великой Отечественной войне.
Итак, сидим мы с Генкой-Астрономом на скамеечке у ворот, разговариваем, вдруг явственно слышу, что гости едут: вот Диодоровы на "рено", вот Логиновы на "девятке", да к тому же еще и Холмогоровы на "Оке". Благо, по деревенской жизни всегда найдется, чем угостить, вплоть до самодельного кальвадоса из райских яблок, и покуда соседи минуют овраг, гречишное поле, рощу - на маленькую полянку позади дома будет вынесен пластиковый белый стол со стульями, а на столе появится свеча в стеклянном подсвечнике, четвертная бутыль кальвадоса, соленья-варенья и большое блюдо жареных окушков. И десяти минут не пройдет, как, перецеловавшись по московскому нашему обычаю, усаживаемся за стол; разливается по стаканам яблочная водка, зажигается свечка - и вдруг увидится картина поразительной, ненынешней красоты: еще не ночь, но воздух прозрачно-темен, на востоке низко висит изумрудная Венера, звезда весенняя, и точно смотрит, чуть в стороне, у забора, белеет вишня, похожая на тучное привидение, а недвижимое янтарное пламя свечки озаряет лица каким-то библейским светом; даже собаки не брешут, разморенные тишиной, ну разве майский жук налетит, жужжа, и слышно плюхнется в смородиновые кусты. Говорить не хочется, и так хорошо, но мало-помалу кальвадос развязывает языки.
- Вот интересно,- говорю,- сколько лет нашей деревне? Вероятно, лет двести, а может быть, и пятьсот.
Логинов говорит:
- Вы представляете себе: пятьсот лет тому назад, еще при Иване III, сидели вот так же здешние мужики, от которых и костей, наверное, не осталось, и говорили о том о сем...
Я:
- И один другому говорит: не ндравятся мне теперешние порядки, вот татар зачем-то прогнали, а, спрашивается, зачем?!
- В том-то все и дело,- вступает Диодоров,- что не там мы ищем истоки вековечной своей беды. У русского человека во всем климат виноват или англичане, а сам он нечаянно падший ангел, который по недоразумению питается лебедой.
Мы так, замечу, давно знакомы, что тезисами говорим, опуская связующее звено, но все равно получается примерно "Вишневый сад".
- Истинная правда! - меж тем соглашаюсь я.- Если бы мы поменьше думали о правительственном кризисе в Доминиканской Республике, а побольше заботились о себе, Россия давно бы стала столицей мира.
Помолчим немного, разомлевшие от прелестного майского вечера и вина. Слышно, как неподалеку неустанно шумит река, в березовой роще вдруг страшно крикнет птица, на дальнем конце деревни пикнет и замолчит не совсем трезвая гармонь, и такое внезапно нахлынет ощущение счастья, что горло запрет какой-то хороший спазм.
Потом Холмогоров скажет:
- Между прочим, генерал Лорис-Меликов, которого с ног до головы оболгала советская историческая наука, был выдающийся государственный деятель и замечательный человек. Но обратите внимание: на Берию ни одного покушения не было, в Суслова только раз бросили бутылкой из-под портвейна, а на Лорис-Меликова народовольцы открыли форменную охоту. О чем это говорит?
- Это говорит о том,- отзывается Диодоров,- что человечество еще не преодолело стадию поздней дикости и ему до сих пор неведомо, что к чему. У человека, положим, за плечами высшее образование и кандидатский минимум, а он не отличает либерала от стукача!
- По этой же причине,- добавляет Логинов,- люди ищут решение проблемы жизни и смерти в коммерческой деятельности, в занятии искусствами и особенно в политической борьбе, глупее которой человечество ничего не выдумало, если не считать танцы.
Я:
- Между тем Лафотер еще двести лет назад открыл, что смысл жизни заключается в самой жизни, как смысл вращения Земли вокруг Солнца заключается во вращении Земли вокруг Солнца, а вовсе не в том, чтобы можно было выжигать по дереву через увеличительное стекло. Ведь простая, кажется, вещь: "Когито ерго сум", то есть живешь постольку, поскольку понимаешь, что ты живешь. И сразу самая простецкая жизнь приобретает глубокий смысл...
Ну и так далее в том же роде. Небо над головой тем временем почернело, и звезды давно высыпали, злорадно намекающие на то, что пространство беспредельно, а время имеет счет. Действительно, подумается, если через шесть миллиардов лет Солнце поглотит Землю, то зачем я, спрашивается, пишу...
ЛЕТО
На самом деле жизнь человека задумана и организована так премудро, что, как уже было отмечено выше, "единственное настоящее несчастье - это собственная смерть".
Несколько лет подряд просыпаюсь с такой вот гнетущей и одновременно веселой мыслью, и это неудивительно, ибо когда человеку за пятьдесят, его, воленс-ноленс, увлекают думы о смерти и о дальнейшей судьбе души. Впрочем, и то верно, что самые мрачные соображения, как правило, продуцируют люди благополучные, и скорее всего эту глубоко французскую пословицу выдумал какой-нибудь бонвиван, который не ведал иных несчастий, кроме как порезаться при бритье.
Опять же возьмем меня; живет человек в деревне, дышит вольным воздухом, настоянным на цветах, пьет ключевую воду с повышенным содержанием серебра, трудится в свое удовольствие, занимаясь, в общем, невредным делом, одним словом, как сыр в масле катается, и вот поди ж ты - каждое утро его угнетает мысль: жить, конечно, хорошо, особенно в деревне, но однажды этому делу придет конец. С другой стороны, сознание конечности личного бытия представляет собой главный, если не единственный, возбудитель литературы, и, следовательно, именно смертной думе мы обязаны тем, что у нас есть книга, да еще в качестве универсального средства от всех воздействий, потому что она, когда надо, развеет, а когда надо, насторожит. Таким образом, не береди наш разум последний час, человечество вряд ли вышло бы за рамки ритуального танца и пищалки "уди-уди". Отсюда, между прочим, вытекает еще такое соображение: Отец, сотворив человека смертным, тем самым дал жизнь богоподобному гению и творцу, который способен отделять, в частности, свет от тьмы,- к чему бы это, ежели не к тому, что слово писателя есть опосредованная воля Божья, мановение, переведенное на язык...
В то время как мысль обретается высоко, набирает обороты простая жизнь: вот за стеной мансарды завозились галчата, которые аккуратно каждое лето родятся под крышей дома,- значит, пора вставать. Седьмой час утра, небо еще бледное, молодое, солнце едва выпросталось из-за линии горизонта и дает какой-то свежий, румяный свет. Все кругом зелено, по-июньски зелено, так сказать, на юношеский манер: и ржаное поле за околицей, которое упирается в березовую рощу, покуда подернутую туманом, и овсы за рекой, и трава у заборов, и разросшиеся на задах крапива да лебеда. Еще видно, как там и сям дымятся черные крыши сараев и мерцает в траве обжигающая роса. Слышно же только речку, а чуть позже отдаленные звуки стада, которое ужо погонят нашей деревней два пастуха: долговязый Виталик Девяткин и маленький Серега Белобородов по прозвищу Борода.
Поскольку вода в рукомойнике за ночь не остывает, летом хорошо умыться непосредственно из реки. Тропинка пересекает деревенскую улицу, огибает маленький пруд, полузаросший яхонтовой тиной, минует поляну, усыпанную цветами, которые производят сложные парфюмерные запахи, и круто спускается вниз к реке. Вода в ней быстрая, говорливая и настолько прозрачная, что даже в ветреную погоду будет хорошо виден нарочно брошенный пятачок. Стало быть, усесться на корточки у мостков, запустить в реку обе ладони и долго, с чувством орошать помаленьку оживающее лицо. Глядишь: вон метрах в пятидесяти левее цапля внимательно разгуливает меж камней, что-то тяжело плюхнулось в воду у противоположного берега, а вон рак порскнул в сторону, но зато набежали и роятся отчаянные мальки. Единственная мысль, тоже свежая, как бы умытая, даже розовеющая от свежести: хорошо.
По возвращении весело бывает ревизовать свои зеленя; картошку, однако, пора по второму разу окучивать, укроп хотя и скелетист, но уже распространяет задорный дух, кабачки кустятся так, что любо-дорого посмотреть, равноh и морковка отменно развивается, и свекла, и бобовые, и редис. И все-то на усадьбе в порядке, все ровно-гладко, как на параде, ни один посторонний гвоздь не валяется, точно это не пятнадцать соток угодий, а любовно прибранное жилье. Единственно подумаешь, что через три тысячи лет тут будет дно морское, или землю закатают асфальтом, или на наш Зубцовский район распространится пустыня Гоби, и тогда такая мысль ядом разольется: нехорошо.
В силу теории относительности, которая представляется почему-то особенно результативной относительно сельского способа бытия, время от пробуждения и до той минуты, когда садишься писать за стол, кажется чрезвычайно протяженным и чувствительным, хотя тот отрезок составляет максимум полчаса. Возможно, так кажется потому, что солнце в эту пору совершает самую приметную часть пути: еще давеча оно светило сквозь кроны деревьев, а теперь уже перевалило за нашу речку и волнами распространяет тепло, похожее на прикосновение, или на приступ стыдливости, или на легкий жар. Впрочем, в моей мансарде по-прежнему прохладно и так приютно, что все бы писал, кажется, и писал; диван, маленький стол, на котором едва умещается пишущая машинка системы "Оптима", деревянное исполкомовское кресло, рублевская Троица, подсвеченная лампадкой, модель двухмачтовой шхуны своей работы и собственного же дела тяжелые полки книг. Из превходящего: трубочка и кружка крепкого кофе со сливками, которое веселит обоняние и приятно тревожит ум. Знай себе удовольствуйся и пиши.
И писал бы, кабы не тот дефис, что вижу - в деревню ввалилось колхозное стадо, которым предводительствуют Виталик Девяткин и Серега Белобородов по прозвищу Борода. Последний, по всем признакам, уже опохмелился, несмотря на сравнительно ранний час, поскольку он неуверенно орудует кнутом и не совсем твердо держится на ногах. Виталик Девяткин мимоходом облокотился на мою калитку и говорит:
- Вчера отдохнули маленько...
- Святое дело,- потрафил я.
- Сейчас Борода, я так понимаю, где-нибудь рухнет спать.
- Полный вперед.
- Ты посмотри, чтобы его собаки не покусали или машина не наехала...
- Посмотрю.
Девяткин протяжно вздохнул, достал из-за рукава сигарету и закурил.
- Дурную какую-то водку стали выпускать, прямо, хрен ее знает, не водка, а чистый яд. Я думаю, это правительство решило окончательно избавиться от народа - по-другому ихнюю политику не понять.
С недавнего времени как-то нехотя пишешь прозу; во-первых, совестно водить читателя за нос, выдавая свои фантазии за былое, а во-вторых, стали вдруг раздражать условности, на которых держится литературное ремесло, например, необходимость выдумывать для персонажей экзотические фамилии или неизбежный порядок слов. Вообще художественная проза - это слишком игра производителя с потребителем, чтобы ею было извинительно заниматься в зрелые годы, тем паче на склоне лет. Хочется говорить с соотечественником без околичностей, напрямки, как Христос завещал: "Да - да; нет - нет; а что сверх этого, то от лукавого". Слава Богу, писателю всегда есть, что сказать в ракурсе "да" и "нет", на то он и писатель, что видит острее, объемлет шире, вникает глубже, чем дано от природы нормальному человеку, по крайней мере он способен сформулировать то, что все понимают, а изложить своими словами - это ну никак...
С одной стороны, такой переворот смущает, ибо он навевает предположение, что, может быть, ты просто-напросто исписался, но, с другой стороны, лестно делается, едва вспомнишь, что через него прошли такие титаны, как Николай Гоголь и Лев Толстой. Правда, в обоих случаях переворот дал сомнительный результат: Гоголь в итоге написал книгу "Выбранные места из переписки с друзьями", которая может быть интересна только специалистам, а Толстой, как известно, ударился в терапию, хотя доподлинно известно: "Литература - редко лекарство, но всегда - боль" (А. Герцен).
Так вот уже года два пытаешься что-то сделать на стыке прозы и публицистики, полагая в этом алгоритме выход из тупика. Не исключено, что тут открывается решение обещающее, продуктивное, тем более что в наше время у соотечественника иссякло желание следить за развитием отношений между Петрушей Гриневым и Машей Мироновой, а если ему нынче и есть
дело до художественного слова, то это слово должно быть какое-то непосредственное и веское, как "батон". Поскольку центральная фигура в России сейчас борец от нечем себя занять, писать хочется о борце, то есть о разбойнике, причем разбойнике крайне вредном, особенно если он главным образом ратует за народ.
Тема эта, в общем, неблагодарная, во-первых, потому, что освоенная, во-вторых, потому, что по бедственной русской жизни сия аксиома не требует доказательств, а в-третьих, потому, что за окном едва приметно покачивается ветка яблони, сквозь нее видно речку, овсы соседнего колхоза "Передовик", высокий берег Волги, заросший елью, осиной и сосной, а дальше только синее-пресинее небо, похожее на театральный задник, по которому плывут куда-то ватные облака. Впрочем, в нашем деле что важнее всего? Слова... Вернее, порядок слов и то, как они пригнаны дружка к дружке, плюс, конечно, хорошо иметь в знаменателе такой дар, чтобы действительность делилась на него без остатка, как, положим, делится пять на пять. Ведь можно сказать и так: наступил октябрь, уже рощи отряхнули последние листья со своих нагих ветвей, дохнуло осенним холодом, дороги замерзли... ну и так далее, а можно сказать и так: "Октябрь уж наступил - уж роща отряхает/ Последние листы с нагих своих ветвей..." - то есть слова вроде бы те же самые, а разница такая, как между понятиями "миссия" и "мессия".
Итак, вставляем в каретку лист, вздымаем кисти рук над клавиатурой "Оптимы" - и вперед: "Когда вождей Конвента с шумом и стрельбой арестовывали в Парижской ратуше, по некоторым сведениям, Макс Робеспьер воскликнул: "Республика погибла, разбойники торжествуют!" Что до республики, затеянной булочниками, которые начитались энциклопедистов, то, может быть, туда ей и дорога, тем более что 9-го термидора, по существу, вор у вора дубинку украл, а вот о разбойниках хочется говорить".
Хочется-то - хочется, а что, собственно, говорить?.. Пока то да сё, можно ручки по-новому переложить, заточить карандашик и понаблюдать из окна за соседским псом, который нежится на солнце и смешно отгоняет мух. Ну разве что так... Вчуже разбойников понять можно: действительно, куда увлекательней шататься по свету, шокировать публику свежими моральными нормами, отстреливаться и скрываться, нежели битых восемь часов простаивать у станка. Только в том-то вся и штука, что борьба за совершенное общественное устройство есть занятие в высшей степени бессмысленное и коварное, ибо, например, всеобщее избирательное право нельзя завоевать путем вооруженного восстания, его можно только заслужить или выслужить,- Россия вон обрела наконец действительно всеобщее избирательное право, но поскольку она доросла много если до конституционной монархии древнеанглийского образца, то законотворчеством у нас занимаются преимущественно лоботрясы и чудаки. Оно и понятно, коли принять в расчет, что наш излюбленный персонаж - бандит Степан Разин, который, в частности, сжег Дербент.
Следовательно, хирургическое вмешательство в естественный ход ве
щей - дело вредное, поскольку, например, личностное, общественное и имущественное неравенство, увы, категория естественная, и оттого вечная или около того, поскольку, например, человечество и помимо учения о диктатуре пролетариата развивается, уповательно, в сторону всеобщего благоденствия, во всяком случае, оно уже проделало некий путь от царя Ирода до Робеспьера и от Робеспьера до наших дней. Да вот беда: революционерам закон не писан, и, скажем, наши большевики будут мутить воду до скончания своих дней, потому что большевизм для них - целое веселое занятие, которое дает хлеб насущный, известность и приложение злостных сил, потому что, кроме как вод мутить, они не умеют решительно ничего. На Западе знать не знали про шесть условий товарища Сталина, Бог миловал романо-германцев от коллективизации и борьбы против безродных космополитов, и "Моральный кодекс строителей коммунизма" никто у них не читал, а между тем по ту сторону Эльбы сам по себе сложился тот общественный строй, о котором мечтали наши большевики, причем мечта эта осуществилась в условиях частной собственности на средства производства и эксплуатации человеческого труда; а что же по сю сторону Эльбы, где и народ обитает смирный, хоть веревки из него вей, и черноземы самые тучные в мире, и нефти хоть залейся, и злата пропасть таится в недрах, и, главное, начальство с утра до вечера ратует за народ, а загодя записывались на галоши, и муку давали не каждый день.
Итак, очевидно, что борцы за социальную справедливость - это в своем роде лишние люди, не приспособленные к положительному труду, которые безобразничают потому только, что как-то надо себя занять. Макс Робеспьер, самозваный защитник "попранной невинности" и "угнетенной добродетели" при помощи гильотины, на поверку оказался особой, до такой степени далекой от прозы жизни, что когда он задумал покончить самоубийством, то всего лишь прострелил себе нижнюю челюсть, так как отродясь не держал в руках ничего опаснее столового серебряного ножа; Жан-Поль Марат, лекарь-самоучка, дорвавшись до власти, первым делом закрыл Французскую академию, за то что "бессмертные" издевались над его научными трудами, вроде "О причинах радужной расцветки у пузырей"; Дмитрий Каракозов, открывший охоту на царя-освободителя, был недоучившийся студент и клинический неврастеник; Андрей Желябов даже в бахчеводстве не преуспел; Ульянов-Ленин - неудавшийся адвокат, Троцкий даже среднего образования не получил, правда, он пробовал себя в живописи и перевел басни Крылова на украинский язык; Сталин, в сущности,- раз и навсегда обиженный кавказец, которого выгнали из семинарии за курение табака. Спору нет - люди всё это были совсем не глупые, по-своему даже мудрые, только на обескураживающий манер: они были из тех мудрецов, кто способен измыслить изощренную программу, выработать тонкий план, принять самые хитрые меры на тот предмет, чтобы осушить Тихий океан или вывести Юпитер из состава галактики Млечный Путь. Поскольку задачи эти, по всей видимости, нелепы, постольку все революции имеют одну судьбу: от абсолютизма к абсолютизму, через кровь, муки и талоны на колбасу. Особенно же в России этот заколдованный путь жесток, возможно, по той причине, что у нас слишком своеобразно понимается социальная несправедливость: это когда корова у соседа двух телят принесла. Кроме того, у нас чересчур много опирается на слова; академик Павлов еще когда высказал "свой печальный взгляд на русского человека": "Русский человек,- писал он,имеет такую слабую мозговую систему, что он не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действительностью, а со словами". Уж это ни дать ни взять: положим, говорят нашему Иванову, что социализм есть равенство всех людей, и он вопреки таблице Менделеева будет до скончания века стоять на том, что если и мне плохо и тебе плохо, то это и будет социализм. Даром что наш Иванов живет в бараке и сидит на пайковом хлебе, он уже счастлив тем, что пошли всё новые, радостные слова, и в принципе даже можно сказать "товарищ" наркому ужасных дел. Похоже на то, что эпоха большевистского царства была самым счастливым периодом в отечественной истории, поскольку тогда господствовали органичные складу русской души понятия и слова. Что ни говори, а Россия - больное дитя в семье народов; впрочем, напрямки об этом не следует говорить.
Прежде подобные рассуждения просто-напросто втискивал в уста того или иного литературного персонажа, но с течением времени стало ясно, что это прием вызывающе искусственный, вроде снов Веры Павловны, и в дальнейшем прибегать к нему не с руки. В дальнейшем дело строилось таким образом: рассуждения - это от автора, в качестве контрапункта к ним - какой-то простой сюжет плюс веселые диалоги, имеющие отдаленное отношение к главной теме, а в финале - пересечение линий по Лобачевскому в заранее намеченной точке координат. Ну и проследить, чтобы каждый период имел собственную округлость, которая достигается определенной последовательностью слогов и в результате так смыкает прозу с поэзией, как заданный ритм смыкает поэзию с музыкой, но не так, как смыкаются фотография и кино. Именно нельзя написать: "А ведь как подумаешь, совсем стало невозможно жить в Москве",- но следует написать: "А ведь как подумаешь, в Москве стало совсем невозможно жить". Впрочем, это делается автоматически, как-то само собой, словно есть в тебе лишний оhрган, похожий на камертон. Другое дело - к чему эти изыски, если
читатель пошел нетребовательный, а редактор - невникающий, во всяком случае, редко когда чувствующий музыку языка.
И все-таки самое главное - это придумать простой сюжет. И придумал бы, надо полагать, кабы не тот дефис, что гляжу: соседский пес подозрительно скалит зубы на мирно спящего пастуха Серегу Белобородова по прозвищу Борода. Пришлось спуститься вниз и отогнать животину прочь - в результате этого мелкого происшествия настроение, конечно, уже не то.
Время около часу дня, дом давно проснулся и живет по обыкновенному распорядку, то есть Ирина Борисовна, дражайшая половина, занимается по хозяйству, собака Кити, ротвейлер породой и болонка по воспитанию, самозабвенно гоняет галок, кошка Маша сидит на подоконнике и делает туалет. Поскольку в голове от усталости непорядок, хорошо с полчаса посидеть под калиной в плетеном кресле, чтобы мало-помалу прийти в себя.
Солнце почти в зените и, хотя оно стало заметно меньше, источает пожарный зной, резко пахнет травами и как будто горелым хлебом, но если потянет воздухом от реки, то кувшинками и прохладой, а если с северо-запада - то горячим сосновым духом, который дает новая банька, стоящая на задах. Хотя в нашей деревне круглое лето живет около сотни душ, ее без малого не слыхать: ну изредка машина проедет, и сразу станет противно дышать, ну заголосит в омутке соседская ребятня, в худшем случае на дальнем конце деревни кто-нибудь заведет электрическую пилу. О чем думаешь в эту пору? Опять же о равенстве, вернее, о том, что архитектор Шехтель был сыном повара из саратовских волгарей, о том, что патриотизм в современном виде подразумевает незаконченное среднее образование, о том, что бы такое съесть на полдник, и еще о том, что весь ход развития человеческой цивилизации направлен к тому, чтобы олухам было удобней жить. На полдник, или, если угодно, на второй завтрак, который бывает в полдневный час, сочиняю следующее меню: жареная колбаса, яйца по-английски, то есть с горчицей, яблочные оладьи с вишневым вареньем плюс разбавленное вино. Но сначала пойти проверить, как там живет-может пастух Серега; а ничего: сидит в теньке под столетним вязом и усердно, продолжительно трет глаза.
Увидев меня, он хорошо зевнул и поинтересовался:
- Насочинял чего сегодня?
- Как же! - отвечаю.- Насочинял...
- А про что?
Я призадумался:
- Вот так сразу затрудняюсь сказать, про что...
- Живут же люди! - воскликнул Борода и снисходительно ухмыльнулся, пощуриваясь на солнце.
А я подумал: в его глазах я, вероятно, человек ненормальный, что-то вроде деревенского дурачка.
Когда с полдником покончено, принимаюсь за разные хозяйственные дела. Перво-наперво воды наносить из речки; деревня наша, как это ни удивительно, стоит на известняковой плите и, следовательно, обходится без колодцев, посему для полива своих угодий ежедневно запасаю до двадцати ведер речной воды. После - косьба, хотя это и против правил, поскольку народная мудрость гласит: "Коси, коса, пока роса",- но в росные часы я как раз пишу. Затачиваю вороненое лезвие оселком до такой степени остроты, что на него даже посмотреть и то оторопь берет, и начинаю выкашивать маленькую полянку, которая простирается от задней веранды до плантации кабачков. Если не для козы сено запасаешь, а воспитываешь газон, то косьба - дело тонкое, предполагающее крестьянское звено в генетическом коде, приверженность европейской цивилизации, гордыню и достаточно крепкий торс. Кошу я, правда, не ежедневно, но дважды в неделю, как правило, я кошу.
Из-за того, что силы уже не те, больше двух-трех соток в один прием обработать не удается: перед глазами начинают ходить оранжевые круги, хороший пот обливает тебя с головы до пяток, руки и ноги точно из чугуна. Тем не менее заодно уж забор подправить, ножи наточить, разбить колуном старую березовую колоду, залатать куском рубероида крышу сарая, проредить морковку, выгрести золу из камина, натянуть за банькой веревку для сушки белья, докопать выгребную яму, подкачать у "копейки" правое переднее колесо.
Наконец, с легким сердцем можно идти купаться, прихватив мыло в мыльнице, початую бутылку шампанского и бокал фальшивого хрусталя. Удивительное наслаждение, равное которому поискать: залезть голышом в нашу мелкую, прозрачную речку, усесться на песчаное дно, так, чтобы только голова торчала среди кувшинок да рука по локоть с бокалом фальшивого хрусталя, и потягивать прохладное шампанское, щурясь на солнце и говоря себе внутренним голосом разные значительные слова; например, говоришь о том, что по мирному времени счастье напрямую зависит только от воображения и больше ни от чего. Или можно порассуждать на такую тему: вот и крестьяне, и горожане, и чиновничество, и ворье совершенно гармонизируются с нашей национальной традицией, и только интеллигенция выпадает из слаженного ансамбля. К чему бы это, если учесть, что русский интеллигент представляет собой наиболее нравственный, деятельный, вообще сложившийся элемент? Похоже на то, что наша интеллигенция есть особая нация внутри нации, то-то она искони в оппозиции окопалась и ей все в России не по душе. Поэтому, в частности, Серега Белобородов для меня что-то вроде бельгийца, а я для него - индус. То есть это не то удивительно, что я вполне понимаю бельгийца, а он меня - нет, а то удивительно, что трудно добиться взаимности у русского пастуха.
Солнце между тем приметно заваливается за Волгу, и, хотя оно выглядит несколько пожухшим, все еще отражается ослепительными оранжевыми бликами на воде. Время идти обедать; на обед в такой знойкий день хорошо отведать салата из разных видов зелени с прошлогодней брусникой, зеленые щи из щавеля и крапивы с цельным крутым яйцом, а на жаркое - холодной телятины со свекольным хреном и свежим картофельным пюре, от которого идет сумасшедший дух. После обеда - трубочку выкурить, сидя под калиной в плетеном кресле и глядя стекленеющими глазами на поле, рощу и сизый лес. О чем думаешь в эту пору? Да, собственно, ни о чем.
Около пяти часов пополудни иду рыбачить. Прилаживаюсь на берегу возле мостков, подстелив под себя старый ватник, насаживаю на крючок жирного червяка, закидываю удочку и вдруг вижу: у противоположного берега, среди кустов тальника, сидит в надувной лодке и тоже удит бригадир Потапов из колхоза "Передовик". Спрашиваю из вежливости:
- Как дела?
- Как сажа бела,- отвечает мне бригадир.- Вчера последний комбайн сгорел.
- Отчего же он сгорел?
- А ни от чего! Стоял-стоял, а потом сгорел.
- Вот я и говорю: вся наша жизнь состоит из тайн. Вернее, из вопросов, на которые нет ответов. Ну со времен Салтыкова-Щедрина вопросы есть, а ответов нет. Кстати, вот тебе цитата из этого автора: "Везде мальчики в штанах, а у нас без штанов; везде изобилие, а у нас - "не белы снеги"; везде резон, а у
нас - фюить!"
- Ну, положим, у иностранцев тоже бывают проколы на ровном месте. Вот мне дед рассказывал, будто еще при царе арендовали землю у здешнего помещика Безобразова два англичанина - Том и Боб. И задумали они ввести в хозяйстве сенопрессовальную машину, чтобы, значит, прессовать сено и продавать. Только умылись наши англичане, потому что мужики стали совать в машину разные посторонние предметы для веса, например подковы и кирпичи. Если сено на возу, то в нем всегда различишь лишнюю вещь, а если оно спрессован
но - то ни в жизнь. В результате наше сено получило такую славу, что его никто даже спьяну не покупал. Ну и умылись наши англичане, не солоно хлебавши убрались новаторы - Том и Боб...
После мы с бригадиром долго молчали, уставясь на поплавки. Вот опять же тайна: не клевало, хотя день был подходящий и время для ужения в самый раз.
Жил-был в прошлом веке такой Константин Фофанов - горький пьяница и поэт. Незадолго до этого выдалась годовщина его рождения, и мы, хотя и с некоторым опозданием, решили отметить юбилей, собравшись у Думанянов в деревне Новой. Деревенька эта, всего-навсего в пять дворов, отстоит от нас в полутора километрах; дорога туда какая-то лирически-задумчивая, сначала идет полем, потом сосновой рощей высоко по-над речкой, затем открывается про
странственная поляна, и тут увидятся на пригорке эти самые пять дворов.
В светлых брюках, в темном клубном пиджаке, при игривом галстуке и с бутылкой русского столового вина No 21 под мышкой выхожу за калитку и беру курс на деревню Новую.
Задумавшись, даже не заметил, как миновал поле, которое простирается так далеко на запад, что смешанный лес, обнимающий его серповидно, похож на приближающуюся грозу. Дальше дорога берет правее и вводит под своды сосновой рощи, где господствуют песок, бугорчатые корни, о которые спотыкаешься почем зря, запахи навоза, смолы и хвои. Вот уже и роща вся вышла, открылась покатая поляна, аккуратно подъеденная коровами, только там и сям торчат мрачные лопухи. Если взобраться повыше, увидишь пасмурного цвета Волгу, скучные деревеньки на том берегу и сельский погост, который почти ежегодно заливает осенью и весной. Невольно придет на мысль: счастье в техническом отношении это просто, то есть смотри себе и смотри.
Тем временем все наши уже сидят на веранде у Думанянов; самовар пышет жаром и как будто светится изнутри, на столе горит свеча, ветви яблонь лезут со всех сторон, точно норовят присоединиться к компании, а наши сидят в кружок и говорят, говорят, по обыкновению перескакивая с одного на другое и несколько горячась...
- Если бы Фофанов в рот не брал хмельного, мы бы еще посмотрели, кто Фофанов, а кто Блок!
- Так ведь и Блок пил горькую, еще как!
- Ничего удивительного! Если ты настоящий русский художник, то ты по определению пьяница, потому что конструктивно воспринимать нашу действительность можно, только хорошенько залив глаза! Это так же верно, как ноль минус четыре будет опять же ноль.
- Что ноль минус четыре будет ноль, это еще понять можно, а вот как из Кирово-Чепецка можно позвонить в Женеву - это понять нельзя.
Воздух еще светел, но как-то загустел, запад окрасился в кардинальские цвета, именно в лиловое с малиновым, видимо, завтра занепогодит. Отчетливо виден полусгнивший сарай неизвестного назначения, стайка берез, обглоданных буренками примерно до половины, коровник с провалившейся крышей и фрагмент металлической винтовой лестницы, который неведомо как попал в нашу тверскую глушь. Нет, Россия - точно больное дитя в семье народов, но оттого-то ее и любишь так, как уже ничего не любишь, до смятения и тоски.