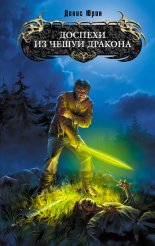Сладкий привкус яда Дышев Андрей
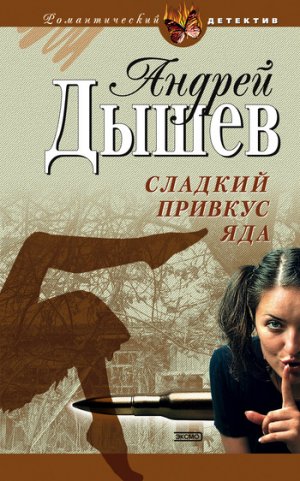
Глава первая
Гроза в феврале
Все началось с того морозного февральского вечера, когда внезапно улеглась вьюга, молочная поземка покрыла сугробы россыпью ледяной пыли, и на парк опустились фиолетовые сумерки со звеняще колким звездным небом.
Был поздний час. Я провожал Родиона по кипарисовой аллее парка, соединяющей хозяйский белоколонный дом с особняком Родиона, стоящим в глубине парка недалеко от пруда. Мы говорили о предстоящей поездке в Гималаи, где на двухкилометровой стене Ледовой Плахи должны были отснять первые кадры нашего фильма. Родион по обыкновению, по стойкой привычке шел чуть впереди меня, глядя по сторонам несколько рассеянным взглядом, каким любуется природой политик, думая о власти. Я был не только его компаньоном и вторым номером в альпинистской связке. Я был еще и другом, но Родион не думал о таких глупостях, как этикет, с легкостью перебивая меня и часто показывая свою спину. Но я не обижался на него. Единственный сын богатого художника, потомственного князя, мыслил категориями наделенного властью денег человека, и я понимал, что иначе он уже просто не может.
Я говорил о том, что в московском магазине „Альпинос“ заказал четыре бухты по пятьдесят метров костромского репшнура[1], изготовленного по швейцарской технологии, но Родион вдруг остановился, повернулся и посмотрел на меня рассеянным, как хвост кометы, взглядом. Наверное, сейчас он видел освещенную мощным солнцем заснеженную вершину Ледовой Плахи, издали напоминающую египетскую пирамиду, вымазанную в безе.
– Четыре бухты мало, заказывай шесть, – сказал он и протянул мне руку. – Будь здоров!
И к этой манере стремительного и неожиданного прощания я успел привыкнуть. Молча пожал Родиону руку, а затем еще несколько мгновений провожал взглядом его рослую и несколько сутулую фигуру.
Я повернулся и пошел обратно. Уже после возвращения из Непала князь предоставил в мое распоряжение уютную мансардную комнату в особняке Родиона. Но тогда, в феврале, я еще жил в центре Арапова Поля, где снимал у пенсионерки комнату.
До главных ворот усадьбы, где круглосуточно дежурила охрана, мне надо было пройти не меньше километра, но не успел я сделать и пяти шагов, как услышал за своей спиной щелчок выстрела.
Мне показалось, что мое сердце остановилось, и все внутренности превратились в ломкий лед. Ожидание тупого удара в спину или в затылок было столь сильным, что я отчасти внушил себе боль; мне запомнилось, что я, страдая от этой фантомной боли, скрипел зубами и не мог понять, почему не падаю, почему не гаснет сознание.
Все было, как во сне, где движения тягуче-медленные. Я повернулся, глядя на темную аллею, в конце которой, на снегу, ничком лежал Родион. Кажется, я что-то крикнул и кинулся к нему. В темной норковой шубе он напоминал убитого медведя, но больше всего меня поразило, что в такой беспомощной, нелепой позе у моих ног лежит сильный и властный человек, крепче которого, казалось, стоять на земле не может никто.
Я рухнул перед ним на колени, схватил за плечи и попытался поднять тяжелое тело, чтобы не видеть его брошенным на снег. Но Родион вдруг зашевелился, приподнялся и сел, тряся головой. Если бы он тогда рассмеялся и признался, что разыграл меня, я бы безоговорочно перестал верить в то, что слышал выстрел, и принял бы его за плод собственной фантазии. Но даже в плотных сумерках было заметно, как Родион напуган. Лицо его было настолько бледным, что можно было подумать, будто оно припорошено снежной мукой.
– Что это? – спросил он, до боли впиваясь пальцами мне в плечо. Он смотрел в ту сторону, откуда я только что прибежал. – В меня стреляли?
Я тряс его за плечи. Мне важно было узнать другое.
– Ты ранен? – хриплым голосом спрашивал я. – Все цело?
– Да откуда я знаю?! – раздраженно ответил Родион и оперся о мое плечо. – Ну-ка, помоги встать!
Помню, какой ужас наполнил мою душу, когда мы быстро возвращались по аллее, и я уловил едва ощутимый запах пороховой гари – совсем рядом от того места, где я услышал выстрел. И я видел, как Родион, привыкший играться со смертью в горах, вдруг сник и лицо его приняло выражение покорной обреченности.
Мы вломились в кабинет его отца, и Родион, не говоря ни слова, тотчас принялся стаскивать с себя шубу, расправил ее, нашел в складках две маленькие, с палец, дырки, затем швырнул шубу на пол и тяжело сел на диван. Низкорослый, седой, тщедушный, не по годам подвижный князь Орлов, кажется, все понял без слов, схватился за колокольчик, но в коридоре уже гремели ботинками охранники. Потом кабинет стал наполняться служащими и эмоциями. Родион пил водку и отвечал на вопросы начальника охраны односложно и без охоты. Зачем-то зашла глухонемая садовница, одетая в телогрейку, повязанная платком. Мне запомнились ее глаза: сколько в них было бессловесного ужаса! Родион при ней немного ожил, встал с дивана, взял женщину за плечи и громко, артикулируя, сказал:
– Все хорошо! Хорошо! Иди домой!
Потом начальник охраны вернулся – возбужденный от настоящей работы, в которой он был дока, с блестящими живыми глазами, и положил на стол князя полиэтиленовый пакетик с обугленной гильзой для охотничьего гладкоствольного ружья. Родион заставил меня взять в руки рюмку с водкой. Начальник вполголоса докладывал князю про найденные следы, поглядывал на мои ноги, а я пил водку, как нарзан, и не мог оторвать взгляда от ледниково голубых глаз старика.
– Будьте добры, дайте мне ваш ботинок, – попросил начальник охраны, и эта просьба мне показалась просто дикой – фальшивый, чужой нотный ряд в стройной партитуре. Ботинок? Зачем ботинок? При чем здесь мой ботинок?
Он вышел. Я прятал разутую ногу под столом и чувствовал себя голым. Потом обратил внимание, что не могу поймать ни одного взгляда – они выскальзывали, как свежие карпы из рук. Начальник охраны снова вернулся, но уже другим человеком. От него тянуло свежим морозом. Он был подчеркнуто вежлив со мной и даже слегка присел, кладя мой ботинок на пол, а я смотрел на темно-коричневую, с низким каблуком „саламандру“ и на комочки налипшего к подошве снега, которые медленно таяли, превращаясь в темные лужицы. Начальник охраны молча кивнул князю, и всеобщее молчание стало невыносимым, как самая обидная клевета, самое низкое оскорбление, и мне казалось, что голова моя от этого молчания разорвется, словно граната.
Никто никаких претензий мне не высказал, но я чувствовал себя в тот вечер очень, очень гадко, и те удивительные флюиды, которые делали нас с князем едва ли не родными людьми, растаяли, как снежные комки.
Уголовное дело милиция возбуждать отказалась, сославшись на отсутствие состава преступления. Какой-то умник объяснял нам, что грозы в феврале – не такое уж редкое явление, и гром вполне можно было принять за выстрел. А что касается дырок в шубе, то они, дескать, имеют „ярко выраженную проеденную молью природу“. Родион смеялся до слез. Старый князь в сердцах швырнул на пол чернильницу.
Я хорошо представлял, какие чувства испытал старик, едва не потеряв единственного сына. Это была пощечина его чувствам, его безоглядной любви к той земле, о которой столько лет думал и мечтал в эмиграции, где его представления об Арапове Поле, как у всякого влюбленного, были наивны и светлы.
Сказать, что он стал жесток? Или обезумел? Перестал вдруг верить сразу и всем? Не знаю, судите сами… Не важно, сам ли князь придумал дьявольский розыгрыш для первого апреля, или ему кто-то подсказал идею Игры, но как бы то ни было, тяжесть ее для меня оказалась намного большей, чем вес штурмового рюкзака, набитого кислородными баллонами и страховочным „железом“.
– Что будем делать? – спросил он, вызвав к себе меня и Родиона через несколько дней после происшествия. – Устраивать супрядки, пока из нас поочередно яшку не сварят? Я же чувствую: этот выстрел – только начало!
Я думал, что вопрос его риторический, что старику просто хочется выговориться, излить душу, но ошибся. Князь молча ждал от нас ответа.
– Стрелял кто-то из наших, – уверенно сказал Родион. – Я спрашивал у охраны.
– Спрашивал у охраны! – горько усмехнулся князь. – Никогда не знаешь, чего от этой охраны можно ждать… Что предлагаешь?
– Уволить всех к чертовой матери, если доверия к ним нет.
В усадьбе у князя служило человек двадцать пять или тридцать. Уволить, конечно, их можно было. Но где потом набрать новый персонал? В спившемся Араповом Поле?
Я предложил другой путь:
– Пусть каждый наш работник подробно напишет, где и с кем был в тот вечер. Потом проверить показания, проверить свидетелей, которые будут подтверждать их алиби…
Князь поморщился и махнул на меня рукой.
– Кто этой ерундой будет заниматься?
– Могу я, – ответил я.
– У тебя со строительством грота полный завал! Нет, не то! Что больше думать, то хуже… Поступим иначе. Разыграем спектакль, чтобы вся тварь, которая рядом с нами прячется, сразу свою харю показала. Когда вы летите в Непал?
Повторяю, тогда я еще не знал, сам ли князь придумал этот чудовищный розыгрыш, или ему кто-то подсказал идею. Но когда Орлов изложил нам весь план, я думал не о цинизме и риске, а о том, что старик опять доверяет мне как прежде, и радость от осознания этого вытеснила все сомнения. Я безоговорочно принял условия Игры.
По замыслу князя мы должны будем взять с собой в Непал ноутбук с записанной на нем программой пластических вмешательств в лицо человека и „липовый“ договор с бангкокским центром репродукции человека, в котором указать мою фамилию в качестве заказчика пластической операции. Оставив все это на видном месте в базовом лагере, мы в одной связке, без носильщиков, начнем восхождение на Ледовую Плаху. На достаточно большой высоте, куда никогда не сможет подняться профессиональный криминалист и разгадать нашу аферу, мы должны будем сымитировать убийство Родиона: оставить альпинистскую веревку с четким следом среза, высотный ботинок с личным вензелем Родиона и прочие предметы, которые любого альпиниста обязательно наведут на мысль о преднамеренном, преступном нарушении правил страховки.
Затем мы с Родионом перевалим через седловину и спустимся в какую-нибудь забытую Богом непальскую деревушку. Там я должен буду остаться и просидеть тихо, как мышь, пару недель, а Родион вернется в Арапово Поле. Но вернется не в роли Родиона, а в роли преступника, изменившего внешность и ставшего очень похожим на Родиона.
Словом, весь фокус заключался в том, чтобы слухи об убийстве в горах единственного наследника миллионера дополнились версией о пластической операции: Стас Ворохтин, напарник и убийца Родиона, в Бангкоке сделал себе пластическую операцию и принял облик убитого им наследника князя. Превратившись в копию Родиона, он приезжает в Арапово Поле, в усадьбу. Все сотрудники усадьбы будут заранее нашпигованные слухами о чудовищном обмане. И тут, по замыслу князя, и проявятся их истинные лица и истинные помыслы. Тот, кто честен, наверняка откажется работать с „самозванцем“ и потребует вмешательства прокуратуры. А негодяй, стрелявший в Родиона (князь был уверен, что это один человек, от силы – два), раскроется перед „самозванцем“, попытается вступить с ним в преступный сговор, чтобы получить свою долю от наследства. По правилу: рыбак рыбака видит издалека.
Излагая свой план, князь не смог скрыть восторга от предвкушения того, как сильно будет шокирован этот негодяй в день первого апреля, когда Игра будет закончена, князь объявит всем о розыгрыше, и Родион принесет извинения за столь жестокий экзамен на верность.
Мне, точнее, моему имени, выпадала не лучшая роль. Имя Стаса Ворохтина на целых две недели отдавалось на растерзание и поругание работникам усадьбы. Но меня утешало то, что эта жертва преследует благую цель, и я не стал возражать князю, когда он спросил моего мнения относительно Игры.
Родион тоже не нашел никаких веских аргументов против розыгрыша. Он по своей природе был авантюристом, и с удовольствием шел на рискованные трюки.
Если бы тогда мы знали, чем обернется Игра! Но охваченные азартом, мы не думали о последствиях. Мы чувствовали себя всего лишь ловкими и изобретательными весельчаками, которые взялись крупно одурачить собственный коллектив.
Через две недели мы с Родионом улетели в Непал.
Когда в ноутбук Родиона уже были занесены файлы с моими портретами для программы „Building of a face“, подготовлен „договор“ с центром репродукции на предстоящую операцию Стаса Ворохтина по изменению внешности, Родион вдруг все переиграл. В те дни мы жили в Катманду, в гостинице „Эверест“, и не могли закрыть все свои дела из-за того, что возникли проблемы в министерстве по туризму: нас не хотели пропускать в национальный парк, где находилась Ледовая Плаха. Плюс к этому, мы опоздали в министерство связи, где должны были получить разрешение на пользование радиостанциями. Мы всюду опаздывали, нам всюду не везло. И в довершение всего Родион вдруг начал перекраивать сценарий.
– Знакомься: Никифор Столешко! – объявил Родион, появившись в нашем номере с высоким рыжеволосым мужчиной, коричневый загар на лице которого безошибочно выдавал в нем альпиниста. – Мастер спорта международного класса, „снежный барс“, покоритель двух…
– Трех, – вежливо поправил незнакомец и скромно опустил глаза.
– … трех восьмитысячников! Он будет работать вместо тебя.
Не могу сказать, что я был в шоке, но столь решительный поступок Родиона меня озадачил. Я не мог понять, что за вожжа попала ему под хвост, почему ни с того ни с сего он решил вывести меня из Игры и посвятить в наши тайные планы постороннего человека?
Впрочем, дальнейший разговор все поставил на свои места. Родион усадил Столешко за стол и налил ему водки. Я искоса рассматривал безбровое, лобастое лицо альпиниста, его тонкие губы, мелко вьющиеся волосы, которые не нуждались ни в расческе, ни в укладке и не боялись никакого ветра. Сказать, что в первую минуту он мне понравился, значит, сказать неправду, но ничего отталкивающего в облике альпиниста я не нашел. Живет в Донецке, трое детей, в составе сборной Украины участвовал во многих восхождениях шестой, высшей категории сложности. Не скрывает, что испытывает острую нужду в деньгах, потому как сдуру занялся бизнесом и однажды неудачно вложил солидную сумму в поддельный товар.
– Я заплачу тебе двадцать тысяч долларов за восхождение на Плаху! – сказал Родион и барским жестом опустил свою руку на плечо Столешко. – Устраивает?
– Конечно, – дрогнувшим голосом произнес Столешко и потянулся за бокалом с водкой.
– Тебе надо будет подняться со мной до высоты семи тысяч двести метров, преодолеть седловину и спуститься в деревню Хэдлок.
– Не слышал о такой…
Родион взмахом руки прервал Столешко, словно хотел сказать: не заостряй внимание на второстепенных деталях.
– Там мы с тобой расстанемся. Я окольными путями вернусь в Катманду и вылечу в Москву. А ты должен сидеть в Хэдлоке и две недели носа оттуда не показывать.
На этом можно было бы закончить постановку Столешко задачи, но Родиона прорвало, и он начал подробно рассказывать о нашем плане, не забыв упомянуть о своем знаменитом отце, о выстреле, о бессилии милиции. Я наступал Родиону на ногу, но он не реагировал. Столешко, казалось, слушал невнимательно, но все время кивал головой.
– То есть, – подытожил Родион, – по легенде ты сбросишь меня в пропасть, завладеешь моими документами, переправишься в Таиланд и там изменишь свою внешность. Станешь моей копией. Понятно?
– Не совсем, – ответил Столешко. – Вы хотите, чтобы в эту легенду поверили в России?
– Совершенно верно!
– А кто и как будет ее там распространять?
– А вот это уже головная боль моего друга Стаса Ворохтина! – ответил Родион. – Он у нас будет главным провокатором. Он должен будет убедить и полицию Непала, и наши органы в том, что гражданин Столешко в корыстных целях убил гражданина Орлова и взял себе его внешность.
– Не совсем приятная роль, – с сомнением произнес Столешко, отщипывая кусочек сыра.
– А большие деньги, мой друг, не всегда легко достаются, – заверил Родион.
– А как потом я докажу, что никого не убивал?
Родион всплеснул руками.
– Вот чудак! Зачем тебе надо будет что-то доказывать, когда ты вылезешь из Хэдлока и появишься в Катманду? Скажешь: я Никифор Столешко, „снежный барс“, покоритель двух…
– Трех.
… трех восьмитысячников. Засветишь свое красивое и честное лицо перед телекамерами. В ответ на это наша доблестная милиция спросит меня: а вы кто, в таком случае? И я отвечу в том же духе: Родион Орлов, бывший эмигрант, сын художника Святослава Орлова…
Я уже не просто наступал Родиону на ногу. Я бил по ней каблуком. Орлов же наваливался на свою цель танком, и всякая мелочь, отвлекающая его от работы или стоящая на его пути, выводила его из себя. Он не выдержал:
– Да что же ты с моей ногой делаешь?!
– Выйдем, поговорим, – процедил я и схватил Родиона за рукав.
Очутившись в коридоре, я бесцеремонно взял его за ворот свитера.
– Ты что творишь? – зашипел я.
– Цыть! – прикрикнул на меня Родион. – Ты зачем дергаешься, чудила? Тебе охота, чтобы твоя имя склоняли во все стороны? Пусть этот парень перед миром позорится, ему деньги нужны!
Видя, что я не нашел, чем возразить, он добавил:
– Пойми же ты! Стоит только один раз попасть в прессу и телевидение с клеймом „преступник“, так потом за всю жизнь от него не отмоешься! Тебе это надо? Нам с тобой еще не один фильм снимать, потому о чистоте имени стоит позаботиться. А спортивной карьере этого парня каюк! От него, как от прокаженного, теперь все отмахиваться будут.
Вроде бы, он меня убедил. Теперь я становился главным провокатором, как с легкостью окрестил меня Родион. После того, как Родион и Столешко уйдут через седловину Плахи в деревню Хэдлок, я должен буду подняться с одним или двумя свидетелями на место „преступления“, найти оставленные там „улики“ и растрезвонить об убийстве Родиона по всему Непалу, а потом и по Арапову Полю. И уже после этого в усадьбе появится Родион. Представляю, сколько шишек посыпется на его несчастную голову!
В этот же день мы сочинили письмо, которое Столешко якобы написал Родиону с просьбой взять его в нашу связку в качестве высотного носильщика. При помощи „полароида“ я сделал несколько портретов Столешко, сканировал их и записал файлы на чистую дискету. Потом переделал „договор“, вписав в него фамилию Столешко.
Кажется, мы предусмотрели все. Столешко потребовал у Родиона всю обещанную сумму сразу и наличными. Когда он пересчитывал купюры, раскладывая их аккуратными стопками на столе, я подумал, что честное и незапятнанное имя тоже стало товаром.
Седьмого марта вертолетом ВВС Непала мы втроем вылетели к подножию Ледовой Плахи, где расположился базовый лагерь американской экспедиции Креспи.
Игра началась.
Глава вторая
Двадцать две тысячи футов над уровнем моря
Я оглянулся, еще медленно подтягивая к себе веревку, но Бадура не увидел – портер[2] скрывался за перегибом карниза. Я висел над пропастью, почти упираясь темечком в ледяной язык натечного льда. Свободной веревки осталось пять метров. Этого было мало для того, чтобы я мог добраться до небольшой скальной полочки, где можно было бы без риска забить крюк. А здесь, в окружении линз льда, один удар молотка мог обрушить на голову шерпы[3] многотонную сосульку.
Ветер крепчал с каждой минутой. Все вокруг затянуло серой мглой. Порывы ветра швыряли в лицо колкий снежный песок. Время от времени исполинское тело горы начинало мелко дрожать, словно где-то вверху проносился тяжелый железнодорожный состав – не выдерживая тяжести выпавшего снега, с крутых склонов одна за другой срывались лавины.
– Почему застряли, сэр?! – по-английски орал снизу портер.
Я держался на стене из последних сил. Рука в перчатке шарила в поисках хоть какой-нибудь полочки, на которую можно было бы ухватиться. Зубья титановых кошек под моей тяжестью крошили лед, белая крошка сыпалась в бездну. Я часто дышал, в голове грохотал колокол, пульсировала в висках кровь. Серое, отдающее холодом тело стены, стояло перед моими глазами. Я прижался к нему всем телом, различая мельчайшие пупырышки и сколы; камень был земным и казался обыкновенным, но эта стена меня не принимала, она будто отвернулась от меня, не желая видеть мое искаженное напряжением лицо и слышать крик, сдавленный зубами. Спасти мог только ледоруб. Я приподнял его, выискивая место, куда можно было вы вогнать отточенный с зазубринами клюв, но снова подавил в себе желание шарахнуть по ледовому языку.
– Сэр! Бадур хочет идти вниз! – донесся до меня голос портера. Интонация была интересной – в ней наполовину угадывался вопрос, наполовину – каприз. Он словно давал мне понять, что пока еще спрашивает моего разрешения, но очень скоро просто объявит мне о своем решении.
У меня не было сил подыскивать в уме ругательства, и в ответ я лишь дернул веревку. Потом прислонился лбом к стене и мысленно сказал ей: "Что ж ты делаешь со мной, гадина?" Клюв ледоруба несильно тюкнулся о камень, высекая искру. Черные круглые очки припорошило снегом, и я почти ослеп. Поднял руку еще выше, снова опустил клюв на камень и провел им сверху вниз. Не вовремя загудел зуммер радиостанции. Меня вызывал базовый лагерь. Руки держали на себе мою жизнь, и я не мог даже протереть стекла очков, не то что вынуть из чехла радиостанцию.
Ледоруб сам нашел полочку и зацепился за нее краем клюва. Она была столь ничтожна, что ее по размерам можно было сравнивать с прыщом на лице подростка, и все же ледоруб крепко насел на нее, и я постепенно перенес на него вес тела.
Теперь я мог перевести дыхание и оглядеться. Подо мной разбухал, раздувался, будто в гигантском котле, белый пар, кажущийся плотным, как ватные комки. Он, преследуя нас, постепенно взбирался по стене, обросшим огрызками скал, словно шипами. Еще полчаса, от силы сорок минут – и облако поглотит нас, лишив возможности ориентироваться.
Я снова задрал голову, подтянулся на ледорубе, царапая кошками стену, и чудом сумел ухватиться за свободный ото льда карниз. Потом произвел какой-то немыслимый акробатический трюк и закинул на карниз ногу.
– Гора слушает! – хрипло произнес я в микрофон, сорвав с лица кислородную маску.
– Где вы опять застряли, сэр? – вопил под карнизом Бадур.
Я лежал на узком карнизе, одной рукой сжимая радиостанцию, а второй ввинчивая ледовый крюк в гигантскую линзу.
– Гора! Ответьте Базе! – запищала радиостанция слабым голосом.
– Уже ответил! Кто говорит?
Крюк ввинчивался с трудом. На каждом обороте ледяная глыба издавала оглушительный треск. Трещина тонкой лентой разделила ее надвое и стала напоминать белый шелковый шарф, вмерзший в лед. Радиостанция представилась женским голосом:
– Дежурный радист.
– Гималайский аферист! – не сдержался я, узнав Татьяну Прокину, эту странную девушку, появившуюся в лагере буквально за день до выхода Родиона на гору. – Представляться надо! Дай микрофон Креспи!
– Не хами, – почти по-родственному посоветовала Прокина.
От моего дыхания решетка микрофона покрылась инеем, который студил губы. Я затянул крюк до упора и навесил на него карабин с оттяжкой, намертво пристегивая себя к ледяной глыбе.
– Стас, где вы? – сухо покашливая, спросил Креспи.
– Двадцать тысяч футов, – не задумываясь ответил я. – До третьего лагеря не больше часа ходу, но видимость нулевая, ветер срывает со стены… Послушайте, Креспи, посадите у станции вместо Татьяны самого тупого шерпу, мне с ним легче будет изъясняться!
Я забыл, что радиостанция в базовом лагере оснащена громкоговорителем.
– Все будет о`кей, – ответил Креспи нейтрально, чтобы не обидеть ни меня, ни Татьяну, наверняка стоящую рядом с ним. – Почему вы не идете на жумарах?[4]
– Потому что веревок нет! – ответил я, переворачиваясь на другой бок и глядя с карниза вниз. – Здесь стена чистая, будто никто до нас ее не проходил!
Некоторое время радиостанция ловила только шум помех. Я представлял, каким недоуменным взглядом смотрит Креспи на Татьяну, а у той взгляд еще более недоуменный, если не сказать глупый, потому что она не понимает и в принципе не может понять сути проблемы.
– Зачем же они сняли веревки? – прохрипел Креспи.
– Не знаю! У меня нет времени думать об этом! Будем идти выше, к лагерю, чего бы нам это ни стоило. Наши запасы кислорода на нуле. Бадур уронил вниз свой рюкзак. Улетели альтиметр<$FПрибор для определения высоты над уровнем моря.> и еда.
– А как же вы определили высоту? – удивился Креспи, нарываясь на стандартную альпинистскую шутку.
– На глаз! – заорал я, отключая радиостанцию.
Бадур поднимался медленно и тяжело. Капюшон почти полностью закрывал его лицо, и сверху казалось, что на веревке болтается пуховик, словно на вещевом рынке. Движения шерпы были заторможенны, будто он работал под водой. Он загонял передние зубья кошек в лед слабыми ударами без замаха, медленно разгибал колени, медленно передвигал жумар по веревке и вновь подтягивал ногу, как некий тяжелый и малополезный предмет. Я ему хорошо заплатил за этот труд, он нужен был мне в качестве свидетеля, но на горе ценности меняются очень быстро и радикально. Деньги здесь превращались в совершенно бесполезную субстанцию, они даже не горели из-за низкого содержания кислорода в воздухе.
Я начал затаскивать портера на карниз, и он расслабился совсем, превратившись в тяжелый мешок. Я хрипел и орал от напряжения, а он едва шевелился.
– Сэр, Бадур очень устал, – тихо бормотал портер. И что это за привычка говорить о себе в третьем лице? – Дышать трудно…
Я прислонил его спиной к стене, провел перчаткой по его заснеженным очкам и, делая страшный голос, чтобы напугать больше, чем гора, ветер и снегопад вместе взятые, зашипел:
– Ты что ж, паук безлапый, нарочно рюкзак сбросил?! И кислород свой сбросил?! Я же тебя, Санта Клаус копченый, сейчас вниз спущу по самому короткому пути!
Я схватил его за ворот и изо всех сил тряхнул. Бадур крутил головой, кашлял и слабо сопротивлялся.
– Сэр, я замерзаю… – бормотал он. – Ноги прихватило… Не могу…
– Надо идти! – злобно кричал я, растирая рукавицами коричневые щеки шерпы. – Здесь ты подохнешь! А там, наверху, палатка, горячий кофе, кислород… Вставай!
Пока я проводил воспитательный урок, нас изрядно присыпало снегом. Видимость сократилась настолько, что скальные выступы и нависающие глыбы льда можно было различить только в радиусе пяти метров, все остальное было поглощено белой мглой.
Бадур притих. Снег сыпался на его коричневое лицо и не таял. Над полураскрытыми губами едва струился пар. Я скинул с себя рюкзак и вытащил оттуда свой запасной кислородный баллон. Я лишал себя самого главного, что на высоте поддерживало жизнь, но другого способа заставить портера продолжать подъем не было.
Я прижал к его губам и носу маску и поставил кран на максимальную подачу кислорода. Бадур стал жадно дышать. Я мысленно считал в уме секунды.
– Все, пора, – сказал я, поднимаясь на ноги с таким усилием, словно был разбит параличом..
– Бадур не может, – глухим голосом из-под маски отозвался портер. – Прихватило ноги… Ничего не чувствую…
Бессилие и отчаяние хлынули на меня. Я снова схватил портера за пуховик, приподнял его, но тот даже не попытался защититься или встать на ноги, только схватился обеими руками за маску, чтобы я не смог сорвать ее. Я качнулся и привалился к стене. Мой баллон уже истощился. Запасы кислорода и провианта ждали нас в третьем высотном лагере, но у меня не хватило бы сил затащить туда Бадура на себе. К тому же бескислородное восхождение было чревато отмиранием тканями головного мозга. Но я обязан был добраться до лагеря любой ценой.
– Черт с тобой! – крикнул я портеру, вырывая вмерзший в снег ледоруб. – Жди меня здесь! Я принесу тебе еды!
Что мне оставалось делать? Я лишался человека, который подтвердил бы полиции, что видел в третьем высотном лагере обрезок веревки и ботинок Родиона. Но даже добравшись до лагеря, Бадур уже был бы не в состоянии понимать смысл предметов. Собственно, он вполне мог умереть по пути к лагерю. Наш, казалось бы, безукоризненный план, дал первый сбой.
Я придвинул Бадура вплотную к скале, чтобы он ненароком не свалился с карниза в пропасть, снял с себя пуховик, и накрыл его с головой. Бадур с благодарностью замычал из-под пуховика. Я оставил здесь же рюкзак, веревки и все "железо". Ледяной ветер продувал мой свитер, в котором я остался, насквозь, и я начал быстро остывать. Я здорово рисковал, разоружившись перед горой, но меня грела надежда, что сумею подняться до третьего лагеря в быстром альпийском стиле, а там кислородом и едой восстановлю силы.
Стиснув зубы, я карабкался по заснеженному гребню наперекор стихии. Порывисты ветер бил меня в лицо, словно боксер, посылая отрывистые и точные удары. Кошки скрежетали о камень и лед. Каждые три-четыре шага я останавливался, чтобы успокоить дыхание. Кислорода в баллоне уже почти не осталось, и я начал задыхаться. Кратковременный отдых не восстановил сил. Они, словно кровь из раны, уходили из тела независимо от того, стоял я или шел. Я потерял счет времени и не думал уже ни о чем, превратившись в машину, запрограммированную на движение вверх по склону. Перед глазами плыли фрагменты остроугольных камней, обломков льда и снежных дюн. Когда я останавливался, они продолжали плыть, растекаться, растягиваться и сжиматься.
Я крепче натянул на посиневшую от холода руку перчатку и сделал шаг, потом второй, третий… Весь смысл этого подъема заключался в том, чтобы портер был со мной рядом. Он обязательно должен был дойти до палатки третьего высотного… Как тяжело! Как противится, сопротивляется организм этим космическим условиям. Топтать ступени на запредельной высоте – это стремительное старение. И все ради чего? Для одних – спортивный азарт, для Орлова – Игра, тест. Нечто лабораторное, что-то вроде центрифуги, в которой гоняют мочу…
Я вспомнил, как Родион предложил мне возглавить строительные работы в его усадьбе на окраине Арапова Поля в Тверской области, на живописном берегу Двины. Я даже приблизительно не мог сказать, сколько это стоило – двадцать четыре гектара земли с парком, прудом, беседками, хозяйским домом, библиотекой, гротом, летним театром, конюшнями, псарней, домиками прислуг… А отец Родиона тем временем восстанавливал церкви в близлежащих деревнях, строил церковно-приходские школы и открывал личные картинные галереи. Обнищавшие провинциалы смотрели на потомственного князя, как на тронувшегося умом мессию, от которого пользы как от иконы, висящей в углу избы – вроде всесилен, а денег не выпросишь. Нам вообще не дано понять русских эмигрантов с их гипертрофированным определением истинной ценности…
Моя нога сорвалась с зеркала – тончайшего натечного льда, залившего все зацепки на стене, но я даже не успел испугаться. Когда из-за гипоксии притупляется интеллект, страх тоже становится каким-то мягким и тянущимся, словно жвачка, на которую нечаянно садишься в метро. Несколько метров я летел вниз, потом упал в сугроб лицом вниз, и все вокруг потемнело.
Некоторое время я лежал неподвижно, ожидая продолжения полета в сольном исполнении или вместе с лавиной, а когда понял, что силы гравитации отказываются работать на меня, приподнял голову, сдвинул залепленные снегом очки на лоб и сразу увидел чуть правее и выше распластанную по полочке красную палатку, похожую на большую спящую черепаху.
Это был третий высотный лагерь. Вчера утром Родион вместе со Столешко вышли отсюда на седловину и час спустя перестали отвечать на позывные базы. Больше суток о судьбе двух альпинистов в базовом лагере никто ничего не знал. Конечно, кроме меня.
Глава третья
Красная палатка
Я не стал тратиться на то, чтобы подняться на ноги, и пополз к палатке на четвереньках, как уставший от пастбища баран в свою овчарню. Я разгребал перед собой снег и дрожал от холода, предвкушая чашку горячего кофе со сливками и медом, тепло газовой горелки, представлял, как насытившись и согревшись, надену на обмороженный фейс маску и стану дышать чистым кислородом, и мозги мои просветлеют, очистятся от галлюцинаций и панических мыслей.
Добравшись до полочки, я настолько изнемог, что ничком повалился на красный тент палатки и лежал так довольно долго, мысленно играя две роли, одна из которых приказывала немедленно подняться, а другая просила оставить в покое еще на пару минут.
Родион и Столешко вытащили концы распорок, чтобы палатка распласталась и стала менее подвластна ветру. Я совершал подвиг, загоняя распорки в свои гнезда и придавая "Сьерре" форму купола. Когда, наконец, палатка налилась объемом, я издал хриплый вопль победителя и ввалился через рукав-тамбур внутрь.
Пятизвездочный отель на берегу лазурного моря не ввел бы меня в такой экстаз, как это хлипкое, раскачивающееся из стороны в сторону жилище – единственное место на горе, защищенное от ветра и способное хранить тепло. Я стоял на четвереньках на клеенчатом полу и понимал, что человеческое счастье на самом деле заключается в отсутствии снега и льда вокруг себя, а все остальное – мелкие прибавки. Мои глаза еще не привыкли к сумеречному фону, которым было наполнено внутреннее пространство, я еще видел перед собой зеленых медуз, но уже слепо шарил руками по бугристому полу, отыскивая газовую горелку, пакеты с порошковым супом, сухофруктами, пластиковые баночки с медом, творожные шарики в шоколаде… Заледенелые перчатки со свистом скользили по полу, но не встречали препятствий. Я двигался по кругу и движения мои становились все более торопливыми. Наконец, я замер, стоя на коленях, и почти с ужасом посмотрел вокруг себя.
Палатка была пуста. В ней не было ни баллонов с кислородом, ни газовой горелки, ни продуктов, ни спальных мешков. Через рваную дыру в потолке, которую я только сейчас заметил, внутрь сыпался снег.
Я принялся обыскивать карманы, нашитые на боковые перегородки. Выворачивая их, я кидал на пол отработанные аккумуляторы, пустые газовые баллончики, обрывки бумаги. Лишь только в тамбурном отсеке, отделенном от жилой зоны, я нашел наполовину исписанную тетрадь и обернутую в полиэтилен дискету, на которую несколько дней назад записал файлы с портретами Столешко и Родиона.
От палатки тянуло сырым могильным холодом. Я полз сюда из последних сил, надеясь влить свежую жизненную струю в свой слабеющий организм, но надежда оказалась обманутой. Что произошло здесь сутки назад? Какая причина заставила Родиона и Столешко вынести неприкосновенный запас, который пополнялся здесь усилиями нескольких связок восходителей? Разве они не знали, что для нас с портером кислород и провиант станут вопросом жизни и смерти?
Мне хотелось плакать от отчаяния и боли, но не было сил выдавить из себя слезу. Затолкав тетрадь и дискету под свитер, я вылез из палатки через дыру и снял ее с себя, словно широкую юбку.
Надежду я похоронил под палаткой, куда на всякий случай заглянул, да еще и порылся в окружающих сугробах. Нет ничего! Вверху – черные камни, перемежеванные с языками льда и косыми застругами снега, внизу – бездонная пропасть, и все высечено хлестким ледяным ветром, отшлифовано снежной крошкой. Мгла наваливалась на крохотный мирок, доступный моему обозрению, становилась плотнее, и черные краски в ней набирали силу, вытесняя белый свет, словно мою жизнь.
Я сделал несколько шагов по полочке, и в том месте, где ее вылет сходил на нет, плавно срастаясь с отвесной стеной, выкопал из-под снега высотный люминисцентно-салатовый ботинок "Koflach" с выгравированным на носке вензелем Родиона "ОррО".
Спустить ботинок вниз я не смог бы ни за какие деньги. Я закинул его в палатку, выдернул растяжки и засыпал палатку снегом.
– Креспи, – прохрипел я в радиостанцию. – Я спускаюсь.
– Ты где?! – сквозь треск помех долетел голос американца.
– В третьем.
– Ну?! Что?! Где они?
– В палатке никаких следов. Нашел только ботинок Родиона и обрывок веревки.
Креспи понял, что я мысленно похоронил Родиона и Столешко. Он сразу переключился на того, кого еще можно было спасти – таков закон гор.
– Доктор просит, чтобы ты прихватил шприц-тюбик с глюкозой и атропином для Бадура… Слышишь меня?.. И кислород!
– Ну да, здесь целый кислородный склад… Если сможешь, вышли нам навстречу двойку. Я Бадура далеко не унесу. Дай бог самому доползти до него.
– Хорошо, через час выйду на связь!
Что было дальше – я помню смутно. Через час меня привел в сознание сигнал вызова, и я обнаружил себя на карнизе, где оставил Бадура. Портера не было. Я ползал по карнизу, смотрел в пропасть, звал его осипшим голосом, но никто не отзывался. Вместе с Бадуром пропал мой пуховик и рюкзак.
Стемнело. Аккумулятор, питающий лампочку на налобной повязке, быстро истощился. Я уже не чувствовал ни рук, ни ног и с безразличием воспринимал свои страдания. Я не хотел думать о том, что заставило Родиона и Столешко так бесчеловечно поступить со мной. Поджав ноги к животу и закрыв перчатками лицо, я лежал на краю карниза. Я знал, что умираю, но не испытывал ужаса от прощания с жизнью. Истощенному, обессилевшему человеку воспринимать смерть намного легче, чем цветущему и сильному.
Радиостанция смешно пищала мне в ухо, казалось, что внутри нее суетились какие-то говорящие жучки, скребли мохнатыми лапками по мембране и проводам, а я пытался что-то сказать в ответ, но сил хватало только на разбавленный тяжелым дыханием шепот.
– Стас! Ответь мне! Из второго лагеря к тебе вышла двойка! Они скоро подойдут! Держись! Еще немного…
Держаться было не за что, кроме как за свое лицо. Перчатки, которые я прижал ко рту, побелели от конденсата. Холод, захватив ноги и задницу, уже брал штурмом живот, стремясь проникнуть внутрь меня, выстудить желудок, легкие и сердце, остановить их конвульсии, сковать морозом и тем самым подарить мне счастье остаться на горе вечно молодым и нетленным. Это представлялось заманчивым, намного более заманчивым, чем продолжать жить.
Потом, как во сне, я видел в темноте скользящие по камням и льду световые пятна, слышал крики, скрежет кошек. Кто-то переворачивал меня с бока на спину, связывал мне ноги веревкой, протыкал иглой сонную артерию, загоняя в кровь огонь, а потом меня долго-долго тащили в спальном мешке по крутому склону волоком, как покойника, и я временами приходил в чувство, слышал скрип снега и видел у самого лица движение ног в ярких ботинках.
В тесной, но прогретой палатке второго высотного лагеря, когда несколько капель горячего супа пробили себе путь между моих опухших от мороза губ, я сумел выдавить из себя несколько слов благодарности двум американцам, которые стащили меня вниз.
– Нет, шеф, никакого отека легких, дыхание у него чистое! – говорил один из них по радиостанции с базовым лагерем. – Только очень устал и обморозил пальцы на руках. С рассветом начнем спуск. Он что-то бредит про обрезанную веревку, но сейчас с ним разговаривать бессмысленно…
Я увидел, как из темноты на меня надвинулось темное лицо Бадура. Отогревшийся, отдохнувший, он сверкал свинцовыми белками и скреб грязными ногтями по щекам, сдирая кожу, которая из-за солнечных ожогов слезала клочьями.
– Будете жить, сэр! – с поганеньким оптимизмом говорил он, прихлебывая подогретую ракшу. – Вы думаете, что Бадур бросил вас и ушел вниз?.. Ай, напрасно! Я за помощью пошел. Я понял, что вас спасать нужно…
Он коверкал английские слова, перекатывая их во рту вместе с жирной ракшой, и воровато поглядывал на возню у тамбура, где мои спасители отстегивали кошки и стаскивали ботинки.
– Что ж ты пуховик мой на карнизе не оставил, когда понял… – прошептал я.
Мое внимание уплывало вместе со взглядом, и портер, чтобы снова напомнить о себе, тихонько подергал за край моего спальника.
– Очень трудное было восхождение, – тихо шепнул он, склонившись надо мной. – Бадур сильно рисковал жизнью. Надо бы заплатить побольше. Я согласился с вами идти за пятьсот баксов, потому что думал, что погода будет хорошая. А если б знал, что начнется буран… Бадур здоровье на этой горе подорвал. Большая семья в Катманду, шестеро детей…
Силы стоило экономить, но ради такого случая я пустил в ход резервы. Высунув из спальника руку, я не без труда сложил непослушные обмороженные пальцы в кукиш и поднес его к лицу портера.
– Выкуси, а потом сбегай за своим рюкзаком, альпиноид, – прошептал я и снова отключился.
Глава четвертая
Письмоводитель князя
Мораль – самая тяжкая ноша из числа тех, которые мы взваливаем на себя добровольно. Когда я натыкался на грузный от тоски взгляд руководителя экспедиции Гарри Креспи, мораль обрушивалась мне на плечи мокрой лавиной.
Креспи относился к моим доводам, мягко говоря, с плохо скрытым скептицизмом. Мало того, он был уверен, что кислородное голодание и психологическая нагрузка серьезно повредили мой мозг. В то время как я сидел в раскладном кресле, укрытый пуховым спальником, и нервно стучал зубами, Креспи стоял по одну сторону от меня, а экспедиционный врач по другую, и оба с состраданием смотрели на меня.
– И где же эта обрезанная веревка? – мягко спросил руководитель, глядя мне в рот. Мой взгляд был ему неприятен, и чтобы не отводить глаза, он как бы притворился косоглазым. Сосульки на его бороде напоминали хрустальные подвески на люстре, только не звенели, когда начальник дергал головой.
– Там осталась, – ответил я, кивая куда-то наверх. – У меня не было сил вырубить ее изо льда.
– Может быть, вам показалось? – спросил врач, заботливо ровняя край спальника на моей груди. Это был даже не вопрос, а доброжелательное утверждение, нестрашный диагноз, вроде: ты дебил, приятель, но это заурядно – в мире очень много дебилов.
– Не надо, доктор. Не надо, – посоветовал я. – Я все прекрасно помню. Это была оранжевая, с голубой оплеткой семимиллиметровка.
– Да мы не о веревке, а о срезе, – поспешно пояснил Креспи и в доказательство своих слов поднял с пола конец репшнура. – Вот это, например, обрыв или обрез?
– Обрез, – ответил я уверенно, так как репшнур был мой. – Причем годичной давности. Поэтому он обтрепался и теперь похож на обрыв. Но там я видел совершенно свежий срез.
– Ну хорошо! – теряя терпение, произнес Креспи. – Я могу вызвать полицейский вертолет. А что будет, если полиция квалифицирует этот сигнал как ложный вызов? Мне придется оплатить перелет в оба конца.
– Я оплачу. Только не тяни с вызовом, Креспи.
Креспи и врач переглянулись. Руководитель нервничал. Он не хотел неприятных разговоров вокруг экспедиции, спонсором которой была известная итальянская фирма "Треккинг", производящая горное снаряжение. Экспедиция носила рекламный характер, и вызов полиции в базовый лагерь мог повредить делу.
– Ну, что же ты молчишь? – прервал я затянувшуюся паузу.
Руководитель, высохший от возраста и любви к горам, белизну коротких волос которого оттеняло загоревшее до черноты лицо, стащил зубами рукавицу, кивнул врачу головой и что-то неслышно сказал. Решение выходило из него мучительно медленно. Я понял, что он сказал "о`кей", но скорее пока только для себя.
– А о чем говорить? – сглаживая слабоволие Креспи, ответил врач. – Вы пока не убедили нас в необходимости полиции. Мы должны выслушать Бадура.
– Бадур до третьего лагеря не дошел. Потому ничего интересного он не скажет, – возразил я.
– Выздоравливай! – категорично потребовал Креспи и протянул мне руку, ставя точку на разговоре.
– Вам надо отоспаться. Я принесу хорошее успокоительное, – добавил врач таким тоном, с каким палач обещает жертве добросовестно намылить веревку.
Я проводил их взглядом, и как только услышал затихающий скрип шагов за палаткой, сразу же подсел к столу и включил ноутбук Родиона, который он всегда брал с собой в горы. Я вогнал в прорезь дискету и вызвал команду на загрузку программы. Обмороженные пальцы с трудом попадали на нужные клавиши, глаза совсем некстати стали слезиться. Я тер воспаленные веки кулаком и пялился на возникшие на экране портреты Столешко и Родиона в анфас и профиль. За этим занятием меня застала Татьяна. Я едва успел отключить экран.
– Здравствуй, – сказала она, скидывая с головы капюшон. От нее потянуло свежим морозом. В протекторах ботинок девушка принесла снег, и на полу, между входом и столом, осталось несколько белых следов, словно Прокина, как мышь, прибежала с мучного склада. – Ты позволишь мне сесть?
Я искоса взглянул на нее и нахмурился.
– Спасибо, – сказала Татьяна, словно я расшаркался перед ней, предложив свой стул. Расстегнув молнию на пуховике, она села на сколоченную из ящиков скамейку. – Я принесла письмо от князя. Вообще-то оно адресовано Родиону, но ты тоже можешь его прочитать, чтобы потом не задавать мне лишних вопросов.