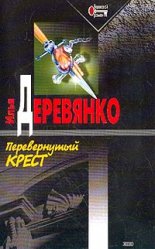Фарт Седов Б.
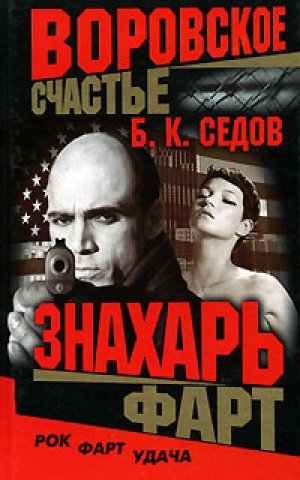
– Кому?
– Подкладюку.
– За сколько?
– За сто шестьдесят пять.
– Долларов?
– Долларов.
– А откуда у вас доллары? Вам что – долларами зарплату выдают?
Оба прапорщика переглянулись и заулыбались. Дескать, что это – вор в законе, и не знает таких элементарных вещей.
Я понимающе кивнул и сказал:
– А вы, между прочим, зря улыбаетесь. Мы еще поговорим о нетрудовых доходах и о нарушениях режима. И о долларах ваших неправедных. Посмотрим, как вы тогда улыбаться будете.
Они посерьезнели, и я продолжил разбирательство.
Повернувшись к Подкладюку, я задумчиво сказал:
– Значит, вы купили у…
– Мошонкин его фамилия, – злорадно сообщил Подкладюк.
– Хорошая русская фамилия, – кивнул я, – значит, вы купили у прапорщика Мошонкина имитатор женских половых органов.
– Купил.
– А потом продали его заключенным.
– Ха! – вмешался Мошонкин, – потом! Не потом, а через пять минут!
– Помолчите, – строго сказал я, – и за сколько вы, Подкладюк, продали его зэкам?
– Ну… За двести.
– Что?! – возмутился Мошонкин, – за двести? А четыреста двадцать не хочешь? Я все точно узнал! Так что не надо ля-ля!
– Так за двести или за четыреста двадцать? – спросил я, уставив на Подкладюка проницательный взгляд.
Он заерзал, отводя глаза, потом кашлянул и сказал:
– Ну… За триста. Триста сразу и сто двадцать потом.
– Та-а-ак…
Я задумчиво помял подбородок и, откинувшись на спинку койки, оглядел присутствующих.
– Значит, если купить вещь за сто шестьдесят пять, а продать за четыреста двадцать…
За спиной раздался голос одного из зэков – Гуталина:
– Сто пятьдесят пять процентов чистой прибыли!
Я удивленно оглянулся и увидел, что Гуталин, прозванный так за цыганскую чернявость, с довольной ухмылкой смотрит на меня.
– А ты не удивляйся, Знахарь! – сказал он, – у меня с детства способность к моментальному счету. Папашка, царство ему небесное, все говорил, давай, Толик, учись, вырастешь, артистом станешь, денег будет куча… Ну, я вырос, только артистом совсем другим стал. Денег, конечно, бывает куча, только они почему-то очень быстро кончаются, а в антрактах между выступлениями я на нарах кантуюсь.
Зэки заржали, вертухаи тоже хихикнули, а я, сдержанно улыбнувшись шутке товарища по камере, повернулся к Подкладюку и сказал:
– Сто пятьдесят пять процентов чистой прибыли – это, знаете ли, не шутка. В странах развитого капитализма люди за восемь процентов начинают друг друга пачками убивать и президентов отстреливать, а тут… Сто пятьдесят пять! Это уже даже и не сверхприбыль, а какая-то фантастика. Ну да ладно. И что же дальше?
– А дальше Мошонкин говорит, ты, мол, денег нажил, значит, должен поделиться.
– А вы что?
– А я, естественно, говорю ему – с какой стати? Я у тебя вещь купил, значит, она моя. За сколько хочу, за столько продаю. Что – не так?
– Конечно, не так, – возмутился Мошонкин, – ты мою вещь продал, а со мной до сих пор так еще и не рассчитался. Это что – нормально?
– Ах, во-от оно как… – протянул я, – в деле открылись новые, не известные до этого момента нюансы. Интересно…
Мазурикам, комфортабельно расположившимся на койках, тоже стало интересно, и Пастух, открыв баночку «Хольстена», на которую все трое вертухаев тут же зыркнули, как таможенник на контейнер с героином, сказал:
– Действительно интересно! Это, значит, кидняк получается…
Я посмотрел на него, и Пастух, понимающе кивнув, замолчал.
А я, укоризненно взглянув на Подкладюка, заметил:
– А ведь товарищ зэк прав – это кидняк. Вам, как представителям Закона, такая терминология не по душе, поэтому я скажу на языке нормальных честных людей.
– Правильно, скажи им, – подал голос Таран.
– И скажу. Получается так: гражданин Подкладюк обманным путем завладел имуществом, принадлежащим гражданину Мошонкину, и продал его.
Когда Мошонкин потребовал рассчитаться с ним по чести, Подкладюк заявил, что не желает ничего слышать. Как это называется на языке Закона, граждане урки?
Ответом был дружный хор:
– Мошенничество.
– Совершенно верно, мошенничество, – подтвердил я, – за это и осудить могут. Но Подкладюк наверняка даст взятку судье, а в тюремной администрации ему состряпают характеристику, из которой будет следовать, что он чист яко белый голубь, и Подкладюк выйдет сухим из воды. И спокойно вернется к своим недостойным и грязным занятиям. Что скажете, господа присяжные?
В камере раздались возгласы:
– И к бабке не ходи! Точняк! Так оно и будет! На кол его!
– Вот видите, – обратился я к Подкладюку, – вы хотели разбирательства – вы его получили. А теперь – приговор.
Настала тишина.
– Значит так. Четыреста двадцать, говорите? Хорошо. Подкладюк, крыса тюремная, завтра, подчеркиваю – завтра приносит Мошонкину восемьсот сорок. Не принесет – пусть пеняет на себя. Знахарь так просто языком не болтает. А насчет разбирательства, то у нас теперь все поставлено на коммерческую основу, так что за мои юридические услуги завтра же сюда, в эту камеру, – штукаря. Тысячу долларов. И не пытайтесь прибедняться. Жопу разорву. Все свободны.
Вертухаи, поверженные моей строгостью и наглостью, послушно встали и повернулись к двери, которую расторопно отпер перед ними мой давешний прапор.
– А вы, Штирлиц, останьтесь, – сказал я ему, и прапор замер в трудной позе.
Когда дверь за выскочившими в коридор подсудимыми закрылась, я сказал ему:
– Из этой тысячи триста – твои. Понял?
– Понял.
– Хорошо. Если кто-то еще хочет суда быстрого и справедливого – добро пожаловать. Понял?
– Понял.
– Кстати, как твоя фамилия?
– Нежуйхлеба.
Все, находившиеся в камере, не исключая меня, истерически заржали, а прапорщик Нежуйхлеба быстренько вышел в коридор и запер за собой дверь.
Глава 4
От Бутырки до Мальорки
Мне не пришлось долго ждать следующего визита Маргариты.
На следующее после суда над вертухаями утро дверь камеры отворилась, и я увидел родное и доброе лицо прапорщика Нежуйхлеба.
– Разин, на выход.
– Те же? – по-свойски спросил я, поднимаясь с койки, на которой вкушал отдых после скромного, но разнообразного завтрака.
– Ага, – ответил Нежуйхлеба, – те же самые.
– Ладно, – кивнул я, – пошли.
Мы вышли в коридор, Нежуйхлеба запер камеру и, не успели мы отойти на несколько шагов, просипел:
– Здесь ровно семьсот. Триста я себе взял, как вы и сказали.
И он ткнул меня в бедро туго свернутой трубочкой долларов.
– Годится, – кивнул я, принимая деньги, – а эти как?
– Эти? – Нежуйхлеба хохотнул, – подрались в кандейке через полчаса после того, как ушли от вас. Теперь у Подкладюка фингал под глазом, а у Мошонкина ухо разорвано. Подкладюк постарался. А в остальном, прекрасная маркиза, – все зэки довольны и смеются.
– Вот и хорошо, – сказал я, несколько удивленный неожиданно обнаружившимся у прапора чувством юмора, – а то в тюрьме, сам понимаешь, скучно…
Так, за разговорами, мы дошли до камеры, в которой меня ждала Рита.
Оставив нас наедине, Нежуйхлеба вышел, и Маргарита крепко обняла меня, прижавшись лицом к моей мужественной груди. Честно говоря, я был несколько удивлен этим, потому что хорошо помнил, насколько прохладно она простилась со мной вчера.
– Что это с тобой? – поинтересовался я, поглаживая ее, однако, по шелковым волосам, которые щекотали мне нос, – а где же нордический характер? Где превосходство интересов Дела над личными чувствами?
– Иди к черту, – ответила Рита и, поцеловав меня в нос, оттолкнула, – сядь подальше от меня, а то я за себя не отвечаю.
– Это что, тебя похоть обуяла, что ли? Ну так ведь комнатка эта и для такого случая приспособлена, – и я указал на стоявшую в углу койку, покрытую вытертым серым одеялом.
– Вот уж нет, – решительно заявила Рита, – я не хочу в этих стенах. И вообще – хватит об этом. Я не для того сюда пришла, чтобы… чтобы…
И она, с отвращением окинув взглядом убогую камеру, выкрашенную в отвратительный помойный цвет, передернула плечами.
– Ладно, – сказал я, – я в таких условиях тоже не могу. Соловьи, сама понимаешь, в клетках не поют.
Рита посмотрела на меня и усмехнулась.
– Соловей… В общем, слушай, соловей, – обстановка не то чтобы изменилась, она скорее усугубилась, поэтому нужно быстро решать.
– Что решать-то? – спросил я и с размаху завалился на ту самую койку, которая была предназначена для любовных утех оголодавших без женской ласки зэков.
И тут же понял, как жестоко ошибся.
Койка оказалась не пружинной, а дощатой, поэтому я сначала сильно приложился копчиком, а потом, выгнувшись от боли, достал затылком до металлической спинки.
Шипя и ругаясь, я скорчился на койке, держась одной рукой за задницу, а другой – за ушибленный затылок. А Маргарита, усевшись на стул, залилась мелодичным смехом, и только этот чистый и нежный звук, так неуместный здесь, в казенном помещении для свиданий, примирил меня с суровой действительностью.
Почесывая затылок и морщась, я высказал предположение, что сотрудники тюремной администрации кое-что понимают в сексе, раз заменили пружинный матрас на жесткий щит. Знают, стало быть, что на жестком трахаться лучше.
Маргарита, перестав наконец смеяться, возразила мне в том смысле, что я зря надеюсь на заботу администрации об удовольствиях зэков. Скорее всего, сказала она, эту милую коечку протрахали до последней крайности, вот они и заменили пружинную сетку обыкновенными досками.
– Ну что же, может, оно и так, – сказал я, – но давай к делу. Что, ты говоришь, нужно решать? И почему именно быстро?
– А потому, дорогой товарищ уголовный авторитет, что вас хотят перевести в Матросскую Тишину. А это, чтоб вы знали, – тюрьма ФСБ. И там может произойти все что угодно, а главное – мы, ты понимаешь, кого я имею в виду, не сможем хозяйничать там так, как здесь. И со Знахарем может случиться что-нибудь неприятное, а то и роковое. Понимаешь?
– Не совсем, но… – я потер затылок, – значит, стеночки сужаются, и мне не остается ничего другого, как идти по тому коридорчику, который вы передо мной открываете?
– В общем так, – Рита кивнула, – но только стеночки сужаем не мы, а обстоятельства. Тут уж я ничего не могу поделать.
– Понятно.
Я встал с койки и несколько раз прошелся по диагонали камеры.
Ситуация была ясна.
Я не думал, что Маргарита блефует, потому что увидел в ее глазах неподдельную озабоченность и даже больше того – тревогу. Значит, она по-настоящему беспокоится за меня, значит, все так и есть, и в Матросской Тишине меня ожидает кирдык.
Я подумал еще немного и спросил:
– И что теперь делать?
Маргарита внимательно посмотрела на меня и сказала:
– Я скажу тебе, что делать. Мы решили пойти на компромисс. Тебя никто не напрягает и не убеждает вступить в Игру прямо сейчас, а ты, в свою очередь, не упираешься и делаешь то, что тебе… ну, скажем, рекомендуют. Потому что, повторяю, в Матросской Тишине с тобой не будут церемониться и быстренько соорудят деревянный бушлат. Это ведь так у мореманов называется?
Я вспомнил путешествие на холодильнике «Нестор Махно» и ответил:
– Ну, так.
– Согласен?
– Что – согласен?
– Ну ты и тупой! Согласен, говорю, делать то, что я тебе скажу?
– Ну согласен, согласен. Вот ведь пристала!
– Хорошо. Тогда слушай. Тебе следует вернуться в Америку, потому что там ждут дела. Причем твои дела, криминальные. Так что можешь успокоиться и не думать о том, что тобой управляют страшные неизвестные масоны. Понимаешь?
– Что же тут не понять! А как вы вытащите меня отсюда?
– Это другой вопрос.
Рита покопалась в сумочке и достала сигареты.
– У тебя зажигалка есть? – спросила она.
Я дал ей прикурить, и Рита, выпустив тонкую струйку дыма, сказала:
– А теперь слушай, как твоя девушка, которую ты совсем не любишь и которая тем не менее готова сделать для тебя все, будет вызволять тебя из этой поганой Бутырки.
Начальник Бутырской тюрьмы полковник Курвенко сидел за своим служебным столом и смотрел на стенные часы в восьмиугольном деревянном корпусе, которые показывали половину четвертого. Римские цифры на циферблате были похожи на следы, оставленные инвалидной вороной на первом снегу, – здоровая лапа чертила кресты и птички, а увечная – только прямые линии. Стекло было мутным и тертым, в щели рассохшегося корпуса, если встать сбоку и присмотреться, можно было увидеть, как с натужным щелканьем вращаются шестеренки. Часы давно пора было бы заменить, но полковнику Курвенко они были дороги как память. Курвенко был тогда подполковником, только что получившим вторую звезду и заступившим на новую для себя должность начальника Бутырки. Сколько нервов, денег и здоровья стоило ему это кресло, Курвенко предпочитал не вспоминать, а вот первый месяц, проведенный в этом кабинете, помнил очень хорошо и часы постоянно напоминали ему об этом. Знакомство с новым коллективом, естественно, сопровождалось пьянкой. Одна-две стопочки со старшими контролерами, стаканчик-другой с младшим офицерским составом, а уж с «ближним кругом» – тремя замами и главврачом тюремной больницы – знакомились по полной программе, то есть в течение нескольких вечеров. Один из таких вечеров чуть не закончился трагедией. Когда выпитое достаточно разогрело здоровые офицерские тела, капитан Похотько снял трубку и распорядился привести двух девиц из женского крыла. Вечеринка приняла несколько иной оборот, девицы были молоды и хороши собой, сидели по делу о клофелине и уже два месяца были лишены мужской ласки. Следствие тянулось и тянулось, фигуранты по делу то появлялись, то пропадали неведомо куда, и до суда было еще далеко, поэтому девицы отнеслись к вечеринке с энтузиазмом, охотно удовлетворяя не только пятерых присутствующих мужчин, но и друг друга…
В какой-то, не уточненный внутренним расследованием, момент капитан Похотько воскликнул:
– А как же мой боевой товарищ! Ему тоже хочется женского тела!
И с этими словами вытащил своего табельного друга – пистолет Макарова, не только вытащил, но и вставил его одной из девиц туда, куда обычно и вставляют мужчины.
В этот момент раздался натужный бой часов, и капитан Похотько с испугу нажал на курок… Пуля вылетела из девичьего живота и попала в корпус часов. И теперь на старом дереве красовалась продолговатая вмятина.
Девицу списали, вторую, которая тронулась от случившегося умом, положили в психушку, капитан Похотько стал старлеем и отправился служить в колонию строгого режима за Северным Полярным кругом, а вот судьба подполковника Курвенко решалась долго и мучительно. В конце концов его покровители оказались сильнее его недругов и он остался на своем посту и с тех пор запомнил главную в своей служебной жизни истину – женщина в его кабинете приносит только беду. Об этом и напоминали старые рассохшиеся часы напротив служебного стола полковника Курвенко.
Мужчиной он был самостоятельным и крепким и другим, конечно, быть не мог, потому что должность начальника тюрьмы предполагает силу, твердость и безжалостность. Курвенко не вникал в дела заключенных более, чем того требовала должностная инструкция, и это было совершенно разумно. Виновен или не виновен тот или другой заключенный – решал суд, а его, Курвенко, делом было содержание злодеев в тюрьме, с чем он справлялся до сих пор вполне успешно.
Бунты и прочие стихийные проявления недовольства он пресекал жестоко и хладнокровно, зная, что это вовсе не принципиальные выступления людей, знающих, что им нужно, а просто выплескивающиеся время от времени отчаяние и скука.
Но на этот раз в Бутырке происходило что-то совершенно особенное.
С самого утра в тюрьме царила подозрительная тишина, не нарушаемая даже обычными выкриками тех, кому было наплевать на все, включая даже какие-то общие поганки, а потом вдруг все без исключения зэки отказались от завтрака.
Вертухаи бегали по коридорам, крича, что сгноят всех в карцере, а в ответ летели матюги и предложения поцеловать всех в задницу или сделать всем минет.
Но постепенно обстановка прояснилась, и Курвенко понял, что недовольство вызвано неизвестно как просочившейся из его кабинета информацией о том, что некоего Константина Разина, знаменитого вора в законе, недавно привезенного из Штатов, желает получить Матросская Тишина.
Урки угрожали голодовкой, самоубийствами и поджогом тюрьмы.
Сначала Курвенко привычно кривился, слушая доклады офицеров, потом забеспокоился, а полчаса назад к нему в кабинет явилась какая-то совершенно невиданная брюнетистая красотка из ФСБ, уселась в кресло и положила ногу на ногу так высоко, что Курвенко увидел, какого цвета ее узкие трусы. В это-то время подлые часы и начали хрипло бить. Курвенко посмотрел на них, потом на сидевшую напротив него красотку и понял – быть беде.
А брюнетка начала спокойным, но уверенным тоном излагать ему вещи, которым он сначала не поверил, но когда услышал некоторые подробности своей личной биографии, а также никому не известные детали служебных событий с его участием, его прошиб пот. Красавица тем временем, обворожительно улыбаясь, продолжала рассказывать ему такие вещи, о которых могли знать только очень немногие люди, и большая часть из них уже переселилась в лучший, как все надеются, мир.
Курвенко был разбит и, наконец поняв, что находится в капкане, сделал лучший в такой ситуации ход. Он встал, подошел к сейфу, достал из него бутылку коньяка, налил себе полный стакан и залпом выпил его.
Усевшись на свое место, он с ненавистью посмотрел на брюнетку и спросил:
– Что я должен сделать?
Ответ не занял больше одной минуты, и Курвенко понял, что лучше последовать рекомендациям коварной красотки, чем…
В общем, если он откажется – ему конец.
Во всех смыслах. Потому что если он не застрелится сам, ему охотно помогут другие, те, с кем он был связан крепкой паутиной личных, а также служебных, но далеко вышедших за все мыслимые рамки отношений.
И это сейчас, когда жизнь только начала налаживаться, горестно подумал полковник. Хотя налаживаться у него жизнь начала с получением первой большой звезды, а сейчас, даже по американским меркам, его уровень жизни был много выше среднего.
Брюнетка улыбнулась на прощанье и ушла, а Курвенко вызвал помощника и коротко, но очень убедительно растолковал ему, что он, капитан Беленький, должен сделать в кратчайший срок. И этот срок исчислялся всего лишь одним часом.
Беленький, прищурившись, выслушал Курвенко, кивнул, а потом, чуть склонившись к вросшему в кресло начальнику, негромко спросил:
– Что, так плохо?
Курвенко кивнул и сказал:
– Давай, капитан, иди. Раньше сядешь – раньше выйдешь.
Беленький развернулся и быстро вышел из кабинета.
Восьмиугольные часы щелкнули и показали ровно четыре.
Дверь кабинета отворилась, и на пороге показался Беленький.
– Ну? – Курвенко подался вперед, – все?
– Все, – Беленький подошел к столу и аккуратно положил на него несколько листов бумаги, – здесь заключение о смерти, приказ о снятии с пищевого и вещевого довольствия и все прочее.
– Какой диагноз?
– Острая коронарная недостаточность.
– Увезли?
– Увезли. Она и увезла. С ней еще двое амбалов были на микроавтобусе.
– Знала, сука, что делает, – едва слышно пробормотал Курвенко.
– Что вы говорите? – переспросил Беленький.
– Так, ничего. Выпить хочешь?
Курвенко, кряхтя, встал и подошел к сейфу.
– Выпить… – Беленький посмотрел на часы, – а что, пожалуй, можно. Так что же такое стряслось, товарищ полковник?
– Что стряслось, говоришь… – Курвенко, держа бутылку и стаканы, уселся в кресло, – да ничего особенного. Просто мне удалось выжить.
Девяносто часов назад я сидел в «Боинге», пересекавшем черное небо над Атлантическим океаном. Теперь я сижу в точно таком же «Боинге», который летит в противоположную сторону.
Ну что за ерунда такая! Совсем жизни не стало – то туда, то сюда, то «вы арестованы», то – замри-умри-воскресни… То тебе Игроки какие-то, потом тут же камера, зэки с чифиром, прапоры вонючие, затем тюремная больничка, справка о смерти, какие-то темные личности из ФСБ, потом опять Внуково, черт знает что!
Я повернул голову направо и увидел, что Рита, откинувшись на подголовник, сладко спит. Мне всегда нравилось смотреть на спящих женщин. Во сне их лица становятся совсем другими, не такими, как тогда, когда они за каждым своим взглядом, каждым поворотом головы следят в невидимое зеркало, уверенно показывая тебе то, что хотят показать, и скрывая неверные тени…
Арабы считают, что сон – это естественное состояние человека. Адам, пребывая в эдемском саду, находился в состоянии сна, и только извлеченная из его тела Ева пробудила его. И на хрена, спрашивается, пробудила? – чтобы увлечь за собой в бездну греха?
Длинные, от горизонта до горизонта, зеленые волны накатывали на плоский берег и, теряя разбег, таяли в желтом песке. В синем небе ослепительно горело белое солнце, и многоцветная яркость жаркого калифорнийского дня казалась нереальной после безжизненных грязных полутеней Бутырской тюрьмы, в которой я то ли был еще вчера, то ли уже не был…
Стремительность событий, произошедших в течение последних пяти дней, не давала мне трезво осмыслить их и, успокоившись, подумать – да, это было, но оно уже кончилось. Поэтому я гасил все еще несущийся внутри меня вихрь соображений и чувств старым испытанным способом. В моем организме уже булькали четыре бутылки «Туборга», еще восемь плавали в пластмассовом ящике со льдом, который стоял в тени под большим цветным зонтиком, а в бунгало, в огромном, как пивной ларек, холодильнике, их было столько, что и не сосчитать. Я лежал на просторной подстилке, жгучее солнце прижимало меня к песку, будто надеясь высушить до состояния газетного листа, в ногах плескался и шумел океан, пытаясь добраться до меня, а где-то рядом, в бунгало, которое Костя снял по случаю нашего приезда, копошилась Рита.
Она затеяла какие-то кухонные интриги, пообещав приготовить нечто такое, чего мы с Костей еще не пробовали. Я не возражал, а Кости вообще не было. Он с самого утра отвалил в Лос-Анджелес, где его ждала мулатистая зазноба. Я предупредил его, напомнив американскую поговорку: «С черненькой поведешься – обратно не вернешься», но он только отмахнулся, сказав, что, во-первых, она не такая уж и черненькая, а во-вторых – если он найдет с ней долгожданный рай, то на хрена тогда мы все ему нужны. Я не нашел чем ему тут возразить, и Костя, довольный, забрался в двухцветный открытый «БМВ» и уехал.
Бунгало, в котором мы предавались кратковременному безделью, стояло в сотне метров от берега океана, на небольшом пригорке, заросшем травой и кустарником. Таких строений в этой части побережья было полным-полно, и в каждом из них жили такие же, как мы, любители праздного ничегонеделания, «dolce far niente», как говорил сосед-итальянец. Иногда мы видели их, и все они делали то же, что и мы. Выйдя из дорогой лачуги, соискатель покоя и удовольствий проходил несколько шагов и падал. Либо на песок, либо в океан. Некоторые поступали иначе – выскочив из бунгало, они с криком и смехом бежали к воде, таща яркую пластиковую доску. На мой взгляд, это было буйным вариантом распространенного в этих местах помешательства.
Началось это все, по-моему, с фильма «На гребне волны», где мужественный герой Патрика Суэйзи разумно распределял время между совершением правонарушений и лихим серфингом на гребнях тихоокеанских волн. С тех пор американские парни, чтобы почувствовать себя Парнями с большой буквы, хотя бы раз в год брали под мышку пластмассовый атрибут крутого рассекателя прибоев и направлялись в сторону ближайшего водоема, имеющего хоть какое-то подобие волны. Прыщавые младшие клерки из солидных компаний на трясущихся от ежедневного джоггинга ногах неловко балансировали на неустойчивом пластике под восторженными взглядами архивных барышень или приехавших из провинции кузин, с надеждой ожидая внезапного ухудшения погоды или какого-нибудь природного катаклизма, позволяющего, не теряя лица, укрыться под гостеприимной крышей ближайшего бара или, что еще лучше, остаток дня спасать свою подружку от непогоды в своей холостяцкой квартирке, где плита, раковина и раскладная кровать находятся в опасной близости друг от друга…
Жара, царившая в эти дни на калифорнийском берегу, на мой взгляд, располагала больше к лени и неподвижности, чем к резвым забавам, и я поступал так, как мне было приятнее. А именно – лежал под горячими лучами солнца и думал о том, что будет, когда оно превратится в сверхновую. Говорят, что тогда оно сначала распухнет до самой орбиты Земли, а потом сожмется в невидимый черный комок, который будет жадно втягивать в себя все, что окажется поблизости. Это вроде бы и называется черной дырой. Я не силен в астрономии, поэтому не разбираюсь в таких вещах, но одно было ясно – не будет тут никакого пляжа, океан испарится, как плевок на утюге, а главное – никто этого грандиозного шоу не увидит.
Есть такие острова в Океании, где, как говорят знающие, побывавшие там люди, местное население не делает ничего, то есть вообще ничего, Ничего с самой большой буквы. Они просто лежат целыми днями на своих островных пляжах, океан покорным щенком ласково лижет им пятки. А они лежат и ждут, когда с дерева упадет кокос или какой другой пригодный в пищу орех, тогда они лениво поднимаются и нехотя поглощают упавшую пищу. Они не работают, потому что жарко, лень и незачем – все, что нужно для жизни, произрастает само, без участия человека, а может быть, именно потому, что человек не вторгается в плодотворную работу Земли. Они счастливы, потому что все, что им нужно, у них есть, а то, чего у них нет, – им не нужно. Надо будет как-нибудь побывать на этих островах, лениво подумал я, полежать на песке рядом с островитянами, поболтать с ними о смысле жизни и насладиться райской праздностью свободного человека. Чем, собственно, я и сейчас наслаждаюсь, не уезжая на далекие неведомые острова…
Я лежал уже второй час и подумал, что, открыв глаза, увижу себя в виде пережаренной колбаски. Кулинарно-гастрономические ассоциации усиливали ароматы, которые редкий и легкий ветерок навевал из бунгало. Коричневая, лежащая на рашпере колбаска, жирный мясной сок которой с шипением капает на раскаленные угли, сменилась образом шашлыка, я даже услышал запах вишневых полешек, которые знатоки подкладывают в грамотный – из яблоневых чурочек – костерок. Я перевернулся на спину и напоследок вспомнил, что на Руси шашлык называли «верченое мясо». Хотел улыбнуться, но поленился. Весь окружающий мир представлялся мне в виде… Точнее сказать – он никак мне не представлялся. Его будто не было. Только я и солнце. И где-то рядом – океан. И все это даже не на какой-то там Земле, а просто в пространстве. Это и было тем самым блаженным умопомрачением, ради которого знающие люди регулярно бросают все и устремляются на жаркие берега теплых морей. Я наконец достиг этого состояния, и приобретенный в прошлых воплощениях опыт подсказал мне, что делать теперь.
Собрав все силы, я напрягся и открыл глаза.
На мне были черные очки, поэтому солнце, бьющее мне прямо в лицо, не ослепило меня, а лишь заставило слегка прищуриться. Перевернувшись на живот, я подобрал под себя конечности и, пошатываясь, встал. Сориетировавшись, я неверными шагами, утопая в предательском песке, дошел до воды и, сделав еще несколько шагов, упал лицом вниз. Теплые воды океана объяли меня, как говорится, до глубины души моей. Убийственная жара пропала, а вместо нее, когда я открыл глаза, вокруг меня было зеленоватое пространство, по которому перебегали тени и отражения волн, игравших на поверхности.
Я посмотрел на свои руки, упершиеся в песчаное дно, и увидел, что на тыльной стороне правой ладони уже устроился маленький краб, который, подняв миниатюрные клешни, смотрел на меня своими перископами. Почувствовав, что заканчивается воздух, я поднял голову над водой и сделал глубокий вдох. Полусонное обалдение пропало, и вместо него я теперь чувствовал пронизывающую меня насквозь радость бытия, которая растянула мои губы в идиотской улыбке.
Так тут улыбались все.
Поныряв в разные стороны и пожалев немного, что не родился дельфином, я вылез из воды и бодро направился в бунгало. Внутри было прохладно, датчик кондиционера показывал всего лишь плюс двадцать. Из кухни доносилось фальшивое пение Риты. Все в ней было прекрасно: и фигура, и лицо, и манеры, и еще множество женских качеств, но имела она один недостаток, который ей, однако, удавалось успешно скрывать. У нее абсолютно не было музыкального слуха.
Услышав доносившееся из кухни фальшивое «три белых коня – декабрь, январь и февраль», я почувствовал, как у меня сводит скулы и рот наполняется слюной, как при виде разрезаемого лимона. Слух у меня – дай бог каждому, и такое издевательство над гармонией и благозвучием приносило мне истинное страдание. Поэтому я кашлянул, и пение тут же прекратилось.
Рита знала, что начисто лишена музыкальных способностей, и никогда не позволяла себе петь в чьем-либо присутствии, разве что хотела помучить кого-либо, например меня. На моей памяти она поступила таким опрометчивым образом дважды, и оба раза результаты этого были для нее плачевны. Один из таких эпизодов, в Цинциннати, закончился для нее запихиванием под холодный душ, а во второй и, надеюсь, последний раз я просто ушел спать в гостиницу, оставив ее на одинокой постели без надежды на мою благосклонность.
Сунув голову в кухню, я почувствовал довольно приятный запах и поинтересовался:
– И что же такое ты готовишь? Пахнет хорошо!
Рита, одетая в короткое шелковое кимоно, расшитое красивыми жабами и лягушками, повернулась ко мне и, заслонив спиной плиту, вытолкала меня из кухни. При этом вытканная на кимоно жаба насмешливо улыбнулась и, кажется, выставила средний палец на правой лапе.
– Узнаешь потом. А пока нюхай и мучайся.
Я подошел к холодильнику и открыл его.
По босым ногам пробежала приятная зимняя волна, и я, наслаждаясь контрастом ощущений, неторопливо вытащил из отделения для напитков две бутылки «Туборга». Отделение было просторным и глубоким, и еще оно было полностью забито бутылками с разнообразными эликсирами и ядами, произведенными в разных концах света. Америка, считая себя передовой страной мира, на самом деле глубоко традиционна, – если ты придешь в американский бар и попросишь пива, то тебе подадут непременно «Будвайзер», естественно, родного американского производства, поэтому на американский «Будвайзер» я уже смотреть не могу и пью последнее время только «Туборг», добротно сваренный в старушке Дании. Открыв пиво, я налил себе и Рите и рухнул в кресло, умудрившись не расплескать ни капли из полного стакана, который держал в руке.
Приложившись к пиву, я спросил:
– Так ты сегодня что – так и не полезешь в воду?
– Какой ты все-таки несообразительный, – укоризненно произнесла Рита, глядя на меня как на тупого второгодника, – я же тебе еще вчера вечером сказала, что у меня началось, как в Библии сказано, обычное женское.
– А-а-а… – протянул я, вспомнив, что такое действительно было, – миль пардон. Запамятовал. Здешние кайфы, они, знаешь ли, разжижают мозг и парализуют волю.
– И ты как раз являешься ярким примером этому. Хотя и в обычных условиях не блещешь.
Рита отпила немного пива и поставила стакан на столик.
Раскинув руки по спинке дивана, отчего кимоно разошлось, она опустила глаза и посмотрела на свою грудь, уставившуюся изюмными сосками прямо в меня.
Нахмурившись, она подняла взгляд на меня и спросила:
– Тебе не кажется, что загорелая грудь – несколько вульгарно?
Я снова кашлянул и ответил:
– Не знаю. Зато мне кажется, что вызывающе показывать грудь, равно как и другие части организма мужчине, с которым находишься наедине, но не имеешь возможности вступить в близость, наверняка вульгарно. Один знающий человек объяснил мне как-то, в чем состоит основной конфликт латиноамериканских сериалов. Ты смотришь бразильские сериалы?
Маргарита выразительно посмотрела на меня и буркнула под нос что-то презрительное.
– Вот и я не смотрю, но не в этом дело. Интрига основывается на том, что героиня остается один на один с героем на некоторое очень небольшое время, скажем, на полчаса. Проводят эти полчаса они совершенно невинно – пьют кофе, беседуют об искусстве, или о лошадях, или об искусстве выращивания лошадей. Но! По образу мышления латиносов, или, как модно говорить, по их менталитету, за эти полчаса они непременно должны трахнуться, потому что чем еще могут заниматься мужчина и женщина, оставшись наедине, – только трахаться, не разговоры же разговаривать! И чтобы доказать свою невинность и в конце концов все-таки переспать с героем, героине нужно никак не менее 526 серий по полтора часа каждая. А мы с тобой! Столько времени проводим наедине – и никакого секса. Есть же ведь всякие варианты, правда?
Рита фыркнула и запахнулась.