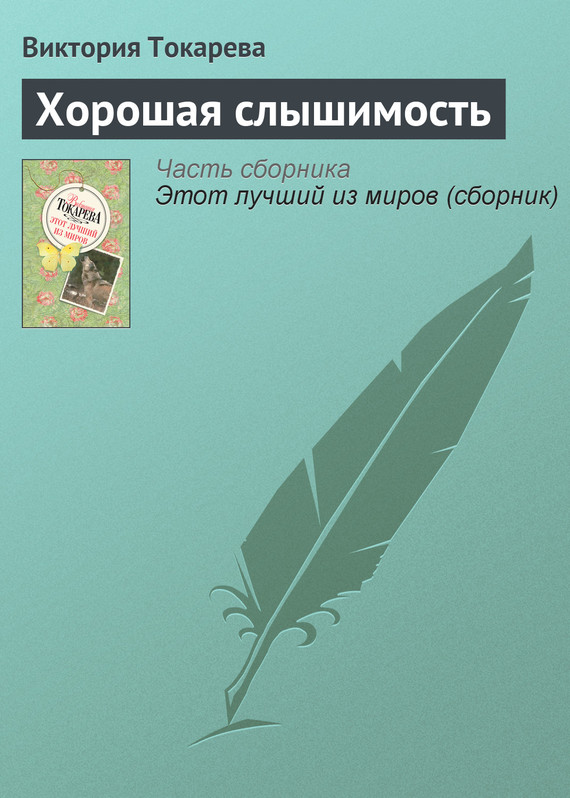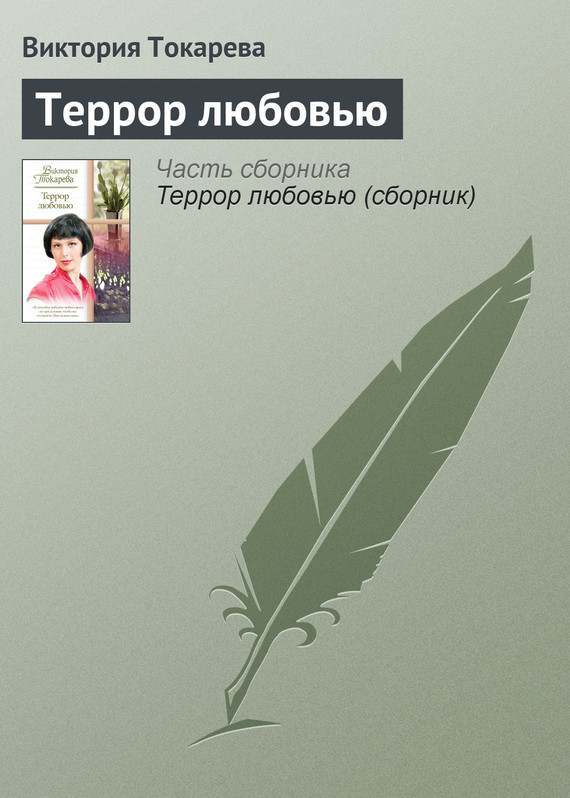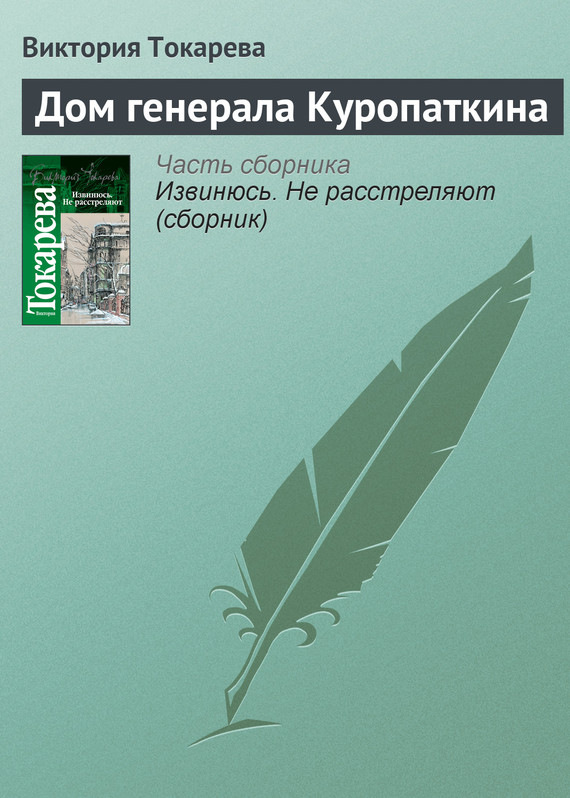Аутсайдеры Трускиновская Далия

– Это будет стройка века! – сказал архитектор Торсен. И ведь оказался прав – начатая аккурат на исходе прошлого века, она только сейчас завершилась. При теперешних-то темпах, когда два месяца – и коттедж от нулевого цикла до последней дверной ручки готов окончательно и бесповоротно.
– Это будет стройка века?.. – пробурчал бухгалтер Миша. – Это уже стройка века! Восстановить Импайр Стейт Билдинг – и то дешевле.
– А на хрена мне этот билдинг? – спросил Вишняков. – Мне нужно где жить. И жить так, как я хочу. Запиши, Миша, – художнице этой за эскизы двести баксов.
– Так мало? – со всей возможной иронией спросил Миша.
– Пока. Я вот пересплю с ее бумажками… Если пойму, что мне хочется именно это, – тогда и буду платить.
– Конечно, если на потолке не будет росписи, то дом – не дом, а так, берлога, – заметил Миша. – Ладно, если это все, то я пошел.
– Погоди! Твой-то как?
– А как? Полы менять пришлось, крышу ремонтировать. Пока в смету укладываюсь. Не то что некоторые.
Экономный Миша тоже надумал жить в своем доме, купил развалину, на второй этаж которой побоялся подняться – на момент покупки лестница не имела перил и половины ступенек, – и стал понемногу доводить жилище до ума. Оно стояло в хорошем месте, имелись все коммуникации, имелся даже целый сарай, который временно служил гаражом и складом. Миша был нетороплив и отслеживал все скидки. Если бы Вишняков знал, что роскошный кафель, купленный для ванных апартаментов супруги, можно было два месяца спустя взять на четверть дешевле, и что Мишина ванная таким образом получится не хуже, чем у начальства, он бы несколько обиделся. Но у Миши всегда хватало ума помолчать.
– Да ладно тебе, – сказал Вишняков. – Не каждый день строимся. Могу себе позволить! Ты вспомни, сколько прибыли спрятал!
– Да уж!
Миша за то и был у Вишнякова главным бухгалтером, что мог спрятать во всевозможных проводках любую сумму и мастерски манипулировал с налоговыми льготами. Но и оплачивался этот труд по-царски. Вишняков гордился тем, что понимает цену интеллекта, и все знали, что с командой вдвое меньше, чем у конкурента, он получит прибыль вдвое больше, да еще вырвется вперед по многим направлениям.
Рабочий день кончался.
Вишняков прошелся по кабинету. Хороший кабинет, хоть папу римского принимай. И пейзаж на окном не какой-нибудь пошлый – сплошь архитектурные памятники и перспектива. И супруга уехала на неделю к родственникам в Берлин. И дочка прислала сегодня из Калифорнии мейл – дом купили, няню для внука нашли. И художница Марина согласилась поужинать в японском ресторане. Художница не дура – понимает, откуда растут ноги у выгодных заказов. А расписать стенки с потолками в трехэтажном особняке – это ей занятие на три месяца, после чего спокойно можно еще столько же отдыхать.
Но как раз в японском ресторане его ждал облом.
Марина, которая выпала из поля зрения дня на три, не больше, взяла доллары, сунула в сумочку и, сделав большие серые глаза очень строгими, сказала, что вообще торопится. Полчаса посидеть и поговорить об искусстве может, а более – никак.
Вишнякову всегда нравилось это сочетание – темные волосы и серые глаза. Он говорил, что тут чувствуется порода. Сам он породой не блистал – обычный рыхловатый мужик, нос картошкой, тусклая рыжинка когда-то густых волос, начинающие обвисать щеки. Но в женщинах это качество уважал едва ли не больше, чем стройную фигурку. Марина полностью соответствовала его понятиям о породе.
Хорошо, Вишняков взял то, что подавали сразу, – суши пяти видов, полчаса развлекал даму беседой, а сам строил ловушки и засады – чтобы она прокололась. К кому-то же торопится вечером на свидание эта красавица!
Она не проболталась, а только начала каждые полторы минуты поглядывать на часики. Потом пискнул ее сотовый, и она дала адрес японского ресторана. Причем к человеку, которого ждала, обращалась на «ты».
Хахаль, подумал Вишняков, именно это слово и прозвучало в голове. Как еще назвать мужчину, который уводит от тебя женщину? Не женихом же!
Они вышли на деревянную террасу, пристроенную к старому каменному дому, где весь первый этаж занимал ресторан. Терраса была пуста – наступила осень, и никто не хотел есть сырую японскую рыбу под тентом.
– А, это за мной, – Марина показала на серебристый джип-«чероки».
– На таких бандюганы катаются, – заметил Вишняков.
– Или просто умные люди, – несколько обиженно возразила Марина. Вишнякову стало интересно – и что же там, внутри, за умный человек?
Он откланялся, сделал вид, что возвращается в ресторан, но сам остался стоять в дверях и на всякий случай надел очки. От возни с компьютером близорукость, зараза, прогрессировала.
Бандюган вышел из своего джипа и оказался высоким темноволосым молодым человеком. Даже слишком молодым – лет восемнадцати.
Вишняков сквозь очки прищурился – не может быть! Нежный румянец, огромные глаза с поволокой… Но как он держится! Как плечи развернуты!
Ну, не может же быть…
Тут солидный человек Вишняков унизился беспредельно. Любопытство оказалось сильнее благоразумия – он быстрым шагом пересек террасу и оказался у джипа аккурат в минуту, когда молодой человек подсаживал Марину.
– Господин Адлер?
– Да, это я, – молодой человек сказал это, повернувшись и подставив взгляду тонкое, воистину породистое лицо.
Но даже если бы не сказал – Вишняков бы ни секунды не усомнился. Это вылитый Немка Адлер, но только прямой, как натянутая струнка, спокойный, как ледяная глыба, и в костюме дороже, чем у самого Вишнякова.
В глазах красавчика был вопрос – а ты, дядя, кто такой?
– Надо же, как быстро время бежит, – произнес Вишняков. – Кто бы подумал, что у Адлера такой взрослый сын? Привет папе передавайте.
– От кого, если не секрет? – осведомился юноша.
– От одноклассника. От Бори Вишнякова.
– Боря Вишняков? Хорошо, увижу – передам.
Когда юный джентльмен закрывал за дамой дверцу, Вишняков увидел платиновый перстень-печатку. По черной эмали – россыпь бриллиантов…
– Удивительное сходство!
– Да, я знаю. Извините.
Адлер коротко поклонился и, обойдя машину, сел на водительское место. Джип отбыл. А вот Вишняков остался, чеша в затылке и тихо чертыхаясь.
Кем же стал малахольный Немка, если его сынок разъезжает на таком транспорте и носит такие костюмы? Всех городских миллионеров Вишняков знал наперечет, про миллионера Адлера слышал впервые.
И даже менее того…
Дурак Немка мог получить деньги только одним способом – по завещанию. Он жил не в том времени и пространстве, где они вообще существуют. Даже если Немка правильно женился, вряд ли он стал практичнее. Значит, жена с приданым и наследство с шестью нулями? Кому – Немке?
Все это не лезло ни в какие ворота.
Вишняков вернулся домой и уже оттуда позвонил Володьке Решетникову. Этот одноклассник был весь на виду. Имел свой маленький туристический бизнес, но пренебрегал делами ради личной жизни. Поэтому Вишняков общался с ним только тогда, когда не находил другого собеседника для расслабухи.
– Че надо? – спросил Володька. Грубоватость была игрой. Всерьез грубить Вишнякову никто бы в этом городе не осмелился.
– Ты Немку Адлера помнишь?
– Что – умер?
– Да ну тебя! – Вишняков даже испугался. – Ты когда его в последний раз видел?
– Когда? – Решетников надолго задумался. – А на кой тебе?
– Хочу понять – он что, наследство получил?
– От дохлого осла уши! – развеселился Решетников. – Он так же похож на богатого наследника, как я – на Лучано Паваротти! Вспомнил – год назад я его видел. Не поверишь – на фотовыставке!
– Тебя-то туда за каким бесом понесло?
– Так это Женьки Прохорова выставка была. Он же всюду снимает – на сафари, в Кордильерах, в Мексике, на Джомолунгме этой. Снял зал, застеклил картинки, повесил, народ собрал, текилы выставил, презентация, тусовка!
– Ты хочешь сказать, что Немка – в тусовке Прохорова? – тут уж Вишняков точно ушам не поверил.
– Нет, потом же быдло пустили, прессу там, детишек каких-то детдомовских. Вот на детдомовца он точно был похож. Брючата какие-то жеваные, на десять сантиметров короче нормы, пиджак из сэконда, бомж бомжом.
– Может, он ваньку валял?
– Не. Когда богатый дядя ваньку валяет и в таком прикиде заваливается, он все-таки перед этим моется. А от Немки несло, как от скотомогильника. Бомж, который забрел на халяву погреться, и ничего больше!
– Ни хрена себе… – пробормотал Вишняков.
* * *
В классе, как положено, были свои лидеры и аутсайдеры. Лидеры, три мальчика и три девочки, объединились в компанию. Тут же нашлись охотники примкнуть. Пошли козни и интриги, в которых аутсайдеры даже не пытались принять участие. Компания то разрасталась, то скидывала балласт, аутсайдеры были сами по себе, хотя им имело смысл сбиться в кучку.
А Немка из всех возможных отщепенцев был самый невменяемый. Его не выперли из школы лишь потому, что он сидел очень-очень тихо. Такого голубка одно удовольствие перетаскивать из класса в класс.
Вторым убогим был Алик Колопенко. С первого класса человека прозвали «Клоп», и кличка приросла. Он был маленький, черненький, плотненький и очень шустрый. Он пытался примазаться к компании, но только сперва, кто-то из девчонок жестоко осадил его. Алька был немного не в своем уме – он собирал фигурки, что-то вроде оловянных солдатиков, таскал их с собой и был застукан за самой настоящей игрой в войну, это в пятнадцать-то лет.
Третий аутсайдер – девчонка, вспомнил Вишняков, Алка, рыжая и в очках, тихоня, вроде Немки. Тощенькая, маленькая, и, невзирая на цвет волос, какая-то блеклая. Ей полагалось бы так вылинять годкам к сорока, не раньше. Как-то, уже чуть ли не в десятом классе, мальчики поздравляли девочек с Восьмым марта. Купили не только цветы, но и какие-то книжки. Решили их надписать не просто так, а цитатами, да с намеком. Надписывали эти книжки, пятнадцать штук, целый вечер, после чего у всех челюсти от смеха ныли. Алке досталось такое: «Ах, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы?» Почему именно ей, а не толстой Галке?
У толстой Галки все списывали английский, вспомнил Вишняков. А бездарная Алка в тот день просто ушла из школы и вернулась только через неделю. Вроде бы даже классная к ней домой ходила, что-то там такое было. Галка, кстати, одна из первых выскочила замуж и до сих пор не развелась.
Воспоминания были сумбурны и совершенно не объясняли, откуда у нищего Немки взялись деньги, чтобы купить сыну джип.
– А откуда вообще могут быть деньги у человека, которого идиоты родители назвали Наум? – спросил себя Вишняков. Не то чтобы он увлекался мистикой – нет, до вражды с черными кошками было далеко. Просто он откуда-то знал, что лучше всего жить с именем и фамилией, которые никого не раздражают. Вот, скажем, неплохо живется Александрам, Николаям, Андреям, Анатолиям, звуки их имен совершенно для всех нейтральны. А Наум Адлер – в этом есть что-то несуразно-вызывающее. Адлер, кажется, вообще по-немецки орел. Орел Немка! Еще хорошо, что Вишняков совершил это лингвистическое открытие в зрелые годы, читая мемуары о войне, а не в школьные. Орла Немку заклевали бы окончательно.
И вдруг Вишняков вспомнил. Не то, что давало бы ключик к сегодняшней встрече, совсем другое, очень неприятное.
Кажется, они тогда учились в пятом классе. И был очередной идиотский месячник чистых тетрадок. И директриса ходила по классам, проверяла выложенные на парты тетрадки, говорила о первостепенном значении аккуратности, ее явление народу было событием мирового значения. Вишняков вспомнил старую дуру, толстую, как афишная тумба, с огромным гладким узлом на затылке. Узел цеплялся к голове при помощи многих длинных черных шпилек. Дети и тогда заметили эти вылезающие шпильки, но мысль об искусственности прилизанного кома волос и на ум не брела. До такой степени боялись директрисы.
У Немки, понятное дело, об тетрадки только ленивый ног не вытирал. На них и жирные пятна имелись, и отпечатки подошв, и обложки были надорваны, а уж Немкин почерк вообще был общим восторгом. Его, наверно, только сам Немка и разбирал. Директриса увидела этот кошмар, велела Немке встать – и понесла, и понесла!
Классная, которая уже смирилась с неряшливостью тихого мальчика, ничем не могла помочь. Дети просто сжались и боялись дышать.
Вдруг Немка заорал. Что он выкрикивал в лицо старой дуре, захлебываясь, рыдая, брызжа слюной, никто так и не разобрал. У него и всегда-то был полон рот дикции, а от волнения половину звуков он не выговаривал, а выплевывал. Старая дура прикрикнула на него, но только хуже сделала. Мальчишка просто завизжал, как резаный, и затопал ногами.
– Но это же псих! – с тем директриса и отступила, а к Немке наконец-то подошла классная.
– Нема, выйди в коридор, – велела она. – Кому говорю? В коридор!
Он тряс перед собой кулаками и бормотал невнятицу.
– Алла, выведи его, – распорядилась классная.
Алка тут же вскочила, взяла психа за руку, и он покорно за ней поплелся. Дверь закрылась.
– С ним это бывает, – сказала классная директрисе. – Не волнуйтесь, девочка его успокоит.
– Его в спецшколу надо, – не сдержалась директриса.
– Я же вам говорила…
– Я завтра же позвоню в роно.
– Я еще два года назад говорила…
Класс молчал. Всех ошарашило, что взрослые беседовали, как будто тут не было тридцати шести мальчиков и девочек.
Что Немка – псих, знали с первого класса. Что он в истерике слушается только Алки, тоже выяснилось довольно быстро. Но всем казалось, что это – личное дело класса и классной, а директрисе про Немкины психования знать незачем.
На следующий день к директрисе приходила Немкина мама – худенькая, испуганная, такая же узкоплечая и сутуленькая, с такими же огромными жалобными глазищами. Больше о спецшколе речи не было.
Вишняков крепко поскреб в затылке.
Два полюса имела эта история, и на одном стоял аутсайдер, почему-то избежавший спецшколы, на другом – более чем благополучный, красивый, спортивный, выдержанный юноша. Юноша, который увез Марину!
Немка доплелся до выпускного класса в одиночестве. С годами он почти перестал психовать, а общался только с Аликом-Клопом. И с рыжей Алкой. Это, кажется, и дружбой-то не было – просто лишь с ними Немка и разговаривал, и во что-то непонятное они с Клопом играли. А после выпускного – стоп, а был ли он вообще на выпускном? – аутсайдер пропал. Кто-то говорил, что мать пристроила его на завод, учеником слесаря-токаря, и там, на безымянном заводе, его след затерялся окончательно.
Откуда же в таком случае взялся джип?
* * *
– Вот тут я и живу, – сказала Марина банальные слова.
– Я знаю, – ответил ее спутник. – На третьем этаже.
Теперь следовало не менее банально предложить чая.
– Хочешь чаю?
– Хочу.
Они вышли из джипа, и юноша закрыл машину. Когда отошли на три шага, джип тихим писком попрощался с хозяином.
– У меня печенье к чаю, могу бутерброды сделать. А то вон в маркете пирожные всегда есть. Любишь сладкое?
– Почему нет?
Марину немного смущала сдержанность этого стройного мальчика. Он знал себе цену. И даже то, как он начал за ней ухаживать, было оттенено неугасимым и бессонным чувством собственного достоинства.
Она ловила себя на том, что в его присутствии немножко суетится…
В гости на ужин, постепенно переходящий в завтрак, он не напрашивался. Это и так было ясно – хочет, хочет. Но не станет ставить в неловкое положение ни Марину, ни себя.
А она, прекрасно осознавая одиннадцать лет разницы в возрасте, то устремлялась к нему, то отступала.
И, наконец, решилась.
Они купили коробку самых разных пирожных, яблоки, виноград, и Марина ждала, что он выберет на алкогольных полках бутылку какого-нибудь достойного вина. Не выбрал. А говорить ему: «Дорогой, вино нужно не тебе, а мне – чтобы расслабиться и выкинуть из головы благопристойную ахинею» Марина никак не могла.
Дома их встретил Кеша, обнюхал гостя, поворчал для порядка и ушел на свой коврик.
– Ему уже одиннадцать, – сказала Марина. – Ты бы его раньше видел. Он никому слова не давал сказать. А теперь словно разучился лаять.
– Может, сперва его выгулять? – предложил гость.
И стало ясно – он здесь останется. Надолго. До утра.
– Нет, он привык попозже, – не выдавая радости, ответила Марина. – Сейчас чайник включу.
На стол она накрыла в комнате – красиво, с льняными салфетками ручной работы, с чашками настоящего фарфора, не молочного французского стекла. Он сел, налил ей и себе чая. Воспитанный мальчик, подумала Марина, и как же он начнет?
– Давно хотела спросить – почему у тебя такое несовременное имя.
– Это отцовское.
– Ты, значит, Наум Наумович?
– Выходит, так. Только меня все зовут по фамилии. Если по имени – могу и не отозваться.
Это она знала. Когда они познакомились, а было это в пьяноватой компании системщиков, кто-то упорно называл его Адиком, Адькой. Действительно, так лучше, чем Наум. Тут и уменьшительное-то не сразу придумаешь.
– Значит, только Адик?
– Значит, только Адик, – он улыбнулся.
– И всегда так звали? С самого начала?
Она имела в виду раннее детство.
– Я плохо помню детство. Если честно – почти не помню. Есть люди, которые вспоминают, как их мама рожала. А я вообще мамы, кажется, не помню.
– А с какого возраста ты себя помнишь?
Адик-Адлер явно удивился вопросу.
– Никогда об этом не задумывался.
– Ты на маму похож или на папу?
– На папу, – неуверенно ответил гость. – А вообще я ее почти не знал. Так получилось, что она с нами не жила. Может быть, я и в нее тоже уродился.
– А я даже не представляю, как это – детство без мамы. Знаешь, что я помню? Как мы с ней идем, я совсем маленькая, по лугу, она останавливается и говорит: Мариша, вот это – пастушья сумка, а это – лютик, а это – белый донник. Потом она мне пижму показывала, и как малина цветет. Ничего так хорошо не запомнила, как эти желтые цветы – лютик и пижма.
– Пастушья сумка – это что, цветок? – удивился Адик-Адлер.
Нормальное удивление городского ребенка, подумала Марина, нужно будет как-нибудь выбраться с ним на природу.
– Вроде цветка. Вообще это лекарственное растение. А что, вам в садике не рассказывали?
Марина была убеждена – все люди прежде, чем стать взрослыми, ходили не только в школу, но и в детский сад. Во всяким случае, таких, что росли дома, ей еще не попадалось.
И тут выяснилось, что Адик-Адлер – как раз домашний ребенок.
– У меня была какая-то болезнь, что-то с нервами, и ко мне приходили воспитатели. Я даже во двор почти не выходил, – признался Адик-Адлер. – И в школе учился экстерном.
– Все десять лет?
– Почему десять лет?
– Столько учатся в школе. Или теперь – одиннадцать?
– Я не знаю, я ведь очень рано начал учиться. Ко мне приглашали учителей, тренеров, а Семен Ильич вообще жил у нас в доме. Он со мной каждый день занимался.
Спрашивать, что за болезнь такая, было нетактично, парень выглядел вполне здоровым. Вот разве что румянец. Марина слыхала, что у туберкулезных больных – самый красивый румянец. Но, помилуйте, какой туберкулез? Парень холеный, как голливудская звезда! Родители, или кто там с ним живет, пылинки с него сдувают. У него маникюр и, возможно, педикюр.
– Тебе теперь восемнадцать? – вдруг спросила Марина.
Адька-Адлер ответил не сразу.
– Ну… да. А это имеет значение?
– Не знаю. Просто занять такую должность в Росинвестбанке в восемнадцать лет, даже с феноменальными способностями…
– Никакие не феноменальные. Я читал – бывают дети, которые в двенадцать лет в голове шестизначные цифры перемножают, и вообще…
– А ты можешь – шестизначные?
– Зачем? Для этого калькулятор есть. Я – системщик. Послушай, Мариш, тот мужчина, с которым ты в ресторане была, – он кто?
– Ничего серьезного, – быстро сказала Марина. И действительно поняла, что Вишняков для нее – ничего серьезного, двести баксов за эскизы, а роспись пусть ему делает кто-нибудь другой!
– Нет, я не про это, – Адька-Адлер усмехнулся. – Кто он в социуме?
– Деловар. И даже очень неглупый деловар. У него несколько фирм, он член совета директоров «Ассуэра», ему, кстати, и этот ресторан принадлежит, только записан на жену.
– Борис Вишняков? – уточнил Адька-Адлер. – Дай мне его телефон, пожалуйста.
– Нет проблем. Вот его визитка.
Взяв картонный прямоугольничек, Алька-Адлер поднес к губам женскую руку и поцеловал. Марина ждала других поцелуев, но он задумался.
– Извини, – сказал он вдруг растерянно, – не могу, не получается… Я столько хотел тебе сказать – и будто мне кто запретил! Я не умею!
– Что – не умеешь?
– Говорить это. Понимаешь? Я не умею! Мне нельзя!
Марина впервые видела Адьку-Адлера взволнованным.
– Ну так и не надо. Не в словах же дело!
– Да?..
Он встал, отошел к книжным полкам, провел пальцами по корешкам.
– Столько слов… Дос-то-евс-кий… Кто это?
– Писатель, – стараясь не выглядеть слишком удивленной, ответила Марина.
– Лермонтов?
– Поэт.
Адька-Адлер открыл книгу.
– Почему такие короткие строчки?
– Это же стихи!
– Почему их так печатают?
– Адька! К тебе же учителя ходили! Ты что – литературу не учил?
– Я не помню… Я не помню, чтобы мне это показывали.
– С тобой что-то не так, – зная, что этого говорить нельзя, все же произнесла Марина. – Адька! Сядь и расскажи все с самого начала! Про твой дом! Про учителей! Про маму и папу! Мы вместе разберемся, слышишь? Ты же сам понимаешь – с тобой что-то не так!
– Мне нельзя волноваться, – глядя в пол, не своим, а чьим-то тупым голосом выговорил Адька-Адлер. – Мне нельзя волноваться, мне нельзя волноваться, мне нельзя волноваться…
И Марина увидела, как на его глазах выступили слезы.
А потом он просто-напросто сбежал. Не сказав больше ни единого слова.
* * *
Вишняков озадачил секретаршу, и через день имел сведения о рыжей Алке и о Клопе. Сведения примитивные, элементарные, то, что можно узнать по телефону. Алка, естественно, осталась старой девой, родители умерли, оказывается, она была очень поздним ребенком. Работала в какой-то конторе непонятно кем, потом и оттуда исчезла. Клоп, напротив, кое-чего добился. Даже был единожды женат. Но сейчас пребывал в разводе, а жил на даче. Городской квартиры у него больше не было.
– Дача? – переспросил Вишняков. – Ну, Наталья, ты даешь! Это он, наверно, землянку выкопал! Или шалаш из сена навалил, как Ленин в Разливе!
И в самом деле – какие, на фиг, дачи в Матрюховке?! Умирающая деревня – вот что это такое, более безнадежного места не сыскать. Вишнякову предлагали купить там землю – этак с полторы Бельгии, он поездил по району и наотрез отказался. В эту истощенную монокультурой под названием свекла землю сперва нужно миллиарды вложить – и то еще неизвестно, через сколько десятилетий начнется отдача.
Наталья умела хохотать. Вишняков искренне любил свою секретаршу, такую отзывчивую на шутки. И Наталья его любила – за постоянное благодушие и снисходительность, хотя бывали дни, когда он зверел, и понятие «рабочее время» отменялось – все свободное от короткого сна время у сотрудников было рабочим. Но и за эти авралы его тоже любили – Вишняков, кстати, устраивал их не столько для того, чтобы срочно сделать что-то важное, сколько ради сплочения команды и отсева обленившихся и утративших нюх людей. Кроме того, при авралах у многих прорезаются совершенно неожиданные способности – и потом человека можно использовать с большим коэффициентом полезного действия.
– А про Адлера я ничего не узнала, – отсмеявшись, пожаловалась Наталья. – В телефонной книге был один Адлер, но он год назад в Германию уехал. По-моему, не тот.
– А где жил этот новоявленный фриц?
– На Соколовской.
Когда Вишняков учился, детей распределяли по школам строго в соответствии с местожительством. Соколовская – другой конец города. Предположить, что Немка способен сам организовать переезд, Вишняков не мог. Неужели этот убогий все-таки женился?
А почему бы и нет?
Мальчишка, который увез Марину, был хорош собой. Выходит, и Немка, что ли, в восемнадцать был хорош собой?! Надо же! Открытие, блин!
– Наталья, тебе мальчики нравятся? – вдруг спросил Вишняков.
– Мне, Борис Андреевич, мужчины нравятся. А мальчик – это так, заготовка.
Пожалуй, Наталья права, подумал Вишняков, и Немка ведь был именно заготовкой! Если бы не идиотская школьная система, не старая дура с фальшивым пуком волос на затылке, что могло из него получиться?
– Матрюховка? – что-то в памяти закопошилось, словно таракашка, выползающий из-под газетного листа. – Наталья, не в службу, а в дружбу! Вот ключ, возьми у меня в бардачке автодорожный атлас!