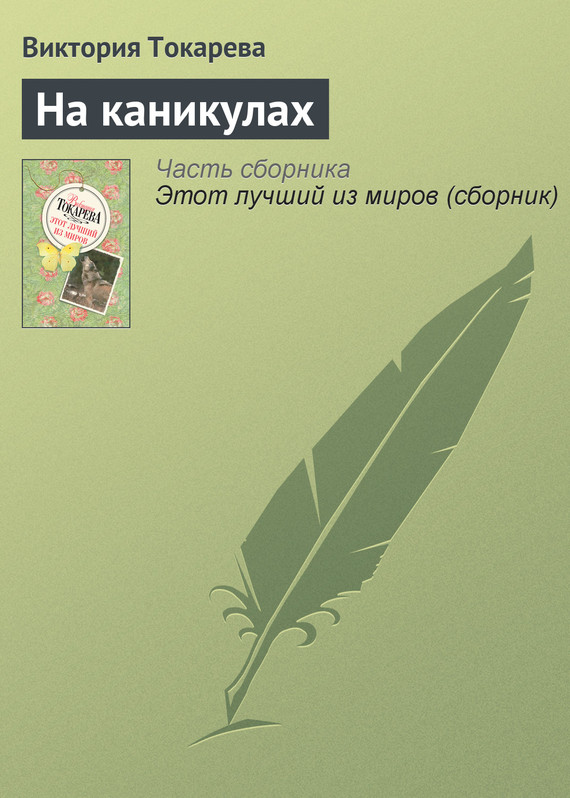Сыск во время чумы Трускиновская Далия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Уродится же дитятко… В колыбельке – ангелочек, а как вылезло – ну, хоть плачь…
У всех – до отрочества ангелочки розовощекие, голосистые, улыбчивые, доверчивые, ласковые, к гостям вывести приятно. Этот – вечно чем-то недоволен, глядит исподлобья, то хмурится, то кривится. И выкормлен порядочно, вон ножки какие толстенькие, брюшко кругленькое, и светло-русые волосы чуть вьются, и принаряжен, а глядеть на него неприятно, а пуще того – неприятно, когда оно само, это дитятко, старшенький, Николашенька, на тебя глядит.
Потом уже догадались – виной был необъяснимый каприз Натуры, посадившей ему левую бровь чуть ниже, левый глаз – чуть глубже положенного, и веко, несколько толще правого, на него нависало так, что у малого дитяти образовался этакий подозрительный прищур, словно бы говорящий: а я про тебя знаю, дядя, что ты вор и мошенник…
Неудачная внешность стала причиной многих драк во дворе усадьбы, где за кустами смородины, крапивой и лопухами было самое ребячье царство. И вроде повода не было, а вся ребятня сразу кидалась на одного Николашку. Невзлюбили – и хоть ты их увещевай, хоть секи, толку мало. Разбираться с этой бедой пришлось деду, у которого внучек повадился отсиживаться. Дед сперва был тронут душевно, потом додумался до причины таковой внуковой любви.
В то время еще достаточно жило дедов, начинавших службу при государе Петре Алексеевиче и возмужавших без всяких нежностей, а этот еще и под Полтавой побывал, и в неудачном Прутском походе, так что был испытан и блистательной победой, и бесславным поражением.
После очередного сражения за лопухами, поставив расхристанного внучка промеж колен и утерев ему тряпицей кровавые сопли, дед сказал так:
– Николашка, дураков завсегда бьют. А ты будь умен да поглядывай – всякое намерение прежде всего на роже отражается. Всякое! Вон у меня сука Хватайка ухо чуть подымет, а я уже знаю, что у нее на уме (дед был страстным охотником). У людей точно так же. Ты присматривайся! По взгляду понять можно, по косоротине, поприщуру, по тому, как не сразу говорить начинает, по всему! Врут тебе или не врут, открыто говорят или заманивают! Дурака валяют или точно бить собрались. Не считай ворон, понял, дурень? Гляди в оба!
И тот же дед однажды выразился этак:
– Ох, ну не всем же красавчиками-то быть!
Внук науку принял и прибавил к ней свою – тоже, видать, не без дедовой подначки, но тут уж точно никогда не дознались. Заметив обмен взглядами, сулящий ему дразнилки и первоначальные для драки тычки, Николенька тут же сжимал кулаки и кидался в атаку. Обычно это бывало за кустами смородины и в лопухах, за сараями и амбарами, на задворках раскидистой и безалаберной, но весьма скромной деревянной московской дворянской усадебки, строенной в одно жилье. И с чего бы той усадьбе быть иной, коли хозяин, Петр Архаров, всю жизни был в чинах невеликих, а бригадирский получил лишь при выходе в отставку?
Конечно, Николеньке доставалось, но очень скоро он уразумел одну простую истину: боль – это всего лишь боль, и кровавые сопли – всего лишь сопли, и синяк – не навеки, и царапина так заживет – через месяц и следа не останется. А вот битый им противник, причем битый щедро, от души, впредь крепко задумается, прежде чем приступать к этим самым заводящим раздор дразнилкам. Не раз и не два опробовал он сию теорию на деле, кончилось же тем, что его, шестилетнего, приметили старшие парнишки.
Это было, когда он, напоровшись на двух недоброжелателей не в усадебном дворе, а вылезши через дырку в заборе в переулок, впал в бешенство – и случилось с ним озарение, он вдруг понял, что голова – тоже оружие. Мальчишка постарше и повыше ростом обхватил его сзади – и получил такой удар в лицо, что кровь из носа хлынула и всех перемазала.
– Стой, стой! Сдурел?! – раздался голос.
Николенька даже не сразу осознал, что от лютости и для увеличения силы удара зажмурился. Он открыл глаза, когда парнишка постарше, схватив его за руку, выдернул из драки.
Оба противника ревели в три ручья. Так, рыдая, и побежали прочь.
– Ну их, – сказал парнишка. – Крепко ты его лизнул. Кто тебя выучил?
– Не знаю…
Он исподлобья посмотрел на вопрошавшего. Тот был старше, намного старше, и в плечах уже по-юношески широк. Скуластое лицо, русые волосы, большие темные глаза – все было не таково, как в архаровском семействе. В стороне стояли еще двое парнишек, один был несколько на него похож – видимо, брат.
Николенька не стал выяснять, чего эта троица забыла в переулке.
– Тебя что, не учили – лизать не по правилам?
Он не понимал, чего от него хотят старшие. Потому молчал.
– Лизнуть можно, когда стенка на стенку, – объяснил брат красивого парнишки. – Тогда и в жабру можно, и в зоб. Понял? А когда до мазки – нельзя.
Они говорили на непонятном, но восхитительном языке взрослых бойцов.
– Да ну его, – не дождавшись от Николеньки ответа, высокомерно сказал красавчик. – Пошли, господа.
Это были дворянские дети, о том можно было знать и по одежде – все трое в опрятных кафтанчиках, хотя белые чулки – с дырками и спущенными петлями, башмаки – грязные, где-то парнишки, видать, лазили без спросу.
Николенька вздохнул – он страшно хотел пойти с ними, что бы ни сказали об этом домашние.
И он направился следом в какой-то смутной надежде, что обернутся, скажут еще что-то восхитительно взрослое, мужское, боевое.
Самое занятное – что надежда эта сбылась. Красавчик обернулся.
– Пошли с нами, научим, – позвал он. – Так будешь биться – надежей-бойцом сделаешься! Я вот, жаль, не успею.
– Чего не успеешь? – стараясь вести беседу на равных, спросил Николенька.
– А мне скоро в службу. Я в Семеновской гвардейский полк служить поеду, – похвастался собеседник. – Вот двенадцать лет исполнится – и поеду в Санкт-Петербург!
На вид он был старше – такой рослый, как будто ему уже стукнуло все четырнадцать, плотного сложения, весьма подходящего для кулачного бойца, и толстоватый для своих лет Николенька вдруг понял, что его полнота, предмет детских дразнилок, в новой жизни будет даже преимуществом.
Новая жизнь эта началась на низком берегу Яузы, куда привели его новые знакомцы. Там сходились парнишки, любопытные до боевых ухваток, и, как взрослые бойцы делились на «камзолы» и «бороды» – то бишь, на дворянство и простонародье. Кулачный бой на Москве уважали. Не только простой люд – иной купец не гнушался встать в стенку, иной офицер предпочитал кулак своей дворянской шпаге. Шпагой-то насмерть проткнуть можно, а кулаками помахать – любезное дело, и ежели кто зубов недосчитается – впредь ловчее будет. Опять же, кулак всегда при себе.
Парнишки имели кому подражать – каждую зиму к Масленице составлялись стенки, лучшие бойцы переманивались, а самые опытные и ловкие схватывались на льду Москвы-реки, там, где запруда на Неглинке позволила образовать довольно широкий и хорошо замерзающий пруд, один на один в охотницком бою. Их знали, за ними наблюдали, знакомством с ними похвалялись.
Явились там, на берегу, и тринадцатилетний знаток некого славного удара вполруки, да впоперек груди, и ровесник ему, мастер, перенявший у взрослого соседа приемы ломания – подступа к противнику на полусогнутых, с кривляньем и на первый взгляд лишними движениями.
Володька Орлов, годом старше Николеньки, и Феденька Орлов, годом его младше, уже вовсю употребляли бойцовское наречие. Считалось особым щегольством говорить «нюни», а не «губы», «хребет», а не «спина», «руда», а не «кровь». Удар, наносимый вполсилы, для проверки ловкости противника, звался «пытливым».
– Запомни наперед, – сказали они Николеньке Архарову. – Лежачего не бьют, мазку не бьют, лежачий в драку не ходит.
И так гордо при этом глядели, как будто не первую зиму на лед в стенке выходили.
– Кулак – не сласть, а без него – ни шасть, – такой поговоркой поделился с ним их старший, Алешка, выйдя из очередной схватки с подбитым глазом, однако его противкик остался лежать на прибрежной траве. – Вишь, он меня размашкой достал да тут же туза и проворонил. Учись, чадушко!
Николенька легко осваивал все эти тычки, тузы, щелки и размашки. Тело неожиданно оказалось послушным – и, хотя сам он так и не понял тогда смысла слова «свиль», употребленного старшими, однако то движение, коим стан, повернувшись, пускает мощный тычок или туз вскользь, усвоилось почти сразу. Малолетние знатоки и мастера, нахватавшиеся у старших парней всевозможных ухваток, стали для него почтеннее учителей, нанимаемых родителями для обучения письму, чтению и арифметике. Тем более, что учителя все попадались какие-то незначительные, из тех, о коих позднее воспитанники говорили: меня учили на медные деньги. Вскоре старшего, Алешку, действительно увезли в Санкт-Петербург, и Николенька тоже принялся мечтать о военной службе.
Николенька оказал мало склонности к наукам и к искусствам, а более всего хотел служить в гвардии. Иного пути ему, впрочем, и не пророчили, так что в тысяча семьсот пятьдесят четвертом был он, как водится, в возрасте двенадцати лет зачислен в Преображенский полк и тут же отпущен для постижения арифметических наук. Три года спустя сочли, что дальше учить недоросля не имеет смысла, для честной службы и того довольно, и он был принят в полк нижним чином, и это тоже было в порядке вещей – вся дворянская служивая молодежь, попав в гвардию, начинала с солдатского звания.
Бывши неудачным младенцем, в отрочестве он тоже не слишком похорошел – вытянулся, несколько постройнел, однако нос тоже принялся расти и оказался малость крупнее, чем требуется для гармонии. Общее впечатление несколько скрашивалось тем, что волосы, как у многих в детстве, все еще вились, но это преимущество исчезало, когда их убирали в общепринятую прическу – гладкую, с косицей сзади и с буклями по бокам.
Николаша прибыл в Санкт-Петербург с сундуком имущества и старым дядькой, приставленным к нему для услуг. Тут вся началось сначала – длинноносый, коротконогий, полноватый юноша с подозрительным взглядом не сразу поладил с шустрыми и более грамотными ровесниками. Способ завоевать их уважение был ему с детства известен – и не зря же кулаки отращивал.
Всех удивила внезапная стремительность этого драчуна, совсем не соответствующая облику, удивила скорость и меткость ударов вкупе с умением уйти от вражеских, удивила и расчетливая поворотливость, при которой ни один замах не был сотрясением воздуха.
В шестьдесят первом году Архаров получил свой первый офицерский чин, тут случилась революция, на престол взошла общая любимица великая княгиня Екатерина, сделалась государыней и внесла сумятицу в гвардейские ряды. Когда совершалась революция – вся гвардия была заодно, а потом встал вопрос – выходить ли ей замуж за избранника души и тела Григория Орлова. Братья Орловы столько для нее сделали, – как полагали в гвардии, на трон возвели и корону ей на голову надели, – что сие выглядело достойной и заслуженной наградой – с одной стороны. А с другой – кому охота иметь над собой Гришку Орлова, пусть и ставшего вмиг графом? Начались комплоты, угрозы, и немало горячих голов ввязалось в нелепые заговоры по устранению фаворита. Но фаворит-то остался, а заговорщики получили хотя умеренное, однако наказание. Тут еще и граф Панин припечатал словцом: императрица-де вольна выходить за кого угодно, а вот только госпоже Орловой императрицей не быть… А она, умница, сделала единственно возможный выбор.
Николаша Архаров был слишком молод, чтобы путаться во все те затеи, да и других забот хватало – красавицы все больше на иных кавалеров поглядывали, было обидно. Попытки заявить о себя в свете кончились провалом – всякий раз, пускаясь в галантности, сей кавалер наиболее всего боялся стать для прелестниц смешным, и великая подозрительность вредила ему более, чем повредили бы лихие загулы и даже дурная хворь, не к ночи будь помянута. Наконец старший сослуживец, Иван Бредихин-второй, научил его ходить к сводням – тем все возвышенные чувства, взятые напрокат из стихотворства господина Сумарокова, и кончились.
Он служил не лучше и не хуже других, был довольно замкнут, порой вовсе угрюм, и казалось, что, не имея знатных покровителей, век он проведет в малых чинах, уйдет в отставку поручиком и будет доживать на покое в Москве или в подмосковной, наподобие отца и деда.
Но, видать, где-то на небесах Фортуна, расшалившись, глянула на него благосклонно. Хватит ему ходить в поручиках, решила Фортуна, он мне на что иное превосходно сгодится. И кинула ему с небес то, что именуется случаем. Хошь – лови, хошь – упускай, твоя забота. Случай, правда, был не совсем обычный, однако именно тот, что мог бы быть пойман как раз этим офицером, с его норовом и повадками.
Немало удивились сослуживцы, когда в одно прекрасное солнечное утро плац Преображенского полка осчастливил визитацией верзила, умница, меченый красавец Алексей Орлов, третий по старшинству из братьев Орловых, по-свойски – Алехан. Был он на ту пору Преображенского полка генерал-майором, но на плацу, где учили молодых солдат, являлся нечасто.
С ним прибыл брат Федор, четвертый по старшинству, – не более не менее как обер-прокурор Сената.
Оба братца, имевшие несколько похмельный вид, вышли из кареты, велели сбежавшимся офицерам быть без чинов, и стали оглядывать все собрание.
– А ну-ка, выйди вперед, – вдруг обратился Алехан к офицеру ростом малость выше среднего, плотно сбитому, причесанному без затей и имеющему на щеке свежую ссадину. – Ты, что ли, у меня Архаров?
– Я, коли угодно, – не слишком любезно отвечал офицер, уставясь на округлые носы своих башмаков и пряча в обшлаги кулаки со сбитыми и чуть-чуть поджившими костяшками.
– Врешь, – недоверчиво сказал обер-прокурор.
– Федя, это точно он, – подтвердил Алехан.
– Ну, надо же, – отвечал Федор Орлов, глядя на офицера с немалым удивлением. – Ишь ты, каков…
– Да уж таков уродился, – добавил Алехан, покачал головой и хмыкнул.
– Да, я таков, – совсем тихо, однако весьма упрямо произнес офицер.
Алехан смотрел на него, смотрел – да и треснул широченной ладонью по плечу.
После чего братья, словно бы сделав то, за чем явились, сели в карету и укатили.
Архаров наконец оторвал взгляд от башмаков и исподлобья посмотрел вслед начальству. Не признают – и ладно… было бы о чем вспоминать…
Сослуживцы кинулись с расспросами, Архаров отмалчивался. Только и дознались, что вечером ходил куда-то играть в бильярд, и там заполночь приключилась драка. Сообщил об этом Архаров-второй, Ванюша, младшенький, который уж несколько лет служил в том же Преображенском полку. Но подробностей и он не знал. Судя по тому, что старшенький братец отделался лишь ссадинами, пострадал, и немало пострадал его противник, или же противники (от Ванюши уж знали, что Архаров с сопливых лет не боялся выходить один против двоих и даже троих).
Фортуна у себя на небесах точно рассчитала, какого поединщика подставить Архарову. Поединщик, сам – отчаянный боец, смог оценить его боевые качества не по словам, а по следам на собственном теле, однако широта его безалаберной души не допускала мелочных расчетов. Малоприятный в обычной жизни и яростный в драке преображенец, который крепко припечатал его сперва к стенке, потом к полу, ему запомнился и даже понравился. С того дня карьера Архарова несколько оживилась, и вскоре стало известно, что его неожиданный покровитель – Гришка Орлов. Сам! Собственной персоной!
А еще немного времени спустя появился Левушка.
Надо сказать, что друзей в полку Архаров не нажил. Крепнущая с годами подозрительность к людям выстраивала между ним и сослуживцами каменные ограды и бревенчатые частоколы. Сперва среди полковой молодежи, потом среди равных по чину он был – сам по себе, хотя понемногу наладилось что-то вроде весьма сдержанного приятельства. Ближе прочих оказался ему спокойный, уравновешенный и исполненный какой-то ровной веселости поручик Иван Бредихин-второй – возможно, еще и по той причине, что Бредихин в детстве жестоко пострадал от оспы и лицо имел весьма изрытое. Был он на полтора десятка лет старше Архарова и умел обходиться с подозрительным сослуживцем мирно и деловито – как, впрочем, и со всеми. По этой причине Бредихин сделался конфидентом еще одного преображенца, Артамона Медведева, повесы редкостного, и выслушивал все его излияния, особливо же в тех случаях, когда Медведев, запутавшись в юбках трех, не то четырех прелестниц, искал достойного способа совершить правильное отступление. Архаров и Медведева кое-как признал за товарища, до таковой даже степени, что порой выслушивал его амурные откровения и ссужал деньгами – в разумных, впрочем, пределах.
Некоторую роль в этом играло имя Медведева – Артамон.
Архаров, воспитав в себе странную способность определять по лицу намерение собеседника, особливо же – намерение соврать, решил расширить поле деятельности и развить в себе мастерство угадывания характера. Кто-то рассказал ему, что не напрасно человеку дается крестильное имя – каким-то манером оно обязано влиять на нрав. В Архарове (о чем сослуживцы не подозревали) порой просыпалось совершенно детское любопытство. Он разжился святцами и стал задавать вопросы молодому полковому батюшке, который еще не до конца позабыл преподававшийся ему в семинарии греческий язык, снабдивший Россию именами на много столетий вперед, затем сверял ответы со своими наблюдениями.
Всякий раз при новом знакомстве он первым делом проверял свою теорию.
Бредихин-второй был Иван – сиречь, «Благодать Божья», и это вполне увязывалось с его миролюбием. А вот имя «Артамон» означало – «парус», легкомыслием от него так и веяло, куда ветер подует – туда и Артамон, особливо же ветерок от Купидоновых крылышек. Так что с ветреным гвардейцем Архаров держался почти дружелюбно, однако расстояние соблюдал отчетливо и был убежден, что на Медведева не слишком-то можно полагаться. Вот был бы он хотя бы Артемий, что означает «здоровый» – иное дело…
И тут вдруг прибывает в полк недоросль Тучков, по имени Лев (означающем всего лишь здоровенного рыжего гривастого зверя, которого Архаров видал в зверинцах и в каменном исполнении – украшающим дома и ворота богатых особняков) семнадцати лет от роду, – того возраста, в коем следует уже иметь первые чины. Недоросль долговязый, ростом – никак не менее Алехана, однако вдвое тоньше, восторженный и неуклюжий, как щенок, у которого первым делом вырастают длинные и толстые лапы. Вскоре выяснилось, что новое приобретение Преображенского полка не обучено наукам и при слове «фортификация» заметно теряется. Далее сослуживцы обнаружили в Тучкове неистребимую страсть к музыке. Тут кое-что стало ясно – дитятко росло без отцовского строгого присмотра, а при матушкиных юбках, среди сестриц, почему и засиделось дома, как девка-перестарок. Разумеется, было оно принято в полку соответственно…
Обнаружив таковое к себе отношение, Левушка удивилося, но не растерялся. Очевидно, был он достаточно умен, поскольку довольно скоро высмотрел среди преображенцев такую же белую ворону, Архарова, каков сам, и к ней прилепился. Или же имел удивительное для своих лет чутье – и это вернее…
Архаров сперва не больно-то шел на сближение с семнадцатилетним оболтусом, но Левушка словно бы не обращал внимания и вел себя со старшим по чину офицером примерно так же, как щенок с крупным старым псом, то наскакивая на него и от баловства хватая за лапы, то вдруг устраиваясь спать под прикрытием его теплого бока.
Сколько ни вглядывался Архаров в круглую мальчишескую рожицу, неизменно полную доверия и азарта, обмана в ней не углядел. И очень осторожно, понемногу, по вершку в год, двинулся навстречу, стал позволять втягивать себя в длительные разговоры. И некоторое время спустя для преображенцев стало обычным такое зрелище: идут по плацу Архаров и Тучков, и Тучков чуть ли не скачет, размахивая длинными руками, буйно что-то объясняя старшему товарищу, иное даже не произнося, а выкрикивая, Архаров же топает рядом с ним чинно, степенно, и так же степенно поддерживает странную эту беседу.
Кое-кто подсмеивался – мол, спрятался недоросль под защиту крутых архаровских кулаков. Но Левушка, помимо страсти к музыке, обнаружил вдруг еще одну – к шпажному бою, благо развитая музыкой кисть руки имела довольно силы и подвижности для всевозможных приемов. Он не давал покоя полковым фехтмейстерам, и коли приходилось его вдруг искать, то искатель имел три возможности: либо Тучков при Архарове, либо сбежал в город, где прячется у какой-то тетки, седьмая вода на киселе, и самозабвенно лупит по клавикордам, подпевая впридачу, либо же захвачен учебным поединком. Года полтора спустя он стал одним из лучших фехтовальщиков в Преображенском полку и вполне мог за себя постоять сам, без помощи Архарова.
Фортуна, поглядев сверху, что Левушка не на шутку прилепился к приятелю, решила и о нем малость позаботиться. Кинула ему незначительный чин подпоручика и сочла свой долг исполненным.
Архарову же припасла нечто такое, чего и в страшном сне не увидишь, хотя припасла с наилучшими намерениями и вывела его, неожиданно для всех, к славе, почету и даже немалым деньгам. Звался сей подарок Фортуны – московская чума.
О подробностях заразного поветрия в Санкт-Петербурге знали мало – они выяснились уже потом. Скорее всего, болезнь занесли из Валахии. Почему-то все были уверены, что зараза, дойдя до Брянска, вдруг остановится и повернет обратно. Не было кому напомнить, как более сотни лет назад чума крепко похозяйничала в столице – старики, которые хоть что-то могли с чужих слов рассказать, – и те померли.
Чума, она же – моровая язва, все не поворачивала и первым делом добралась до московского военного госпиталя – двадцать семь человек внезапно свалились в злой лихорадке, в живых осталось пять. Госпиталь возглавлял опытный врач Афанасий Шафонский, он и распознал чуму. Тут же принял меры – соорудили карантинные бараки, выставили охрану, разожгли большие дымные костры – дыма чума почему-то боялась. Шафонский, как положено, доложил о заразе выше по начальству, но был обозван паникером и иным французским словом – фантазером.
Далее произошла вещь обычная – когда чума в январе семьдесят первого объявилась на Большом суконном дворе, что у Каменного моста на Софийской набережной, начальство, не желавшее упреков в фантазерстве, понадеялось на русское «авось» – никому не рапортовали, умерших хоронили тайно, по ночам, не ввели карантина и полагали, что обойдется. Но мастеровые с суконного двора стали с перепугу разбегаться по домам и разнесли чуму по всей Москве.
К сентябрю 1771 года насчитывалось более ста тысяч покойников.
* * *
Девятнадцатого сентября 1771 года Николай Петрович Архаров собрался наконец к портному – забирать новый мундир. Был он на сей раз достаточно привередлив, но не потому, что знал толк в хорошей одежде, а просто видел: ему хотят всучить, кроме всего прочего, черные полотняные штиблеты, боковые пуговицы на которых приделаны криво, и потому штиблеты морщат, должны же сидеть внатяжку, облегая икры, как собственная кожа. Да и рукава были вшиты как-то неловко. Он задержался у портного довольно долго – пока тот наконец не сказал честно, что все возможное совершил и лучшим этот мундир сделать не может.
Того же числа юный Левушка Тучков с утра принарядился, заставил себя причесать в три букли, извел коробку пудры, велел денщику пристегнуть новые модные пряжки к башмакам и исчез. Кому-то обмолвился, что прибыла-де в Петербург матушка с сестрицами, надобно делать визиты.
Того же числа немолодой преображенец Иван Бредихин-второй поехал совещаться со свахой. Он крепко задумывался об отставке и женитьбе, но жениться хотел с умом, взять хорошее приданое, и рассудил, что нужна ему вдова, можно купеческого рода, с хорошим приданым и одним младенцем. Бредихину не хотелось на старости лет связываться с бесплодной дурой – когда еще обнаружится то бесплодие и сколько будет хлопот, чтобы развестись! Он же собирался заводить детей.
Того же числа тридцатилетний красавец Артамон Медведев с утра даже не показался на плацу – спал блаженным сном. Накануне уехал в Ревель муж проказницы Лизаньки Шептуновой, и Лизанька в собрании дала долгожданный знак – держала сложенный веер стрелкой, нацеленной в избранника, что означало: можете быть смелы и решительны. А дабы Медведев окончательно уверовал в удачу, быстро указала веером на сердце и тут же его раскрыла. Сие вкупе с улыбкой было целой фразой: люблю тебя, ты мой кумир! Опять же, и мушка возле глаза, другая – на подбородке: «влюбленная» вкупе с «шалуньей». В итоге кумир караулил под окном до полуночи, был впущен и неохотно выпущен уже на рассвете.
Того же числа немолодой одинокий доктор Матвей Ильич Воробьев спозаранку принялся помирать. Он выходил потихоньку из многодневного запоя, страдал, пытался понять, которое ныне время года, и стучал в стену к соседу, мебельщику Дрягину, чтобы Дрягин прислал мальчишку с ковшом огуречного рассола – не в первый раз, знает уже, что означает подобный стук! Потом Матвей затеял добраться до преображенцев, коих общим приятелем он был, и перехватить несколько в долг – когда он не пил, то был толковым доктором и имел денежных пациентов.
Такой вот спервоначалу выдался денек не лучше и не хуже иных. Он и завершиться был бы должен примерно так же – Архаров, привезя мундир, пообедал бы щами и кашей, занялся бы служебными делами, и Бредихин-второй, вернувшись от свахи, пошел бы советоваться о женитьбе с сослуживцами, и красавец Артамон Медведев, спросонья все еще счастливый, присоединился бы к беседе, и притащившийся на извозчике Матвей остался бы в полку до вечера, и Левушка рано или поздно примчался бы взбудораженный, докладывая всем и всякому, каких прелестниц повстречал в высшем свете…
Как бы не так!
Приехал Алехан и сообщил офицерам новость. В чумной Москве бунт, чернь штурмовала Кремль и добуянилась до того, что в Донском монастыре вытащила из церкви и растерзала митрополита Амвросия. Государыня, получив депешу, не в себе – особенно ее изумило, что в такие дни московский генерал-губернатор Салтыков просто-напросто сбежал из города. Алехан был в сквернейшем состоянии духа, изматерил все окрестности, каждую тварь особо, а потом сообщил подчиненным новость, которую сперва даже толком не поняли:
– Наш молодец сам вызвался Москву усмирять, так и растак его всей ярмаркой под гудок и волынку! Вот – собирает себе армию, генерал очумелый! Берет с собой от каждого гвардейского полка по бригаде. Братцы, простите – отстоять вас не смог, так и государыня решила.
Преображенцы покивали молча – чего не сказал Алехан, они и сами сообразили, не маленькие.
Граф Григорий Григорьевич Орлов при особе государыни держался уж на волоске. Многие дивились – как это умница Екатерина Алексеевна его до сих пор не сблагостила в отставку, потому что похождения фаворита, в том числе и амурные, были известны всему Санкт-Петербургу. Втихомолку поражались долготерпению ее величества и поговаривали, что в государственных делах от графа толку ни на грош, а тем лишь и знаменит, что при царице вроде невенчанного супруга. Братья, Алехан и Федор, оказались куда умнее и, взлетев после шелковой революции так, что выше некуда, нашли, чем на этой высоте заняться. Старший же Орлов так и остался сообразительным, но непутевым Гришкой…
И уж совсем было собралась государыня отстранять его – не вмиг, понемногу! – но тут случился в Москве чумной бунт. Кто-то должен был этим делом заняться. Орлов вызвался сам, полагая, что чума к нему, здоровенному молодцу, не прицепится, а вернувшись победителем в столицу, он и благосклонность Екатерины Алексеевны себе вернет. Была и подспудная мыслишка – что как государыня испугается, в Москву волонтера не пустит, а вновь припадет к его широкой груди?
Но она хорошо понимала: негоже мужчину оставлять без дела. До сих пор все занятия, кои она для него изобретала, пользы не приносили, и должен же был настать день, когда любезный Гришенька болезненно осознает свое бездействие!
Так что тут же был подписан указ об учреждении комиссии по борьбе с чумным поветрием и о том, чтобы ее возглавлять сенатору Волкову. Сенатору было велено разом с Орловым отправляться в Москву и взять с собой поболее докторов. Орлов мужчина горячий, как раз дров наломает, а Волков будет его удерживать… коли получится…
Высказавшись в полную силу, Алехан показал список офицеров, которые командируются в чумную Москву.
Архаров увидел свою фамилию и поглядел на командира вопросительно. Вроде и не след отказываться от такого поручения, однако ж казалось ему, что Орловы ему покровительствуют, и на тебе…
– Вас, Архаровых, в полку два брата, пусть младший остается в Петербурге, – отвечал на взгляд Алехан. – И Григорий сам сказал тебе ехать. Ты у него на примете. Возглавишь бригаду Преображенского полка.
– Пусть так, – удрученно сказал Архаров и отошел от офицерского кружка.
Мало кому охота в двадцать девять лет помирать в чумном бараке.
Однако «Григорий» – «бодрствующий». То есть – бдит на страже, охраняя тех и то, к чему привязан душой. Что-то он имел в виду, особо сказав об этом назначении. А что – выяснится позднее.
Алехан уехал, и тут же в полку произошло разделение – на тех, кто оставался в столице, и тех, кого посылали воевать с чумой.
Остающиеся пытались как-то высказать сочувствие, но достаточно неуклюже. Отъезжающие вдруг явили по отношению к ним такое явное недоброжелательство, что вскоре остались одни.
– Вот те, бабушка, и Юрьев день, – сказал расстроенный Бредихин.
– Ничего, не трусь, ты себе и в Москве купчиху сыщешь, – ободрил его Медведев. – Там бабы мягкие, сочные, и на гвардейский мундир кидаются, задрав подол!
– Утешил… – буркнул Архаров. – Все бабы оттуда, поди, разбежались. Пойти собраться…
Офицеры заспорили – сколько и какого добра с собой везти. Сентябрь был прохладнее, чем обычно, однако до зимы далеко. Насколько затянется экспедиция – никто не ведал. Опять же, провиант и выпивка. Позволят ли гвардейцам снарядить толковый обоз, со всем необходимым, или для скорости марша ограничат их в багаже?
Они строили планы и пререкались, когда к плацу подкатила щегольская карета, дверца ее отворилась, и оттуда показалась нога в белом чулке, длины неимоверной. Следом же – другая, а за ней – и задние полы красивого серо-голубого кафтана, слева задранные шпагой.
Левушка выбирался из кареты комичным образом – нижней частью был уже на плацу, верхняя же никак не могла расстаться с уютным шелковым мирком, в котором явно царила незримая прелестница. Наконец, очевидно, комплименты были досказаны и ручки доцелованы, Левушка окончательно покинул карету, и она укатила прочь.
– Откуда это ты, Тучков? – спросил, подходя, Медведев, но Левушка отвечал не вдруг, как если бы не слышал вопроса. Его круглая мальчишеская мордочка была озарена блаженной улыбкой. И, коли присмотреться, была измазана румянами – очевидно, в карете Тучков не только дамские ручки целовал.
– Очнись, Тучков, – сказал, подходя, Архаров. – Ты где все утро пропадал?
– С матушкой в концерт ездили, сестрицу навещали. Ох, Николаша, что я слышал! Им из Вены нотные тетради прислали, там князь Голицын посланником, он музыку обожает! Что за мелодии! Князь юные дарования пригрел, братца с сестрицей, брат сочиняет и на клавикордах импровизирует! Николаша, непременно надобно, чтобы он в Петербург приехал! Коли он в тринадцать лет так сочиняет… Николаша, он ведь уже и оперы пишет, право, сам пишет! Девицы исполняли… особливо на арфе… Николаша, она божественна! Я глаз не мог отвести! Сколько скромности, сколько прирожденной грации, всех покорила!
Оказавшиеся рядом Бредихин и Медведев переглянулись – подпоручик Тучков, как всегда, размахивая руками, нес явную околесицу.
Околесица объяснялась просто – Левушка побывал в Воспитательном обществе и на радостях не делал разницы между юными воспитанницами и музыкой, ими исполняемой.
Это было еще одной прекрасной затеей государыни – воспитать «новую породу матерей», как сама она выразилась. Государыня, будучи сама довольно образованна, желала, чтобы и дворянские дочери читали Платона и Вольтера. Для нее такое чтение было привычно с ранней юности – вот она и полагала, что многие способны пойти ее путем, отдавая предпочтение серьезным материям перед развлечениями.
Взяв за образец французский Сен-Сир, где еще покойная морганатическая супруга покойного французского короля Людовика Четырнадцатого, мадам де Ментенон, затеяла нечто вроде института для воспитания девушек благородного происхождения, Екатерина озадачила Ивана Ивановича Бецкого написанием устава для новоизобретенного заведения, благо он во Франции побывал и Сен-Сир посещал. Бецкой доложил, что замысел мадам де Ментенон извращен, институт преобразился в монастырь. Государыня здраво полагала, что уже имеющихся инокинь и стариц для российского общества вполне довольно. Однако, присматривая место, остановилась на Новодевичьем монастыре, в ту пору еще недостроенном. Он находился за городской чертой, в приятной местности, на берегу Невы. И для ухода за маленькими девочками, которых следовало брать от родителей шестилетними, еще не успевшими набраться всевозможных пороков, также подыскали монахинь «благородного и опрятного обхождения».
Немудрено, что девиц, обучавшихся там Закону Божию, русскому и иностранным языкам – арифметике, рисованию, позднее даже географии и истории, танцам, музыке и рукоделиям, в Санкт-Петербурге тут же прозвали монастырками.
Как раз музыке монастырки обучались с большим успехом, так что со временем стали давать небольшие концерты по воскресеньям после обеда, куда посторонние не допускались, а только родители и самая близкая родня. По этой части у Левушки все было в полном порядке – матушка его, госпожа Тучкова, смекнула, что воспитанницы девичьего института будут пользоваться особой благосклонностью государыни, могут быть взяты даже во фрейлины, и при втором наборе девочек определила туда свою младшенькую, Маврушу. Пусть графья да князья держат своих дочек при себе, решила госпожа Тучкова, там приданое заменит и красу, и грамоту, а небогатая дворяночка должна сама в жизни прокладывать дорожку.
Конечно, следовало бы строго спросить у подпоручика Тучкова, где он пропадал столько времени. От казарм Преображенского полка до Новодевичьего не так уж далеко – как до Зимнего, если считать по прямой, то они почти посередке между дворцом и Воспитательным обществом. А он чуть ли не весь день отсутствовал.
Но ни у кого язык не шевельнулся портить Левушке последние безмятежные минуты.
Слушать про музыку Архаров желания не имел – да и не до нее было. Он несколько углубился в свои мысли, Левушка же тем временем сообщал подробности Медведеву, которого и перед отправкой в чумную Москву волновало описание девичьих прелестей.
Вывел Архарова из задумчивости внезапно зазвеневший, как струнка, Левушкин голос. Юный приятель и без того рассказывал о концерте взволнованно, а тут случился новый всплеск – и Архаров, не слыша всей восхищенной тирады, уловил лишь ее хвост:
– … и дивные звуки исторгает!
– Откуда исторгает? – спросил в хмуром недоумении Архаров.
– Из арфы же! И у нее божественное имя!
Тут Архаров посмотрел на приятеля с некоторым любопытством.
– Как же ее звать?
– Архаров, ее звать – Глафира! – Левушка уставился на приятеля, как бы ожидая восторга, но восторга не случилось.
Архаров не сразу вспомнил значение: имен-то много, а голова – одна.
– Гладкая, что ли? Ну и как? Гладка ли?
Левушка вытаращил черные глазищи.
– Какая еще тебе гладкая? Ей тринадцать лет всего!
– Иная и в тринадцать уже все себе отрастила, – сказал заинтересовавшийся беседой Бредихин. – А что, Архаров, неужто тебе ни одной тощей Глафиры еще не попадалось?
– Мне, Бредихин, вообще ни одной Глафиры еще не попадалось. Мне все больше Дуньки.
И это было чистой правдой – с дополнением лишь, что девицы, которых иногда навещал Архаров в скромных домишках петербургских своден, придумывали себе звучные французские имена, от коих за версту разило враньем, но в большинстве своем были именно Дуньками, Парашками да Агашками. Теории сие не противоречило: «Евдокия» означает «благоволение», для любвеобильной девицы имя подходящее, «Параскева», она же «Прасковья», – «приготовление», «Агафья» – «добрая».
– Иная попадется – так весьма и весьма, – заметил Медведев. – Коли чисто себя держит.
– Да ну вас, господа, с вашими Дуньками, – сказал раздосадованный Левушка. – Так и помрете, не зная ничего лучше Дунек!
И страшно удивился, что ему никто не ответил. Более того – старшие несколько смутились.
– Ты, Тучков, еще новости не знаешь, – начал было Архаров, но Бредихин перебил его:
– Левушка, у тебя мать сейчас в Петербурге, лети к ней живо, пусть всю родню на ноги подымет! Надобно, чтобы тебя до завтрашнего дня вычеркнули из списков.
– Верно, – сказал Медведев. – Тебе сколько, девятнадцать? Братцы, нужно его выручать.
– Да что стряслось-то? – Левушка, растерявшись, переводил взгляд с одного лица на другое, но старшие не находили слов, чтобы объявить: он, девятнадцатилетний, жизни не видевший, завтра отправляется в чумную экспедицию.
Тут подошел Матвей Воробьев и, не здороваясь, похлопал юношу по плечу.
– Что, и ты? – спросил хриплым голосом. – Ох, разорюсь я с вами на панихиды. Вы хоть с курьером шлите известия – кто, когда, нет ли меня в завещании.
– Таких шутников не худо под батоги уложить, – сердито заметил Медведев, еще только начавший осознавать, чем грозит новое назначение.
– Так сударь! Ты вдумайся – это гораздо лучше, нежели на приступе чтоб ногу ядром оторвало! Поваляешься дней пяток в горячке – и нет раба Божия. А то еще бывает такая прелесть, как пуля в живот – смерть от нее весьма мучительна.
– Матвей, шел бы ты со своими похоронными прибаутками, – строго сказал ему Архаров. – Нашел себе забаву.
Матвей несколько обиделся – обычно кладбищенские шуточки доктора пользовались успехом.
– Ты, Николашка, неучтив и зол, – сказал он. – Сам мне толковал, будто мое имя значит «дар Божий». Стало быть, все, что от меня, – тоже некоторым образом дар Божий. И быстрая безболезненная кончина должна быть причислена к наилучшим дарам!
– И то верно… – каким-то потерянным голосом заметил Бредихин.
– Такого проповедника первого надобно в Москву отправлять, пусть бы там зачумленным про безболезненную кончину проповедовал, – сердито сказал Медведев.
Тут на Архарова накатило.
– А что, возьмем Матвея с собой? – вдруг спросил он товарищей. – Поедет волонтером, а? Еще и в люди через это выйдет!
Медведев невольно рассмеялся. Ему еще не было тридцати, и, по его разумению, Матвей навеки упустил время, когда еще мог выйти в люди. В понимании Медведева карьера могла быть лишь одна – гвардейская.
Усмехнулся и Бредихин.
– У государыни на виду окажешься! – добавил он. – И прямая тебе дорога в лейб-медики! По Бургавовым стопам! Соглашайся, не кобенься!
– Матвей, ты же без нас один заскучаешь! Вконец сопьешься! Чего ты тут будешь торчать, аки хрен на насесте? Поехали с нами! – загалдели преображенцы.
Матвей задумался. Обвел взором (не совсем ясным после вчерашнего) знакомые лица. Вдруг резко развернулся и зашагал прочь.
Далеко он не ушел – Бредихин, обеспокоившись тем, что гвардейцы могли невольно обидеть доктора, пошел за ним следом и обнаружил его на лавочке.
Матвей ходил с тростью, которая ему частенько пригождалась – не только в пьяном состоянии, когда ноги плохо держат, но и отбиваться от шалунов, решивших сдуру, что кошелек, лежащий в кармане у пожилого записного пьяницы, легкая добыча. Сейчас он установил трость промеж широко расставленных колен, сложил на ее круглом стальном набалдашнике руки и уперся в переплетение пальцев плохо выбритым подбородком.
– Ты чего это? – спросил Бредихин.
– Оставь.
По лицу Матвея было видно – думает тяжкую думу.
– Мы же не со зла…
– Оставь.
Бредихин, чуя некоторую свою вину, уж собрался было позвать доктора выпить – тем более, повод такой, что лучше не придумаешь. Перед отъездом в чумную Москву прямой резон пить, не просыхая, до положения риз, чтобы не думать о скверном, потом же, на марше, хмель выветрится.
Вдруг Матвей вздохнул, выдохнул и встал.
– Еду, – объявил он.
– Извозчика тебе поймать? Сейчас велю Илюшке…
– Нет. В Москву с вами еду.
– Матвей, ты сдурел, – сказал на это Бредихин. – Сие у тебя с недосыпу. Поди проспись основательно.
– Нет, слушай… – доктор встал против гвардейца, взял его за плечи. – Знак, разумеешь? Божий знак. Еду, и все тут. Иначе – помру.
– Не помрешь.
– Нет, помру. Ты слушай… Я сегодня с утра… – Матвей задумался, потому что его утро случилось как раз после полудня, но исправляться не пожелал. – …думал. Кто я есть – червяк бессмысленный или Божья душа. Конечно, я человек пьющий. Весьма пьющий. И потому порой полагал, будто Господь меня покинул, коли столько пить дозволяет. Я даже один весь ваш Преображенский полк перепить могу, особливо когда угощают… И сегодня с утра вздумал я, будто Господь обо мне вспомнил. Будто глядит на меня и говорит безмолвно: Матвей, сделай над собой что-нибудь, а я подсоблю. Последний срок тебе, говорит, ты уж немолод, а коли до чертиков допьешься, то тут тебе и погибель… Я, Бредихин, уже дважды чертей ловил, один от меня в печку ускакал, я лбом в заслонку треснулся, лоб рассадил…
– Только дважды? – усомнился Бредихин.
– И вот с утра я живу и жду – протянет мне Господь руку или же нет? А тут – вы в Москву с собой зовете. Решил – еду! Или подхвачу поветрие – так хоть будет кому за мной до смертного часа в бараке присмотреть. Или уцелею… но что-то во мне тогда непременно переменится. Может, от жажды Господь избавит, может, еще что-то произойдет… не ведаю, однако еду! Буду работать в чумных бараках – там не до выпивки. Авось меня чума от нее отучит…
– Дурак, – сказал на это Бредихин. – Давай-ка я тебя домой отправлю.
Но усаженный на извозчика Матвей отправился прямиком к графу Орлову. Тот знал его не первый год – так что врач был допущен к занятому сборами графу и включен в состав экспедиции тем же вечером. Любопытно, что Орлов даже не задал вопроса, по какой причине запойный доктор просится ехать волонтером. Полагал, очевидно, что коли он сам вызвался добровольно, то и для прочих такое поведение естественно…
Преображенцы узнали об этом только накануне отъезда.
Левушка, который наконец дознался, из какой беды матушка должна его выручать, сперва завопил, что он товарищей ни за что не бросит. Потом, понуждаемый Бредихиным, отправился было к матушке – но с полпути вернулся.
– Какого черта? – спросил его Архаров, занятый сборами. Его собственное имущество укладывал денщик Фомка, а сам он занимался имуществом полковым. Рядовых отправляли на телегах, так что следовало озаботиться лошадьми, провиантом, фуражем, проверить всех и все, убедиться в полной готовности, а рядом оказался смертельно перепуганный, но уже принявший единственно возможное решение Левушка.
– Архаров, я со всеми.
Архаров повернулся к нему и посмотрел исподлобья.
Перед ним стоял девятнадцатилетний офицер – не мальчик нарядный, в облаке ароматной пудры и с головой, полной божественных аккордов, а офицер в мундире и при шпаге. И что же теперь – ругать его, жалеть его, отговаривать его?
Архаров решил, что незачем.
* * *
Чем дальше от Санкт-Петербурга – тем яснее ощущалась кратковременность осени.
По всем приметам, вскоре следовало ожидать ранних холодов. Кто-то видел чересчур рано пролетевших к югу журавлей – стало быть, на Покров приморозит.
Офицеры-преображенцы ехали вслед за измайловцами, развлекаясь беседой. Им не часто выпадал такой скорый и долгий марш, так что многие, привычные к верховой езде лишь в таком количестве, какое от них требуется в манеже, чувствовали себя весьма неловко. И Архаров – в том числе.
Он был равнодушен к лошадям, никогда не считал себя хорошим наездником. Смолоду еще бывал в манеже, но с годами убедил себя, что эта наука вряд ли когда в жизни пригодится. Разве что настанет день, когда, чтобы уйти в отставку в наиболее высоком звании, придется перейти ненадолго из гвардии в армию. Да и там не возбраняется офицеру ездить в карете.
Так что чувствовал себя Архаров на марше препогано. В первый же вечер насилу сполз с коня. Но жаловаться не стал – и без того сослуживцы видели, что ему тяжко пришлось. Тем более – продвигались очень споро, не имея возможности отдохнуть. Кавалерию и пехоту на телегах с малым обозом выделили в отдельный летучий отряд – корволант, при нем двигалась и легкая артиллерия. Корволант, возглавляемый Орловым, проходил по девяноста верст в сутки. Немало – но и немного, коли вспомнить, что гонец долетал из Петербурга в Москву за неполных двое суток. С другой стороны, даже если ехать в карете без лишней суеты, но так, чтобы на каждой станции были готовы свежие сменные лошади, то путешествие занимает девять дней. И что там, в Москве, за три дня переменилось бы?
Зато Левушка резвился и наслаждался жизнью. Он-то как раз прекрасно чувствовал себя в седле. И Бредихин тоже перенес злополучный первый день без особых страданий – чем несколько озадачил Архарова. Ему почему-то казалось, что плотный и избегающий уже верховой езды Бредихин должен мучаться не менее его самого.
На четвертый день Архарову не то чтобы стало намного легче, а просто ноги и задница освоились с непривычным положением. К тому же, он часть дороги проделал в карете с медиками. Там доктора, балуясь, пересказывали всякие мрачные истории, связанные с моровой язвой (так они чаще называли чуму), и вычисляли ее подлинное происхождение. Кое-кто в турецкую войну служил в полках румянцевской армии и сталкивался с этой бедой лично. Заодно Архаров наслушался и про шашни в Медицинской коллегии.
Со времен государя Петра Алексеевича повелось, что медициной в России заведовали иностранцы. Их приглашали лейб-медиками ко двору, ставили их руководить госпиталями, больницами и аптеками. Русская речь в Медицинской коллегии и вовсе не звучала. Обеспокоенная этим государыня еще 9 июня 1764 года предоставила (а точнее – силком навязала) коллегии право присуждать степень доктора медицины российским подданным. И с первым же подобным докторским дипломом заварилась каша. Подал прошение о нем, приложив все потребные документы, и выдержал экзамен молодой врач Густав Максимович Орреус. Был он родом из Финляндии, пять лет служил лекарем в действующей армии еще в Семилетнюю войну, однако обрусел настолько, что Медицинская коллегия давать ему диплома не пожелала. Пока Орреус не нажаловался лично государыне – толку не добился. И стал первым российским доктором медицины, открыв тем самым дорогу и другим соискателям.
Сейчас он был уже в Москве и боролся с чумой, которую знал в лицо уже не первый год – у Румянцева он уже служил в должности генерал-штаб-лекаря и истреблял заразу в Валахии.
Архаров понемногу освоился на марше. Когда ранним утром ему подвели оседланного коня, он уже не вздохнул, а просто с некоторым трудом вставил ногу в стремя (Архаров был коротконог, весил пять с половиной пудов, и именно это необходимое упражнение обычно давалось ему нелегко), утвердился в седле и, пока денщик Фомка держал коня под уздцы, несколько подтянул стремена. Отпуская их и потом подтягивая, он создавал своему телу при езде некоторое разнообразие, облегчавшее долгую дорогу.
Утро было ясное и располагающее к хорошему настроению души – настоящее хрустально-ясное утро бабьего лета.
Наскоро поев, как все, из солдатского котла, Архаров позволил себе просто посидеть на пригорке, чтобы потом галопом нагнать своих.
Мимо проехал широкой рысью на вороной кобыле измайловец Петруша Фомин, вертелся в седле, как сорока на колу, – искал знакомцев, к кому пристроиться и болтовней скоротать время. Глядя на него, Архаров ощутил некоторую зависть – ровесники же, одновременно в полки свои поступали, и Фомин был тогда заморышем золотушным, плохо выкормленным. А ныне, глянь-ка, геройский кавалер, под три аршина ростом, красавец, дамский любимец, отчаянная душа! Не в особых чинах, всего-навсего поручик, да вот Архаров капитан-поручик, а что ему с того радости? Никогда не сидеть ему в седле вот этак, гордясь стройным станом, поглядывая на мир свысока. И любовные билетики от придворных дам и девиц все тоже как-то мимо архаровской квартиры проносят, тащат таким вот бравым кавалерам.
Впрочем, зависть сия была последним запоздалым всплеском давней болезненной зависти. Архаров поймал себя на этом слабеньком всплеске и хмыкнул, тут же напомнив себе, что давно успокоился, угомонился, озабочен лишь тем, что связано со службой, а прочее – незначительно и достойно разве что молодых вертопрахов, вроде Левушки. Ему же весной, в мае, стукнуло двадцать девять. Скоро на четвертый десяток перевалит. Не старость, конечно, однако и не юность, а самый прекрасный возраст, когда и сила, и разум, и будущего впереди – много исполненных славными делами лет.
Ровесники… Так красавчик Фомин и помрет в поручиках, на перине, битком набитой любовными билетиками…