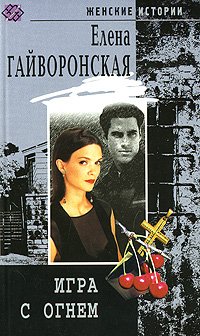Как я объявлял войну Японии Токарева Виктория

* * *
Тогда я еще не был переводчиком. И вообще никем. Куском мяса для большой мясорубки. Мясорубка называлась Курская дуга, и меня повезли в сторону Курска. Но по дороге почему-то передумали и пересадили на поезд, который шел в противоположном направлении. На Дальний Восток. На границу с Японией.
Ехали мы долго. Месяц. И наконец прибыли в медвежий угол, который назывался «Русский край». И действительно казалось, что здесь кончается все русское и вообще все кончается. Край света. И если встать на коленки и хорошо перегнуться за этот край Земли, то увидишь черный космос, как на картинке в детской книге. Короче, дыра дырой, дырее не бывает.
В части я был самый молодой, практически подросток. Меня любили «по-своему». «По-своему» – значит издевались. Не зло, добродушно, как дразнят котят или щенков, с преимущественной долей теплоты, но все же дразнят. Моим однополчанам казались забавными мои очки, малый рост, нежелание материться и пристрастие к стихам. Состав у нас был рабоче-крестьянский. Интеллигентскую прослойку представлял один я. Меня звали «недолугий». Что это значит, я не знаю до сих пор. Может быть, недоделанный. Но это не так. Я писал солдатам, вернее, солдатским девушкам, письма в стихах. Мне доверялось самое святое. Так что недоделанным я считаться не мог. За сорок пять лет я пролистал практически все словари, но слова «недолугий» так и не встретил. Видимо, это словотворчество.
Я сочинял письма другим, а своей девушки у меня не было. Была только мама, которую я любил с тех пор, как помнил себя. Она была по-настоящему красивой и по-настоящему умной. Она умела различать в жизни крупное и мелкое и не путать одно с другим, и в ней не было шелухи. Свойственной глупым людям. А еще мама была модница и очень веселая. Человек-праздник. Я всю жизнь искал женщину, похожую на маму, но так и не нашел. Она была одна. И в каком-то смысле она испортила мне жизнь. Когда смотришь на солнце, то потом ничего не видишь вокруг себя. Одни зеленые пятна. Хотя вокруг может быть много ценного.
Я родился недоношенным, рос слабым и действительно выглядел «недолугим» рядом с мамой. Когда нас видели вместе, то в каждых глазах я читал: «Такая мама и такой сын…» А некоторые прямо так и произносили. Именно этим текстом. С тех пор я ненавижу бесцеремонных людей. Бесцеремонность – это вид хамства.
Я любил маму еще потому, что она любила меня. Я казался маме невероятно умным, почти вундеркиндом, и невероятно обаятельным. Больше я никому не казался таким. И рядом с мамой меня никто не мог унизить.
Это чувство – отсутствие унижения – я испытывал в двух случаях: с мамой и на Западе, куда я стал ездить как переводчик немецкой поэзии.
Самое большое унижение – это страх. Но Сталин мог играть только на такой гитаре, когда все колки закручены и струны напряжены до последнего предела.
Ко мне иногда приходят странные мечтания: хорошо бы Сталин воскрес и явился на Верховный Совет послушать – как и чего. Явился бы и сел в президиум и приготовился к привычному славословию. А ему бы депутаты-демократы каждый по очереди вломили бы все, что о нем думают. Хотел бы я посмотреть на его усатую узколобую тяжелую рожу… Он бы глазами – туда-сюда: где Берия? Где сталинские соколы? Другие лица. Другие времена…
А еще я мечтаю, чтобы воскресла царская семья и вошла бы в зал Верховного Совета. Царевич в матроске, а девушки в белых платьях. И зал бы приветствовал их стоя и плакал. И они сами тоже плакали.
И вся страна перед телевизорами плакала бы. И после этого настало бы в нашей жизни что-то очень хорошее. Потому что на невинной крови ничего нельзя выстроить. Вернее, можно: то, что мы выстроили… Да… Так о чем я? О маме и папе.
Папу я тоже любил, но он был из тех, кто предпочитал жить в свое удовольствие. Если, скажем, он устремляется на кухню выпить воды, а на пути – кошка, он отшвырнет ее тапкой. Не убьет, не приведи Господь, но отшвырнет, потому что кошка на пути к цели.
Как правило, такие люди не умеют думать ни о чем, кроме своей цели. Хорошо, если цель крупна. Крупнее стакана воды. У отца не было друзей, и он был одинок в конечном счете.
Я сделал вывод: надо жить в свое удовольствие, но своим удовольствием избрать делание добра – добродетель. Все взаимосвязано: ты удоборяешь (опять от слова «добро») – тебе растет. И на земле. И в душе.
Жил отец долго, до девяноста лет, поскольку ничего не брал в голову, нервы у него были крепкие, как веревки. Под конец как бы сбрендил, но он сам этого не заметил, и мы тоже не замечали, потому что перестали в него вникать задолго до того, как он сбрендил.
Но о чем это я? Защита восточной границы не занимала моего ума. Я томился каким-то лучезарным томлением и все время чего-то ждал: конца войны, победы над врагом, возвращения к мирному времени, в котором я задохнусь от счастья. Именно задохнусь, именно от счастья. А мясорубка войны работала неустанно и у нас, и у немцев, и Гитлер с Евой Браун уже отпраздновали в бункере свою свадьбу, чтобы в законном браке отметить следующее мероприятие: свою смерть.
И Магда Геббельс уже взяла мужа под руку и пошла с ним в последний путь, ожидая пули в затылок.
А я томился своим лучезарным томлением, и кончилось все тем, что влюбился в местную девушку. От нее восхитительно пахло простым мылом. До сих пор помню этот запах и ее натянутый лобик. Кожа такая гладкая, что блестела. Глаза голубые-голубые, доверчивые. А мне не доверяла, и уговаривать пришлось долго. Я клялся, божился в вечной любви и сам себя уговорил. Я действительно влюбился, как это бывает в двадцать лет. Бывает и позже, и в сорок, и в шестьдесят, но тогда включается опыт. А в двадцать лет ничего не включается, одна сплошная любовь. Я ходил и бредил, бормотал стихи. Наверное, тогда я становился поэтом.
Моя девушка мне не доверяла и правильно делала. Война подходила к концу. Солдаты разъедутся и тоже правильно сделают: кому охота застревать в этой дыре, когда победа не за горами, и вся жизнь впереди, и Родина воздаст солдату, отблагодарит за победу. Но Сталин счел, что благодарность – это собачья болезнь. Родина тебе ничего не должна, ты ей должен все и всегда.
Мы еще этого не знали. Мы верили. Любили. Были молоды, а молодость сама по себе сокровище, независимо от того, в какое время она отпущена, твоя молодость.
Я поначалу не особенно нравился моей девушке: маленький, очкастый, нерешительный. У нас такие орлы были – Валерка Осипов, например: высокий, статный, глаза горят мрачным пламенем. Говорили, сама генеральша, жена генерала Самохвалова, голову потеряла до того, что за генерала обидно.
А я что… Зато я знал много стихов. До сих пор не понимаю, как у меня в голове столько умещалось. Целая библиотека. Вот сейчас, например, вся память стерлась. Даже имена не помню. Встречаю знакомого, думаю: как его зовут? Ставлю себе вопрос: КАК ЕГО ЗОВУТ? Мысленно отвечаю: ПАВЕЛ. И только после этого: «Здравствуйте, Павел».
А тогда… Моя девушка, конечно, ничего не понимала в поэзии. Она работала в деревне почтальоном. Но ее слух завораживали рифмованные строчки. Она как бы впадала в гипноз и, находясь под гипнозом, могла поверить во что угодно. В то, что я умный, например, и необыкновенный. Все обыкновенные, а я нет. В этом она совпадала с мамой. Вообще я заметил, что любовь обряжает человека, высаживает клумбы у него на голове. А ненависть раздевает догола, и человек становится серийный, заурядный, в общем ряду и даже в хвосте человеческого ряда.
Моя девушка считала меня необыкновенным, а раз я выбрал ее, то свет избранности лежит и на ней, моей девушке. И ей уже хотелось быстрее окончить свою работу, видеть меня, слышать и уважать.
Однажды ее мать уехала в соседнюю деревню обвывать погибшего деверя. Война все еще шла, гибли отцы, и дети, и девери, и шурины, и свояки, и вой стоял над Россией, как пар над закипевшей кастрюлей. Кто такой деверь, равно как и шурин, я не знаю до сих пор. Но это не важно. Важно то, что я читал ей стихи не на улице, а у нее дома. Над столом висел абажур, к стене прилепились бесчисленные фотографии.
Я принес банку американской тушенки и сгущенное молоко. Тушенку она прибрала на потом, а сгущенное молоко мы ели с хлебом. Сорок пять лет прошло, а я помню, как было вкусно. С тех пор я много пробовал изысканных блюд, например, дыню с креветками, обезьяньи мозги, устриц, да мало ли чего придумало сытое человечество. Но такого гастрономического наслаждения я не испытывал никогда. Мы ели и неотрывно смотрели друг на друга, что тоже было большим счастьем. Два счастья: зрительное и вкусовое.
Потом мы легли на кровать одетыми. Мы не раздевались и тем самым как бы заключили уговор: ничего не будет, просто так полежим. Мы просто целовались, каждый поцелуй длился все дольше. Незаметно включились руки. Я довольно быстро нашел руками то, что искал. Она дернулась, но я каким-то образом дал понять, что уговор в силе, опасности для нее нет, что дальше жеста дело не пойдет. Моя девушка поверила, расслабилась.
Я поразился, до чего незащищенно-нежной бывает человеческая плоть, как лепестки мака. Я, как слепой, осторожно исследовал миллиметр за миллиметром.
Дело двигалось в неотвратимом направлении, так подбитый самолет может устремляться только вниз и ни в коем разе вверх.
Я пытался расстегнуть свои одежды, моя девушка мне помогала и тряслась, как в ознобе, наши пальцы сплетались, путались. Ничего не имело значения: ни моя мама с ее высоким уровнем, ни война, ни будущее моей девушки, только настоящее, сиюминутное, сейчас.
«Блажен, кто, познавая женщину, охранен любовью». Я был охранен любовью, а потому блажен и подвигался к главному событию своей жизни. Но в этот момент, за секунду до главного события, постучали в окно, и жизнерадостный голос Семушкина громко сообщил:
– Левка, тебя в штаб вызывают.
Этот стук и голос ударили меня, как дверью по лицу, и полностью выключили из состояния любви.
Семушкин знал, куда я пошел, доложил остальным, и они всем скопом решили поразвлечься. Что им до моей любви?.. А когда я вернусь, меня встретит дружный хамский гогот, потому что смехом это не назовешь. Коллективное ржание. Коллектив.
Я застегнул свои солдатские брюки. Я так ничего и не свершил. И слава Богу. Какой был бы ужас, если бы моя девушка теряла невинность под окрик Семушкина. Это осталось бы с ней на всю жизнь.
Что я мог сделать? Я мог встать, разыскать Семушкина и набить ему морду. Я зажмурился и представил в подробностях, как я посылаю кулак в бесцеремонную наглость всего человечества, и эта наглость имеет черты Семушкина. Я ненавидел и лежал в ненависти, как в кипятке. Сейчас я понимаю: ненависть – это тоже страсть.
Сейчас я уже не могу так остро ненавидеть. Бывает, конечно: взметнется ненависть, как волна, и тут же опадет, и только пена на поверхности, а потом и пена рассеется. Жалко тратить здоровье на ненависть: давление скачет. Голова болит… Да… Лежу. Ненавижу. Моя девушка, она так и осталась девушкой, принялась утешать меня. Она низко наклонилась над моим лицом и шептала что-то нежное, утоляющее душу. Ее шепот касался моей кожи, я слышал губами, как шевелятся ее губы. Но я настаивал на обиде, как будто моя девушка была виновата в хамстве Семушкина. Мы как бы поменялись с ней местами: это я боюсь потерять невинность, не дай Бог забеременеть и остаться с ребенком на произвол судьбы.
Постепенно ее шепот и нежные увещевания взяли свое, я тихо-тихо начал перестраиваться на прежнюю стезю. Начал все сначала: с поцелуя. Я уже не был новичок, я уже знал, что за чем и в какой последовательности.
У Бернса есть стихи в переводе Маршака:
«А грудь ее была кругла, как будто ранняя зима своим дыханьем намела два эти маленьких холма. Был нежен шелк ее волос и завивался, точно хмель, и вся она была чиста, как эта горная метель. Она не спорила со мной, не открывала милых глаз…»
Моя девушка тоже не спорила со мной. Была готова на все. Красный свет запрета переключился на зеленый. Путь был открыт, но в этот момент снова раздался стук в окно и раздраженный голос Семушкина прокричал:
– Левка! Ну какого хрена? Тебя в штаб вызывают!
Я откинулся на подушку. Во мне разлилась немота и плоти, и духа. Ну как можно жить в этом мире, где Бернс и Семушкин и где Семушкин оказывается реальнее?
– Слушай, а может, тебя действительно вызывают? – предположила моя девушка.
Коварство было ей не свойственно, и она не предполагала его в других.
Я посмотрел на часы. Шел второй час ночи. Кто вызывает в такое время? Но так или иначе ночь была испорчена. Я оделся и пошел в штаб. На всякий случай.
Если меня не вызывали, я вернусь и застрелю Семушкина. Правда, у него тоже есть мама, и придется ей писать письмо и объяснять причину. Причина в маминых глазах будет выглядеть неубедительно. Ладно, не застрелю. Но изметелю, буду топтать ногами. Я как-то не учитывал, что Семушкин на треть метра выше меня и на тридцать килограммов тяжелее и вряд ли захочет лежать под моими ногами и меланхолично сносить мою ярость. Было прохладно, я шел скоро и ходко. Пространство и время постепенно выветривали из меня мою ненависть. Я решил, что воздействие словом тоже очень сильное воздействие, надо только найти единственно нужные слова и правильно их расставить.
Я мысленно намечал тезисы и не заметил, как дошел до штаба. Штаб располагался в деревянной избе. Я вошел и замер от золотого сверкания. Передо мной в золоте погон и наград, как иконостас, стоял сам маршал, я узнал его по портретам. Возле маршала присутствовал генерал Самохвалов. Он всегда казался мне величественным, монументальным, но сейчас как-то пожух и потускнел, как будто маршал вобрал в себя весь свет, оставив все остальное в тени – и деревянную избу, и генерала Самохвалова, и меня вместе с моей любовью.
– Печатать умеешь? – спросил маршал.
На столе стояла пишущая машинка фирмы «Континенталь». Такая же стояла у меня дома на письменном столе.
– Умею, – сказал я.
Я понял, что меня искали как самого образованного солдата.
– Садись, будешь печатать, – велел маршал каким-то домашним, бытовым голосом.
В Америке, например, булочник и президент не то чтобы равны… Нет, конечно, но это два человека с разными профессиями. Один правит, другой печет хлеб. Но они оба – люди. Сталин вбил нам в голову иную дистанцию: он – голова в облаках, а ты – заготовка для фарша в его мясорубке. Поэтому, когда сталинский сокол нормальным голосом спрашивает тебя, умеешь ли ты печатать, тут можно в обморок упасть.
Но я не упал. Я сел за машинку, а генерал Самохвалов стал диктовать мне текст. В нем сообщалось, что такого-то и во столько-то Советский Союз объявляет войну Японии. Такого-то – это сегодня, в шесть часов утра. А сейчас два часа ночи. Значит, через четыре часа.
Я отстукал двумя пальцами продиктованные слова. У меня вспотели ладони.
– Можешь идти, – отпустил маршал.
Я поднялся на ватных коленях.
– За разглашение тайны расстрел без суда и следствия, – предупредил Самохвалов. – Понял?
– Да, – сказал я.
Это значит, если я сейчас выйду из штаба и кому-нибудь расскажу, что через четыре часа начнется война с Японией, в меня тут же выстрелят, а потом зароют на полтора метра в землю вместе с моим лучезарным томлением, стихами, моей плотью, никогда не познавшей женщины.
– Ты меня понял? – еще раз переспросил Самохвалов.
– Да, – подтвердил я.
Я повернулся и пошел и был уверен, что мне выстрелят в спину. Мир сталинской политики и уголовный мир имели одни законы: не оставлять свидетелей. Может, не скажешь, а вдруг скажешь? Зачем рисковать?
Я шел и ждал, как Магда Геббельс, с той разницей, что в нее должны были выстрелить по ее желанию. Она сама об этом попросила.
У тела свои законы. Когда оно ждет любви, оно устремляется к предмету любви, выдвигая навстречу все, что может выдвигаться. Когда оно ждет смерти, оно сжимается до плотности металла, и даже кровь как будто прессуется, а глаза вылезают от нечеловеческого напряжения. Мне казалось, что сейчас мои глаза вывалятся из орбит и скатятся на землю, как две большие густые слезы… А что я мог сделать? Я мог только идти. И я шел. И ждал спиной, участком между лопатками, и от этого мое тело выгибалось, как будто я хотел вобрать в себя свою спину.
Никогда больше я ТАК не боялся.
Вообще в тот вечер, вернее, в ночь, я впервые испытывал главные человеческие состояния: ЛЮБОВЬ, НЕНАВИСТЬ, СТРАХ.
Я и позже любил, ненавидел, боялся, но уже по-другому. С иммунитетом.
Я шел, а выстрела все не было. Я больше не мог находиться в безвестности, обернулся и увидел, что расстояние между мной и штабом пусто. Никто за мной не идет, и никто не целится. Может быть, маршал и Самохвалов сели пить чай. Объявили войну и уселись за самовар или за рюмочку, отметить мероприятие. А возможно, легли спать. Ведь уже третий час ночи. Даже птицы спят в это время.
Напряжение во мне спало и единомоментно превратилось в свою противоположность. Я был уже не твердое тело, а какая-то желеобразная субстанция, которая не могла держаться на ногах. Я привалился к дереву. Мои внутренности будто опали и осыпались в конец живота и пульсировали как попало.
Идти я не мог. Да и куда? К моей девушке? Но запретная тайна заполняла меня от макушки до пят, и для любви там уже не было места. В казарме – Семушкин. Я приду, Семушкин проснется и спросит:
«Зачем тебя в штаб вызывали?»
Я скажу: «Да так, ни за чем».
«Ни за чем не вызывают, – не поверит Семушкин. – Говори…»
И я не смогу соврать. Не сумею. Ложь и тайна (что тоже форма лжи) не удерживаются во мне, как испорченная пища. Мне хочется исторгнуть это из себя, иначе наступит полное отравление организма. Я физически не умею хранить тайны. Из меня никогда не вышел бы шпион.
Я решил пересидеть в лесу до шести утра, до тех пор пока не начнется война.
– Левка! – услышал я ленивый голос. – Поди сюда!
Я обернулся и разглядел фигуру Валерки Осипова. Он стоял в сером тумане раннего утра и мочился.
– Чего тебе? – Я не двинулся с места. Подозрительно следил за Осиповым. Он мочился шумно и мощно, как конь.
– Иди ближе. Что я, орать буду?
Я сделал два шага в его сторону и снова остановился на безопасном расстоянии.
– Ну подойди, ей-богу…
Валерка стоял такой полноценный, уверенный в себе. А я такой запуганный, зачуханный, что мне стало обидно за себя.
Я подошел вплотную и бесстрашно посмотрел в его глаза. Снизу вверх, но как бы на равных.
– Ну, чего тебе? – небрежно поинтересовался я.
– Наши войну Японии объявили, – сообщил Валерка, застегивая штаны.
Я оторопел:
– А ты откуда знаешь?
– Мне Самохвалиха сказала: приходи, говорит, ночью. Мой в штаб уйдет. Я говорю: а вдруг вернется? Не вернется, говорит, они сегодня Японии войну объявлять будут. – Валерка застегнул штаны и пошел – легко и красиво, свободный ото всех лишних наполнений в организме.
Я до сих пор помню, как он шел в рассветной мгле и как вообще передвигаются молодые и счастливые люди.
В меня вдруг вернулась упругая сила, и я всю ее употребил в скорость. Я бежал к своей девушке и стучал, стучал, стучал… Она открыла мне – сонная, беззащитная, в шелке волос.
Война с Японией закончилась двумя бомбами на Хиросиму и Нагасаки. Я объявил войну, американцы закончили. Но это было через несколько месяцев.
А сейчас я прижимал к себе мою девушку, как будто держал в руках свою вернувшуюся жизнь. А так оно и есть, ибо ЖИЗНЬ и ЖЕНЩИНА – это одно и то же.