Из жизни миллионеров Токарева Виктория
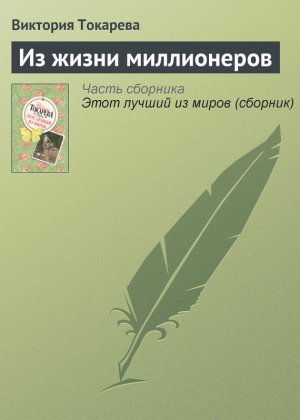
* * *
Улетела в Париж по приглашению издательства. Рядом со мной сидела переводчица Настя, по-французски ее имя звучит Анестези. Вообще она была русская, но вышла замуж за француза и теперь жила в Париже. В Москве остались ее родители и подруги, по которым она скучала, и в Москве обитали русские писатели, на которых после перестройки открылась большая мода. Настя приезжала и копалась в русских писателях, как в сундуке, выбирая лучший товар. Это был ее бизнес.
Поскольку писатели в большинстве своем мужчины, а моя переводчица – женщина тридцати семи лет, в периоде гормональной бури, то поиск и отбор был всегда захватывающе веселым и авантюрным.
Настя наводила у меня справки, спрашивала таинственно: «А Иванов женат?» Я отвечала: «Женат». – «А Сидоров женат?» Я снова отвечала: «Женат». Все московские писатели почему-то были женаты. Но ведь и Анестези была замужем. Я думаю, она подсознательно искала любви с продолжением и перспективой. Женщина любит перспективу, даже если она ей совершенно не нужна.
У Анестези были ореховые волосы, бежевые одежды, она вся была стильно-блеклая, с высокой грудью и тонкой талией. Одевалась дорого, у нее были вещи из самых дорогих магазинов, но обязательно с пятном на груди и потерянной пуговицей. Неряшливость тоже каким-то образом составляла ее шарм. Она безумно нравилась мужчинам.
Именно безумно, они теряли голову и становились неуправляемы, и делали все, что она хотела. Это тоже входило в бизнес. Настя скупала русских писателей за копейки, и они были этому очень рады.
Самолет взлетел. Я видела, как человек, сидящий впереди, осенил себя крестом, а потом отвел руку чуть вперед и вверх – и перекрестил самолет. Мне стало грустно, непонятно почему. Самолет – это всегда грань. Интересно, когда люди гибнут скопом – это что-то меняет? Это не так обидно, как в одиночку? Или все равно?..
– Я люблю своего мужа, – сказала вдруг Анестези. Видимо, у нее тоже появилось тревожное чувство.
Самолет взлетел и взял курс на Париж. В это же самое время где-то в Гренландии поднялся в небо ураган, в дальнейшем ему дали имя «Оскар», и тоже направился в сторону Парижа. Оскар и самолет с разных концов летели в столицу Франции.
– Я его люблю страстно, – добавила переводчица глухим голосом.
– Тогда почему ты все время уезжаешь из дома? – удивилась я.
– У него секретарша. Полетт. Только ты никому не говори.
– Откуда ты знаешь?
– Они проводят на работе по восемь часов. И всегда вместе.
– Ну и что? Это его работа.
– Когда люди все время вместе, они становятся ОДНО. Он ходит домой только ночевать.
– Это тоже много, – сказала я. – Где бы ни летал, а приземляется на свой аэродром.
– Не хочу быть аэродромом. Я хочу быть небом. Чтобы он летал во мне, а не приземлялся.
– А сколько вы женаты? – спросила я.
– Двадцать лет. Он мой первый мужчина, а я его первая женщина. Он захотел взять новый сексуальный опыт.
Последняя фраза звучала как подстрочник. И я поняла, что Настя, когда волнуется, начинает думать по-французски.
Я не предполагала в Анестези таких глубоких трещин. Я думала, у нее все легче, по-французски. Между ее высоких ног прятался маленький треугольник, наподобие Бермудского, куда все проваливались и исчезали без следа. Все, кроме одного. Ее мужа.
– Ты боишься, он уйдет? – спросила я.
– Нет. Не боюсь. Он любит нашу дочь.
– Значит, он останется с тобой…
– Но будет думать о другой.
– Пусть думает о чем хочет, но сидит в доме.
– Только русские так рассуждают.
– Но ведь ты тоже русская, – напомнила я.
– Держать в руках НИЧТО. Но держать. Лучше умереть, чем так жить!
– Нет, – сказала я. – Лучше так жить, чем умереть.
Я была воспитана таким образом, что главная ценность – семья. Нужно сохранять ее любой ценой, в том числе и ценой унижения. Кризис пройдет, а семья останется.
Анестези привыкла быть самой лучшей. И подмена ее треугольника другим воспринималась ею как смерть внутри жизни. Она бунтовала словом и делом. Но ничего не помогало.
– Я люблю его страстно, – снова повторила она.
На этих словах самолет и Оскар встретились друг с другом. Оскар обнял самолет и сжал его. Самолет затрепетал, как рыба, выброшенная на берег.
Погас свет. Кто-то закричал.
Переводчица заерзала на месте, стала шуровать рукой в своей сумке.
– У тебя есть карандаш? – спросила она.
– Зачем тебе?
– Я напишу мужу прощальное письмо. Чтобы он не женился на Полетт. Никогда.
– Очень эгоистично, – сказала я.
Мне стало плохо. Казалось, что печень идет к горлу. Это самолет резко терял высоту.
Я хотела спросить: а кто передаст письмо ее мужу, если самолет разобьется? Хотя листок бумаги не разбивается, и его можно будет найти среди пестрых кусков из тел и самолета.
Японцы молились и молчали. Я закрыла глаза и тоже стала молиться. Молитв я не знаю и просто просила Бога по-человечески: «Ну, миленький, ну пожалуйста…» Именно такими словами моя дочка просила не отводить ее в детский сад и складывала перед собой руки, как во время молитвы.
Японцы молчали, закрыв глаза. Орали европейцы. Но, как выяснилось, напрасно орали. Командир корабля резко снизил высоту, опустил машину в другой воздушный коридор, вырвался из объятий Оскара. И благополучно сел. И вытер пот. И возможно, хлебнул коньяку.
Ему аплодировали японцы, и американцы, и африканцы. Белые, желтые и черные. А он в своей кабине слушал аплодисменты и не мог подняться на ватные ноги.
Оскар кружил над городом, сдирал с домов крыши и выдергивал из земли деревья.
Самолет не мог подкатить к вокзалу. Все стали спускаться по трапу на летное поле. Внизу стояла цепочка спасателей в оранжевых жилетах. Они передавали людей от одного к другому. Оскар пытался разметать людей по полю, но спасатели стояли плотно – через один метр. Один кинул меня в руки второго, как мяч в волейболе, другой – в руки третьего. И так – до здания аэропорта.
Наконец меня втолкнули в здание. Все – позади. Я засмеялась, но на глаза навернулись слезы. Все-таки не очень приятно, когда тебя кидают, как мяч.
Подошел спасатель и спросил меня:
– Вам плохо? Вы очень бледная.
– Нет, мне хорошо, – ответила я.
Мы пошли получать багаж. Анестези сняла с ленты свою объемистую сумку на колесах. Мы ждали мой чемодан, но он не появился.
Мы стояли и ждали. Уже три раза прокрутилась пустая лента. Моего чемодана не было и в помине.
– Стой здесь, – приказала Настя и отправилась выяснять.
Она вернулась через полчаса и сказала, что в связи с ураганом произошли поломки в компьютерах, и мой чемодан, по всей вероятности, отправился в Канаду.
– А что же делать? – испугалась я.
В чемодане лежали мои лучшие вещи. Практически все, что у меня было, находилось в чемодане.
– Скажи спасибо, что пропал только чемодан, – посоветовала Настя.
– Спасибо, – сказала я.
Мы куда-то пошли и стали заполнять какие-то формуляры, давали описание чемодана, цвет и форму. Француженка, которая нами занималась, была похожа на лошадь с длинным трудовым лицом.
Меня по-прежнему подташнивало. Видимо, организм не отошел от потрясения. Я забыла, а организм помнил.
И все-таки можно сказать, что все плохое позади. Впереди – четыре дня в Париже, выступление по телевизору, встречи с журналистами. Анестези должна меня «раскрутить», сделать рекламу. Впереди – Нотр-Дам, Эйфелева башня, луковый суп и прогулки по Галери Лафайет.
Я знала Францию по французским фильмам, песням Ива Монтана и Шарля Азнавура, по перламутровому облику Катрин Денев. Теперь мне предстояло совместить то, что я предполагала, с тем, что было на самом деле.
– А где я буду жить? – вдруг вспомнила я.
– У Мориски.
– Это отель?
– Нет, это имя. Мориска – мой друг.
– А разве мне не полагается отель? – холодно спросила я.
– Полагается. Но издательство экономит, – объяснила Настя.
Я поняла: на эту тему надо было говорить в Москве, договариваться на берегу. А сейчас – дело сделано. Я уже в Париже. Не возвращаться же назад. На это они и рассчитывали. Теперь я буду ночевать у Мориски на диване.
– Сколько ему лет? – спросила я.
– Шестьдесят, – ответила Настя. Подумала и уточнила: – Шестьдесят три.
Зачем пожилому человеку брать в дом незнакомую женщину?
– Он твой любовник? – догадалась я. Анестези не ответила, ее лицо было озабоченным.
– Самолет опоздал на два часа. Я боюсь, он не дождался и ушел.
Мориски нет. Гостиницы нет. Чемодана нет. Париж, называется…
Мы прошли таможенный контроль, вышли в зал ожидания.
Анестези поводила головой, как птица. Лицо ее стало напряженным от подступающих проблем. Куда меня девать? Селить в гостиницу, триста франков за сутки, или тащить к себе домой, в сердце семьи. Из подруги я превращаюсь в нагрузку.
– Вот он! – вдруг увидела Анестези. – Морис! – Она закричала так, будто ее уводили на смертную казнь. – Морис!
И побежала куда-то вправо. Морис – высокий, в длинном плаще и маленькой кепочке – встал ей навстречу. Они обнялись, и я увидела: конечно же, любовники. Или бывшие любовники. Именно поэтому Морис согласился взять меня на четыре дня. Вошел в положение.
Я не рассматривала Мориса, но увидела все и сразу. Самым удачным были рост и одежда. Все остальное никуда не годилось: круглые немигающие глаза, тяжелый нос, скошенный подбородок и пустая кожа под подбородком делали его похожим на индюка. Законченный индюк.
Анестези представила нас друг другу. Я назвала свое имя, он протянул большую теплую сухую руку, совсем не индюшачью.
Настя сообщила о пропаже чемодана, я поняла это из слова «багаж». Морис сделал обеспокоенное лицо, и они с Настей пошагали по моим делам.
Он мог бы не заниматься моим чемоданом, но у него была развита обратная связь. Он умел чувствовать другого человека.
Они быстро отошли и довольно быстро вернулись.
– Сегодня не найдут, – сказала Настя. – Но к твоему отъезду отыщут.
– А в чем я буду выступать по телевизору? – спросила я.
На мое лицо легла трагическая тень. Морис увидел эту тень и спросил, в чем проблема. Я узнала слово «проблем». Настя ответила. Я узнала слово «робе», что означает платье.
Морис торопливо заговорил, свободно помахивая в воздухе кистью типично французским жестом.
– Он сказал, что купит тебе платье у Сони Рикель.
Соня Рикель – одна из лучших кутюрье Франции. Всех моих денег не хватит на один карман такого платья. Я сказала:
– Не надо ничего. Я надену на плечи русский платок. Буду как матрешка.
Морис с детским вниманием всматривался в наши лица, как глухонемой. Он ничего не понимал по-русски. Я заметила: на Западе говорят на всех языках, кроме русского. Русский не считают нужным учить, как, например, японский или суахили.
Мы вышли из здания аэропорта. Анестези вышагивала оживленно, немножко подскакивая. Она была рада, что все складывалось: самолет сел, Морис встретил, сейчас мы пойдем ужинать в ресторан, пить много сухого вина. Несмотря на то что Анестези испытывала настоящие муки ревности, ей это не мешало жить полно и ярко: путешествовать, заниматься издательским бизнесом, художественным переводом, крутить роман с Мориской, использовать его. И у нее все получалось, включая переводы. Она была талантлива во всем.
Я шла рядом с ней, как некрасивая подруга. Вообще-то мне всегда хватало моей внешности, и я не привыкла быть на вторых ролях, но рядом с Анестези мне нечего делать. Ее внешность, помимо природных данных, была сделана гениальным стилистом, и этот стилист – ее жизнь. А мой стилист – Москва периода перестройки.
Анестези может позволить себе старого индюка, и молодого красавца, и женщину-лесбиянку, потому что она – хозяйка. Себе и своему треугольнику. Она – свободный человек. А я опутана совковой моралью типа: «Не давай поцелуя без любви», «Поцелуй без любви – это пошлость». Но ведь помимо любви на свете существуют: страсть, желание, влюбленность. Именно они наполняют жизнь и расцвечивают ее, как фейерверк в темном небе. Но такие мелочи, как желание и страсть, не брались в расчет нашей коммунистической моралью. И несмотря на то что прежняя идеология рухнула, совковые идеи въелись намертво, как пыль в легкие шахтера.
Я иду рядом с Анестези и все понимаю. В этом моя сила. Уметь оценить ситуацию и себя в ситуации – значит никогда не оказаться в смешном положении.
Морис подвел нас к длинной синей машине марки «ягуар».
– Это его машина? – удивилась я.
– У него три машины, – сказала Настя.
– Он что, богатый? – заподозрила я.
– Миллионер. Он входит в десятку самых богатых людей Франции.
Мы забрались внутрь машины. Я – рядом с Морисом. Анестези – за моей спиной, самое безопасное место.
Мы тронулись. Красивые сильные руки Мориса касались руля. Я искоса поглядывала на него.
Если взять Пушкина в отрыве от его имени, что можно увидеть? Тщедушный, узкогрудый, маленький, с оливковым лицом и лиловыми губами. Обезьяна. Но когда понимаешь, что это Пушкин, уже не видишь ни роста, ни отдельных черт лица. Преклоняешься перед энергией гения и жалеешь, что он умер до того, как ты родилась. Хорошо бы такой человек жил всегда. Природа обязана делать исключения для таких людей.
Не буквально, но нечто похожее я испытывала в отношении Мориски. Его немигающие глаза показались мне пронзительно-умными, умеющими видеть проблему во все стороны, и в глубину прежде всего. Пустая кожа под подбородком ничему не мешала. Он мог бы сделать пластическую операцию. Но зачем? Он ведь не женщина, а мужчина. И не просто мужчина, а миллионер. Хозяин жизни.
Морис достал из-под сиденья две коробки шоколада. Одну протянул мне, другую Анестези. Я была голодна и тут же начала жевать.
– Перестань жрать, – сказала Анестези по-русски. – Мы едем ужинать.
– Что? – переспросил Морис.
– Ничего, – ответила Анестези, и я поняла, что она не предательница. Она не хочет хорошо выглядеть на моем фоне. Я закрыла коробку, потом подняла глаза и в этот момент увидела, как по воздуху плывет лист металлического шифера. Он бесшумно, медленно плыл навстречу машине, на уровне моих глаз. Я мгновенно поняла: это Оскар сорвал с ближайшего строения кусок крыши, и сейчас мы встретимся в одной точке.
Лист железа влетел в лобовое стекло. Я вскрикнула и закрыла лицо руками. Раздался глухой удар по стеклу, потом грохот от скатывающегося железа.
Морис негромко воскликнул: «Ах…» Остановил машину. Вышел и посмотрел. На стекле – царапина, на правом крыле – вмятина. И это все. Видимо, стекло у «ягуаров» имеет особую прочность, равно как и металл.
Если бы кусок железного шифера влетел в мою московскую машину, я осталась бы без носа или без глаз. А тут я отделалась легким «ах», и то не своим, а Мориса.
Морис вернулся в машину и что-то сказал Анестези.
– Он спрашивает, какую кухню ты предпочитаешь: японскую, китайскую, итальянскую или французскую.
Я задумалась. В японском ресторане надо есть палочками, я не справлюсь и начну есть руками, поскольку вилок там не дадут.
– Мне все равно, – сказала я и посмотрела на Настю, перекладывая на нее проблему выбора.
– Как обычно, – сказала Настя. Видимо, у них с Морисом было свое любимое место.
Мы сидим в маленьком китайском ресторане. К Морису выходит хозяин, неожиданно рослый для китайца. Скорее всего полукровка: китаец с французом. Но волосы и глаза – принадлежность желтой расы. Они говорят по-французски. Я улавливаю слово «пуассон», что означает рыба. Видимо, Морис с хозяином обсуждают: когда поймана рыба, сколько часов назад, и чем поймана – крючком или сетью. На крючке рыба долго мучается и в результате пахнет тиной. А рыба, пойманная сетью, не успевает ничего понять и пахнет только рекой, солнцем и рыбьим счастьем.
Китаец с удовольствием ведет беседу и не смотрит на нас. Мы ему неинтересны. Ему интересен постоянный клиент-миллионер.
Анестези вытащила зеркальце и проверяет грим. Ее ореховые волосы стоят облаком и блестят от физического здоровья. Декольте низкое, видна стекающая вниз дорожка между грудями, губы горят, как будто она долго целовалась. Таинственный треугольник тоже горит, и она сидит на нем, как на сковороде. При этом она ничего не делает, просто смотрит перед собой застывшими, чуть выпуклыми глазами.
Морис спокоен или просто держит себя в руках. Красивые руки спокойно лежат на белой скатерти. Сильные пальцы, ровные по всей длине. Мои мысли никто не может подслушать, и я втайне ото всех и от самой себя допускаю мысль, что таким же должен быть его основной палец: сильный и ровный по всей длине. Я где-то читала, что пальцы и детородный орган природа выкраивает по одному рисунку. Не будет же природа каждый раз придумывать и выдумывать. Внутри одного человека она работает по одному лекалу. Интересно: как по-французски член? Наверное, так же как и по-русски.
Появляется официант, маленький и тонкий, как стрела. Над столом в красивом рисунке движутся его руки. Ни одного лишнего или неточного движения. Интересно, сколько Морис оставляет на чай? Я слышала: чем богаче человек, тем он жаднее. Если бы я была миллионерша, я бы занималась благотворительностью, потому что отдать гораздо плодотворнее, чем взять. Но я никогда не буду миллионерша. Я зарабатываю на жизнь честным красивым трудом. А честным трудом миллионов не заработать.
– Какой у него бизнес? – спросила я переводчицу.
– Тяжелые металлы, – ответила Настя.
– А что он с ними делает?
– Хер его знает. Во всяком случае, не грузит.
Настя была чем-то раздражена. Скорее всего тем, что Морис не входит в ее облако. Не дышит им. Не заражается влажным сексом. Сидит, как в противогазе. И как на него влиять – непонятно.
Официант поставил блюдо с уткой и большой салат. Салат имел все оттенки зеленого и сиреневого, при этом был не нарезан, а порван руками. Утка утопала в сладковатом соусе по-китайски. В ней почти не было жира, одна только утиная плоть. Я надкусила и закрыла глаза. Какое счастье – есть, когда хочется есть.
Однако надо поддержать беседу.
– Какое у Мориса образование? – спросила я Настю.
– Он самородок. Из очень простой семьи. Ему не дали образования.
Я снова посмотрела на руки Мориса – тяжелые, мужицкие. И глаза мужицкие. Пусть французского, но мужика.
Вот сидит человек, который сам себя сделал. Я сидела рядом и испытывала устойчивость, как будто держалась за что-то прочное. Как за перила, когда спускаешься по крутой лестнице вниз.
Я в основном спускаюсь и поднимаюсь без перил. В этом и состоит моя жизнь. Вверх – без перил. И вниз – без перил.
За что же я держусь? Это мой письменный стол со старой, почти антикварной машинкой. Груда рукописей и поющая точка в груди. Мы втроем: я, точка и машинка – долетели до самого Парижа. И теперь сидим в ресторане с миллионером, входящим в первую десятку.
Официант принес рыбу и стал разделывать ее на наших глазах, отделяя кости. Это был настоящий концертный номер. С ним надо было выступать в цирке. Или на эстраде.
Морис жил в собственном доме на маленькой, из шести домов, собственной улице.
Собственные дома я видела. У меня у самой есть собственный дом за городом. Не такой, как у Мориса, но все равно дом. А вот собственной улицы я не видела никогда. И даже не представляла, как это выглядит.
Морис подъехал к шлагбауму и открыл его своим ключом. Ключ был маленький, как от машины, и шлагбаум – легкий, полосатый, чистенький, как игрушка.
Шлагбаум легко поднялся. «Ягуар» проехал. Морис вышел из машины и закрыл за собой шлагбаум, как калитку.
Мы подъехали к дому. Это был трехэтажный дом. Внизу – кухня, столовая и каминный зал. Никаких дверей, никаких перегородок. Все – единое ломаное пространство.
На втором этаже – спальни. Третий этаж – гостевой.
– Он приглашал стилиста, чтобы ему создали стиль дома, – сообщила Настя. – За сто тысяч долларов.
Я глядела по сторонам.
– А жена у него есть? – спросила я.
– Мадленка, – ответила Настя. – Она на даче.
– Молодая?
– Полтинник.
– Красивая?
– На грузинку похожа.
Грузинки бывают разные: изысканные красавицы и носатые мымры. На маленьком антикварном столике я увидела фотографию в тяжелой рамке светлого металла: молодой Морис и молодая женщина не отрываясь смотрят друг на друга. Вросли глазами.
– Это она? – спросила я.
– Она, – с легким раздражением подтвердила Настя.
Я вгляделась в Мадлен. Освещенное чувством, ее лицо было одухотворенным, и каким-то образом было понятно, что она из хорошей семьи. Чувствовалось образование и воспитание.
Молодой Морис был похож на молодого индюка. Ну и что? И павлин похож на индюка. Я похожа на собаку. Настя – на кошку. Все на кого-то похожи.
– А дети у них есть? – спросила я.
– Сын, – сказала Настя. – Сорок лет.
– Как же – ей пятьдесят, а сыну – сорок? – не поняла я.
– Сын от первого брака, – объяснила Настя. – Известный визажист, делает лица звездам и фотомоделям.
– Богатый?
– Богатый и красавец. Гомосексуалист.
– Нормально, – сказала я.
Я заметила, что все известные модельеры и кинокритики – голубые. А женщины-манекенщицы – плоскогрудые и узкобедрые, как мальчики, потому что выражают гомосексуальную эстетику.
Большие груди и большие зады нравятся простому народу. Чем ниже культура, тем шире зад.
Морис предложил мне посмотреть гостевую комнату. Мы поднялись на третий этаж. Комната состояла из широкой кровати, рядом возле двери – душевая кабина из прозрачного стекла, с другой стороны, возле окна – письменный стол, чуть поодаль – велотренажер. Спальня, кабинет и спортзал одновременно.
Это значит, утром можно встать, позаниматься гимнастикой, потом принять контрастный душ и сесть за работу. А за окном ветка каштана покачивается на ветру. Дышит.
Вот и все, что человеку надо на самом деле: спорт, труд и одиночество. Хорошо.
Было уже одиннадцать часов вечера, по-московски – час ночи. Морис пожелал мне «bon nuit» и ушел.
Я приняла душ и легла в постель. До меня доносилась энергичная разборка. Настя и Морис выясняли отношения, не стесняясь третьего человека. Слова сыпались, как град на крышу.
Морис говорил сдержанно. Я уловила слова: «Tu ne voulais pas prendre le risk». Ты не хотела брать риск.
Видимо, когда-то Морис уговаривал Настю уйти от мужа и тем самым взять риск. Но Настя не хотела уходить от мужа так просто, в никуда. Вот если бы Морис сделал ей предложение… Если бы он предложил ей не риск, а руку и сердце, тогда другое дело. Но у Мориски была Мадленка, а у Насти – муж. Страшно отплывать от привычного берега – вдруг утонешь, и Настя защищалась и нападала одновременно.
Наверняка она нравилась Мориске, иначе с какой стати он взял бы меня в свой дом, в гостевую комнату. Я существовала как часть их отношений, часть любовной сделки. И сейчас они наверняка пойдут в кровать и будут ругаться и мириться. И у Мориски все встанет, вздыбится, нальется жизнью, и он почувствует себя молодым. Вот что нужно миллионеру прежде всего: чтобы его солнце не клонилось к закату. Пусть оно задержится на месте. «Хоть немного еще постою на краю». Это важнее, чем деньги. Хотя вряд ли… Важно все.
Я всегда кичилась своей женской недоступностью, видя в этом большое достоинство, но сейчас я поняла: никто и не претендует. Как в анекдоте о неуловимом Джо. Неуловим, потому что его никто не ловит. Моя добродетель никому не нужна, как заветренный кусок сыра, и мои рукописи на письменном столе – просто куча хлама.
Вот я в Париже со своей поющей точкой в груди. И что? Лежу одна, как сиротка Хася. Лежать одной – это для могилы. А при жизни надо лежать вдвоем, изнывая от нежности, и засыпать на твердом горячем мужском плече.
Утром Морис поднялся ко мне в комнату, неся на подносе кекс и кофе. Оказывается, они пьют кофе в постели, а уж потом чистят зубы. Морис собственноручно принес мне кофе в постель. Видимо, они с переводчицей помирились на славу. Анестези постаралась, а я пожинала плоды. Морис опустил поднос на постель.
– Но, но… – запротестовала я, поскольку не умею есть в постели.
Морис не понял, почему «но». Он поставил поднос на стол. Его лицо стало растерянным, и в этот момент было легко представить его ребенком, когда он бродил босиком без присмотра матери-пейзанки и полоскал руки в бочке с дождевой водой.
Морис сказал, что у него до двенадцати дела, а в двенадцать мы садимся в машину и едем к его жене на дачу.
– А Настя? – спросила я.
– Парти а ля мэзон, – ответил Морис. Я догадалась: уехала домой.
– Когда?
– Вчера. (Иер.)
Значит, не мирились. А может, быстро помирились, и он отвез ее домой. А может, и не провожал. Как знать… Она не взяла риск. Он не стал тянуть резину. Иметь жену и любовницу – для этого нужно свободное время и здоровье. У Мориса время – деньги. Да и шестьдесят три года диктуют свой режим.
Но самое интересное не это, а наше общение. Я почти не знаю языка, но я понимаю все, о чем он говорит.
Я улавливала отдельные слова, а все остальное выстраивалось само собой. Я как будто слышала Мориса внутренним слухом. Так общаются гуманоиды. Языка не знают, но все ясно и так. Я думаю, мысль материальна, и ее можно уловить, если внутренний приемник настроен на волну собеседника.
Морис ушел. Я уселась на велотренажер, стала крутить педали. Компьютер возле руля показывал число оборотов, пульс, время. Можно было следить за показателями, а можно смотреть в окно. За окном лежал сентябрь, качалась ветка на фоне неба. Голубое и зеленое. Ветка была еще сильной и зеленой, но это ненадолго. Я тоже находилась в своей сентябрьской поре, но ощущала себя как в апреле. «Трагедия человека не в том, что он стареет, а в том, что остается молодым». Кто это сказал? Не помню. Я – Золушка, которая так и не попала на бал. Мои написанные книги – это и есть мои горшки и сковородки. Однако мои ноги легки, суставы подвижны, сердце качает, кровь бежит под нужным давлением…
Появилась служанка. По виду – мексиканка. У нее смуглое грубое лицо. И хорошее настроение. Она все время напевает.
Мексиканка посмотрела на меня и спросила:
– Водка? Кавьяр?
Я поняла, что русские для нее – это икра и водка.
Я развела руками. У меня нет сувениров. У меня нет даже чемодана, и мне не во что переодеться.
Мексиканка понимает, но ее настроение не ухудшается. Она уходит в соседнюю комнату гладить и напевает о любви. Я улавливаю слово «карасон», что значит сердце.
Интересно, мексиканка – оптимистка по натуре или ее настроение входит в условия контракта? Прислуга должна оставлять свои проблемы за дверью, как уличную обувь.
Можно, конечно, спросить. Но я могу задать вопрос только по-русски. Я спрашиваю:
– Мексика? – И направляю в нее свой указательный палец.
– Но травахо, – отвечает служанка. – Травахо – Парис.
Я догадываюсь: нет работы, работа есть в Париже. И еще я отмечаю: Парис – настоящее название столицы Франции, в честь бога красоты Париса.
Дорога была прекрасной, как и все европейские дороги. Мы с Морисом сидели в белом «ягуаре», видимо, синий он отправил на ремонт.






