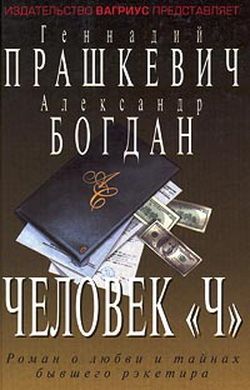Белый мамонт Прашкевич Геннадий
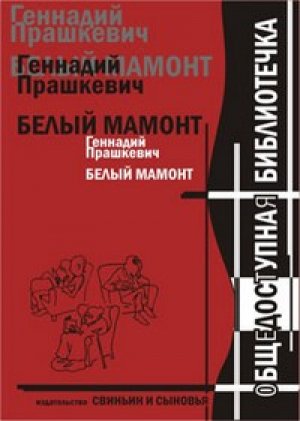
Он стонал, катался по грязным шкурам. Успокаивая слабого, товарищи по жене кидали ему кости. Давясь и страдая, он пел об огромном звере белого цвета, с мохнатым хоботом как рука. Он пел о задравших хвосты молодых быках, о черных глупых быках с гривой, торчащей дыбом. О черных быках, роющих землю рогами. Он пел о мышастых пугливых лошадях, украшенных черными ремнями вдоль всей спины от холки до хвоста. О вкрадчивых росомахах, загрызающих олешков не до смерти. Целую неделю едят живого олешка, не давая ему умереть – любят свежее.
Однажды, обиженный товарищами по жене, переставшими пускать его в спальный полог, Харреш принес с реки дафнию. В реке были слизняки, рачки, там всякого много было, но Харреш принес дафнию. Течением мотало над дном зеленую слизь, зевала рыба, пахло мокрой травой, но Харреш сделал выбор.
Панцирь у дафнии оказался тоненький, почти прозрачный.
Из зеленой мокрой травы Харреш сплел длинную тугую косу.
Эту косу приклеил к глупой голове дафнии, несильно толкнул ее босой ногой и белесая невзрачная жительница реки превратилась в молодую неумытую женщину с толстыми пушистыми косами.
Она сразу открыла рот и начала болтать.
«Вот если у меня не будет молока, как ответишь? – болтала она. – Смотрите, какие тугие груди! Я теперь много рожать буду. Мне твои товарищи по жене все нужны. Разве другие такие есть? Как ответишь?»
«Кто бросил зерно у входа? – сердился вождь у костра, пытаясь перекричать новую женщину. – Кто опять у входа бросил зерно? Пещерный медведь приходил сосать зеленую поросль. Путается под ногами, готов укусить…»
«Убейте белого мамонта…» – хрипел у костра Харреш.
«Смотрите, живот тугой. Это мне хорошо. Мужчины трогать будут. Много стану рожать. Все твои товарищи по жене понадобятся…»
«Всю траву вырвать у входа… Медведю чтоб не сосать…»
«Убейте белого мамонта…»
«Много рожать буду…»
Женщина ни на минуту не умолкала.
Она трогала тугие груди руками и говорила, говорила, говорила.
Не переставая говорить, снимала с себя одежды, расплетала тугую косу. «Войди со мной в спальный полог, – говорила, говорила и говорила она. – Буду трогать всего. Как ответишь?»
«Иди первая! Мы потом!» – испугался Харреш.
«Мэй! Какомэй! – радостно закричала новая женщина. – Почему говоришь – мы?»
«Войду в спальный полог с моим младшим братом. Будет первым товарищем по жене».
«Твердое хочу, – новая женщина так и кипела. – Каков твой брат? Как ответишь?»
«У него твердое, – с любовью и испугом хрипел калека. – Никогда не буду делить тебя с обыкновенными людьми. У меня товарищами по жене будут только самые лучшие».
Пораженный красотой женщины, им же самим созданной, Харреш каждый день царапал каменную стену резцом и однажды все вдруг увидели, что изображение изменилось.
Оно как бы протянулось вдаль, в глубину.
Оно будто раздвинуло стену пещеры.
Это испугало Людей льда. Покачав кости мертвеца над костром, решили, что Харреш делает что-то неправильное. А потому отвели в лес. Пока младший брат в спальном пологе ощупывал новую женщину, не перестававшую болтать, Харреш, голым привязанный к голому дереву, стонал под укусами мелких кропотливых муравьев и жадного гнуса.
«…мое имя смрадно…
…мое имя смрадно более, чем птичий помет днем, когда знойно небо…
…мое имя смрадно более, чем рыбная корзина в день ловли, когда знойно небо…
…я говорю: «Есть ли кто-либо ныне? Братья стали дурны, друзья никого не любят.»
…я говорю: «Есть ли кто-либо ныне? Все сердца злы, человек с ласковым взором убог…
…о, как смраден я…
…о, как смрадно то, что нас окружает…»
15
«Сердитый!»
16
Ишши был.
Амурру был.
Хутеллуш был.
Хашшур и Аркад были.
Белый мамонт Шэли стал нападать на вождей и делал это так ловко, что Люди льда совсем испугались и стали скрывать имена своих предводителей. Вождей теперь избирали тайно. Каждый про себя называл имя нового вождя. Многие даже не догадывались, кто управляет трибой. Но умный турхукэнни чувствовал правду по запаху. Пока Люди льда пытались подкараулить случай, он сам его создавал. И только когда холгут затоптал особенно вонючего охотника с нехорошо оскаленными зубами, и оказалось, что именно этот ублюдок руководил трибой, Люди льда спохватились. Небо в тот день отдавало ослепительной синевой и дул ветерок, немножко сносивший гнус, но охотники наконец спохватились. Они не хотели, чтобы и впредь трибой управлял такой противный и слабый вождь.
«…отмечен знаком высшего позора…»
Правила отменили.
О холгуте стал петь Кишу.
Он был слабый, трясущийся, но пел красиво.
Поддерживая руками маленькую трясущуюся голову, он пел так красиво, что сам белый мамонт Шэли старался подойти ближе к пещере. При этом некоторых охотников он убил, чтобы не мешали, а других заморил голодом, загнав на неприступную скалу. Как всегда, спаслись только жилистые старушки. «Так со временем вы одни останетесь», – стали обижаться молодые женщины, и, чтобы уравнять шансы, сократили еду и питье, выделяемое на содержание старушек.
Господин преследования наградил Кишу полным набором нехорошего. Кишу часто умирал от этого. Только сильная ненависть к холгуту, преследующему Людей льда, поддерживала жизнь певца.
«…твоя тень падает на пещеру…
…твоя тень колеблется в морозном воздухе…
…твоя тень плывет, как облако, закрывая Луну…
…темный страх вяжет нам сердца, мы боимся, отступи…
…ты перешел воду великого изгиба озер… ты издал крик, убивший многих охотников… ты сделал бессильными нас, затмил лица, ослепил глаза, уходи, останься только на каменной стене у входа…
…Дети мертвецов будут видеть твое изображение у входа и будут бояться… они идут с юга… у них копья с блестящими наконечниками… ты нас не любишь, уйди в леса, останься только в изображениях… когда ты вытесан на утесах, Дети мертвецов боятся и отступают… когда твои изображения на каменных стенах, Дети мертвецов трепещут от ужаса, как бледные зарницы, и не идут к нам…»
17
«…в гелиотроповом свете молний летучих на небесах раскрывались темные тучи…»
18
Травы выгорели.
Пришла удушливая жара.
Белый мамонт Шэли с каким-то особенным остервенением отлавливал и затаптывал отчаявшихся охотников. Затоптанных стало так много, что про них неопределенно говорили: он упал.
Долины перед пещерой лежали черные.
Животные ушли далеко, птицы улетели, рыбы в реке не стало.
Даже псих носорог, понюхав кучу помета, куда-то умчался. Говорили, что совсем опустился. А на горизонте ночами мерцали, как звезды, чужие костры. Это многочисленные Дети мертвецов пришли отнимать у Людей льда последнюю пищу, пасшуюся в тундре.
Хутеллуш, адепт Большого копья, певец Нового, слабый телом, со слезящимися глазами, старший сын Самшу, прямой правнук Харреша, праправнук Нинхаргу и первых людей Эббу и Апшу, в низкой нише, наклонясь над массивной каменной посудой, терпеливо дробил малахит пестом. Женщина Илау, тучная от недоедания, трясла тяжелыми весело раскрашенными грудями и смешивала добытый порошок с животным жиром и соком растений. Одновременно она отталкивала похотливые руки Хутеллуша, потому что недавно сама изобрела специальные номерки для запасов, хранящихся в леднике, и хранила себя для достойного человека.
Работа с красками приятна.
Малиновый, черный, желтоватый, зеленый, фиолетовый оттенки отпугивают злых духов. А то ведь они и справа, и слева. Они сзади и спереди. Они летают в горах, летают над пересохшей рекой, над сожженными долинами. Против злых духов нет дверей, нет запоров. Они втекают в пещеру с прозрачным ручьем, падают с неба с дождем и с градом, проползают в спальные пологи, проникают как воздух, чтобы мучить людей, разрушать семейное согласие и дружбу. Они не знают пощады, пожирают плоть, пьют кровь, связывают бессилием руки и ноги.
Господин преследования помогает им.
В каменном сосуде Хутеллуш хранил особенную смолу.
В этот день Господин преследования особенно приглядывал за певцом Нового и подталкивал его под руку. Сердитый Хутеллуш пролил смолу и сам же голой ягодицей сел на камень.
Стал отрываться – не смог.
Илау стала помогать, сделала больно.
Пришли другие Люди льда. Собралась вся триба – кто мог собраться.
Подумав, сказали плачущему: ладно, не рвись, еще оторвешь что-нибудь.
Сказали: живи с камнем. Пищи мало, совсем нет, но немножко кормить будем. Пой о Большом копье, приближай Будущее. Мечтай о Новом, о множестве вкусного жира, о множестве мяса. Женщина Илау будет прибирать за тобой. Может, со временем разобьем камень, только с небольшим осколком на ягодице будешь ходить. Зато никто не укусит за правую ягодицу.
Стал жить с камнем.
Требовали петь веселое.
Хутеллуш страдал, но пел.
Однажды все закричали и стали бежать.
Одни бежали в тайные ходы, другие в тундру.
Только женщина Илау в страхе прижалась к Хутеллушу. Она была простая, как все одинокие женщины. Дрожа, сказала: «Дети мертвецов пришли. Нехорошие пришли. У рта волосатые пришли. Не могу унести тебя вместе с камнем, Хутеллуш, тяжко мне, а оторваться не можешь.»
Спросила: «Или оторвать ягодицу?»
«Зачем?» – испугался Хутеллуш.
«Чтобы унести то, что оторвется».
«Нет», – не согласился Хутеллуш.
Тогда добрая женщина заплакала:
«Нас съедят».
19
Дети мертвецов шумно вошли в пещеру.
У них был страшный вид. У рта волосатые.
Одежды из шкур росомах и молодых олешков, а усы, как у животных, ныряющих в Соленую воду. Убить столько росомах – этому трудно поверить, и Хутеллуш сперва не поверил.
Но все было так, как он видел.
И наконечники копий оказались у Детей мертвецов особенные – не каменные, и не из кости. Величиной с локоть, широкие, сильно блестели. Как злые быки, Дети мертвецов топали ногами, хватали летящую стрелу пальцами, благодаря быстроте бега избегали ударов. Прыгали так высоко, что взлетали, подобно птицам. Когда плыли в воде, рыба отставала от них. Когда ложились на спину, то касались земли только ягодицами и плечами, такие массивные были у них мускулы.
Увидев Хутеллуша, удивились:
«С камнем живет. Что с таким делать будем?»
Другие ответили: «Отрезать то, что можно отрезать. Другое не убежит.»
Стали весело плясать у костра, а Хутеллуш сидел правой ягодицей на камне под ветвистым знаком, начертанным на стене, может, под знаком Оленя. Дети мертвецов, веселясь, разбили глиняные горшки, разделили между собой тонкие дротики, брошенные Людьми льда, поломали ненужные чужие копья. Потом деревянной толкушкой загнали нож в глубину груди тучной женщины Илау. Хутеллуш думал, что она сразу умерла, но она еще долго шевелилась. Господин преследования никак не отпускал женщину. А когда отпустил, Дети мертвецов изжарили ее на огне и съели.
«Что ты думаешь об этом месте?» – спросил один, сыто рыгая.
«Еда здесь неплохая», – уклончиво ответил другой и радостно закричал, увидев еще двух принесенных кем-то человеческих детенышей.
«…эти милые окровавленные рожи на фотографиях…»
Сильно пахло страхом.
Дети мертвецов отбрасывали жирными руками волосы и шли в пляске вокруг костра. Смутные отсветы на каменных стенах и в дымном воздухе весело плавали, как отражение улыбок.
«…я полон страха…
…у меня нет сети и ножа…
…четыре ветра от костров, ни один не освежает…
…мне не выроют глубокую яму и не забросают меня камнями…
…на вертеле, как животное, съедят, оторвав правую ягодицу, а остатки догрызет Господин преследования…
…день – это вздохи, ночь – это вздохи…
…Дети мертвецов обнажают свирепые клыки…
…Дети мертвецов вырывают внутренности женщины Илау и расчленяют тело на части…»
20
Эхекай-охекай!
21
Хутеллушу всегда нравилась Илау.
Тучная от недоедания женщина помогала ему.
Она растирала краски и приносила вкусное. Правда, не разрешала трогать руками свои тяжелые груди.
Приросший к камню, Хутеллуш сильно жалел Илау.
22
Эхекай-охекай!
23
Потом Дети мертвецов насытились.
Они скоро уйдут, наверное, подумал Хутеллуш.
Подобно летучим мышам скоро они уберутся во тьму.
Тогда в пещеру прокрадутся гиены. Своими чудовищными желтыми зубами они отполируют каждую брошенную на пол косточку. Они раздробят и переварят даже каждую трубчатую кость. Только маленькие обломки костей останутся на пыльных каменных плитах под грубыми изображениями мамонтов, возвышающихся над травами, как мохнатые стога.
24
Он упал.
25
Сеттх был.
Шапсу был.
Сепишту был.
Они привели Людей льда и убили Детей мертвецов, сытно уснувших.
Заодно хотели убить Хутеллуша, но в тот день триба впервые за много лет добыла настоящего мамонта, провалившегося в жидкий ил у берега. Холгут, наверное, долго пытался вырваться, потому что совсем изнемог.
Лежа на боку почти не дышал.
Когда рыжего добивали, он вздрагивал, но не стонал.
Под солнцем, с остывшими в жидком ледяном иле ногами, залепленный сохнущей грязью, холгут лежал в трясине несколько дней. Вокруг ходили волки, лиса тявкала с берега, рылась в листьях, но, увидев оборванцев с копьями, сразу убежала. Охотники, боязливо оглядываясь, не приближаются ли другие холгуты, отрубили рыжему левую заднюю ногу, шею, язык, всякие другие вкусности, и принесли в пещеру горы мяса и жира. Заодно поджарили на вертеле двух самых наевшихся Детей мертвецов. Только Хутеллуш отказался попробовать чужих, потому что недавно они съели тучную женщину Илау.
Раздавались голоса.
Возвращались прятавшиеся в лесу женщины.
«…с коротким топотаньем пробежала похожая на Пушкина овца…»
Вождь, оторвав кусок поджаренного на огне мяса, пожевал его.
Оставшееся бросил Хутеллушу, но певец Нового лишь беспомощно раскрывал беззубый рот.
Кусок упал в стороне.
Хутеллуш не мог дотянуться.
Мешал неподъемный камень, державший его за ягодицу.
26
«…поэт – как альбатрос: отважно, без усилья, пока он в небесах, витает в бурной мгле, но исполинские, невидимые крылья в толпе ему ходить мешают на земле…»
27
Подползла покрытая плесенью черепаха.
Шея совсем сморщилась. Клюв царапал пол пещеры.
Откинутая рука умирающего Хутеллуша легла на плоский, побитый временем, обросший пористыми треугольными ракушками панцирь. Усталая ладонь легла на смутный отпечаток, оставленный художником Нинхаргу, жившим несколько тысячелетий тому назад.
Часть вторая
ДЕТИ МЕРТВЕЦОВ
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо…
Николай Гумилев
28
Апшур был.
Зря ходящий был.
Праздный скиталец был.
- «…мохнатый шмель – на душистый хмель, мотылек – на вьюнок луговой, а цыган идет, куда воля ведет, за своей цыганской звездой…»
Шел, куда глаза глядят.
Бесшумно перепрыгивал ручьи.
Лисенок, рывшийся в листве, поднимал голову.
Белая сова, не поворачиваясь, глядела на праздного скитальца – шея крутилась, не зная преград. Правда, было тихо. Не трубил белый мамонт Шэли, псих носорог не делал больших куч, и Большое копье напрасно ожидало охоты в глубине пещеры, давно обжитой Людьми льда.
Смола, приклеивающая, как смерть.
Клееные пластины, которые не раздерешь руками.
Отшлифованный до блеска бивень, глубиной и сладостью отвечающий завораживающим женским взглядам. Ровдужный парус – легкий, без никаких клиньев, без всяких лоскутов, без прошвы.
Все готово.
Все под рукой.
А следов – никаких.
В лесах и в болотах, подступавших к известняковым холмам, посвистывал пустой ветер. Может, холгут сам давно стал одним из холмов. Оброс бесстыжим мхом и зелеными березками, терпеливо ждет своего часа. Только неутомимая росомаха, урча и наслаждаясь, как челнок, сшивала в кустах прошлое с настоящим, вгрызалась в еще живого олешка.
Никто не гнался за Апшуром.
Не трубил холгут, выразительно поднимая палку, зажатую в мохнатом хоботе. Недовольный шерстистый носорог, пучась и морщась, не тащился над кучей помета. Господин преследования не дышал в ухо. Холгуты вообще приходили теперь только летом и ненадолго. Может, не могли протиснуться толстыми боками сквозь густые хвойные леса, подступившие с юга.
В кожаной безрукавке безумный Апшур много раз обошел тундру.
Спотыкался на круглых травяных кочках, до крови ранил ноги осокой, но нигде не встретил больших зверей с широкой спиной, не встретил глубоких следов, затекших водой и илом. Ни разу белый мамонт Шэли не выскочил из-за угла весело потаскать праздного скитальца за короткую косу. Может, уже слышал о новых временах. О влажном тепле, накатывающемся с юга. Может, догадывался, что под сводами мрачной галереи, освещенной факелами из бересты, на специальных подставках давно ждет охоты Большое копье – совершенное оружие.
Такое большое, что пронзит в длину самого крупного турхукэнни.
«…неизвестное знал он, разгадывал тайны, о днях до потопа принес нам весть, ходил далеко, и устал, и вернулся, и выбил на камне свои труды…»
В пещере Апшур скучал, а потому приставал к робким женщинам.
Но никто вернувшегося не трогал – три его старших брата были вождями.
Некоторые охотники даже делали Апшура товарищем по жене, а то всякое могло случиться с их женами.
- «…лежать бы в платьице измятом
- одной, в березняке густом,
- и нож под левым, лиловатым,
- еще девическим соском…»
Пел Апшур непонятное.
Например, злаки, прорастающие сквозь землю.
И, конечно, Большое копье – победу над вечностью.
«А если победит вечность? – робко спрашивали еще неопытные охотники, не научившиеся скрывать глупость. – Если победит вечность, все не кончится ли?»
Чтобы отвлечь Людей льда от таких размышлений, Апшур, поддержанный вождями-братьями, заставлял молодых тяжелыми каменными долотами выбивать изображения на известняковых стенах. А когда приводили Детей мертвецов, захваченных то у болот, то на краю лесов, Апшур их тоже делал помощниками. Огромные изображения холгутов появлялись на стенах. Бежали куда-то стада олешков. Кто-то изобразил на стене вздернутого психа носорога, да такого глупого и злого, что женщины крикнули:
«Сердитый!»
И все побежали.
29
Говорить о нем стыдились.
О носороге.
30
Апшур только набрасывал силуэт.
Ну, несколько линий. Ну, пара прихотливых сплетений.
Основной рисунок, пользуясь указаниями Апшура, всегда доводили пленники, которым он из милосердия сам лично перебил кости ног. Мухи сердито ползали по разбитым коленям. Зато так пленники не станут бегать, считал Апшур, воспевая победу над вечностью.
- «…и я спасу тебя от бед, чтоб ты не мучился задаром, переломив тебе хребет тяжелым, ласковым ударом…»
Зимой над заснеженными холмами раскачивались полотнища Северного сияния.
Зеленый свет охватывал полнеба, будто вдруг распахивалось само пространство, как болезнью пораженное загадочным огнем. Постепенно все небо начинало нежно мерцать и переливаться такими тонами, каких Апшур нигде не видел. Может, такие тона можно увидеть в глубинах земли, проросших цветными кристаллами, а может, в придонных глубинах Соленых вод, он не знал. Он всегда видел такое только в зимнем небе и всегда выгонял пленников наружу. С перебитыми ногами пленники выползали под пуржливый вой и, пряча ненавидящие глаза, с тоской вглядывались в цветные полотнища. Выбирая, дать помощникам лишний кусочек недожаренного мяса или выгнать под таинственную пургу Северного сияния, Апшур всегда выбирал второе, потому что знал, как остро любой художник нуждается в поощрении.
После таких выходов в темных галереях еще веселей летела искрящаяся каменная крошка. Еще веселей кашляли и стонали художники-пленники, как мухи ползали под стеной. Нежная вонь волнами гуляла из одного перехода в другой. Подрагивая тонкими ноздрями, Апшур решительно считал пленников естественным продолжением своих рук. Он решительно считал пленников просто послушными и счастливыми орудиями, уже даже немножко осознающими себя, а от того способными выразить самые глубинные, самые чистые и нежные движения его огромной души.
Проницательные взгляды Апшура пронизывали пленников.
31
Илума был.
Субишту был.
Плохие времена были.
«…небеса возопили, земля мычала, света не стало, вышли мраки, вспыхнула молния, мрак разлился, смерть упадала дождем на землю…»
Большое копье неустанно шлифовали.