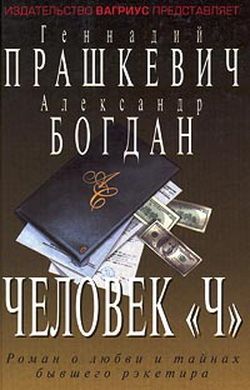Белый мамонт Прашкевич Геннадий
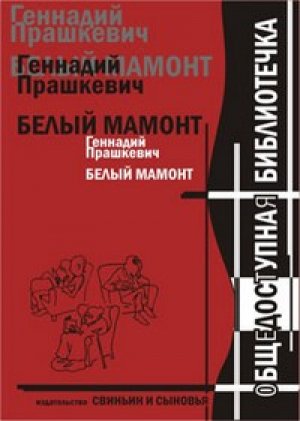
Обожженное древко, длинное, как река, блестело.
Почти невидимые трещины плотно замазывались особенной смолой.
Двенадцать самых сильных охотников каждый день тренировались в беге на месте с Большим копьем, потому что белого мамонта Шэли следовало убить сразу – одним умелым ударом.
Второго холгут бы не позволил.
Это только так говорили, что белый мамонт Шэли стар.
На самом деле он столь грузно припадал к зеленой земле, что она дрожала.
Мог съесть целую рощицу, общипать большую поляну, а потом легко протанцевать, перепрыгивая кочки, на задних ногах, высоко задирая хобот. По его понятиям, выглядел свирепо. Челка тряслась над выпуклым лбом, как рыжее крыло. Высокомерно глаза из-под купола мохнатого лба щурились. Охотник Хеллу холодел, представляя взгляд холгута. Вся жизнь Хеллу была посвящена будущему короткому бою. Он учил охотников правильно держать огромное древко, правильно поднимать легкий парус.
«…а ночью неуклюжею лапой, привыкшей лишь к грузу сетей, искал женщину, рыбным запахом пропитанную до костей…»
В темном углу, среди отбросов, закрывая слезящиеся глаза ладонью, прятался убогий Кудур. Когда-то певца забыли убить. Теперь он прятался и выл потихоньку, ловя украдкой взгляд страшной, черной, как головешка, женщины Тишур, единственной почитательницы его небольшого певческого таланта.
Большое копье до дрожи в ногах пугало Кудура.
Он жалел косматое животное с грозными ступнями и вертящимся над головой хоботом. Белый мамонт напоминал ему потную растрепанную Тишур.
В этом было много тревоги.
«…спасите белого мамонта…»
Кудур еще не знал наглости зеленых, поэтому слушала его в основном черная женщина Тишур и плоская заплесневелая черепаха с неясным отпечатком человеческой ладони на спине.
Если постучать по камню, черепаха подползала.
Но не к каждому. К черной женщине, например, не подползала.
И совсем не верила тем, кто приходил с охоты недовольный, кто, нажевавшись пластинок сухого мухомора, грозно плясал у высокого костра всю ночь, так и норовя наступить ей на спину тяжелой ногой в пестро расшитых муклуках.
«…спасите белого мамонта…
…разбрасывайте зерна, сажайте злаки…
…звери уйдут, птицы улетят, рыбы погибнут, а злаки не бегают…
…они не выскочат из-за куста и не прокусят тебе свирепо затылок…
…они не засмеются, как гиена, не зарычат, как пещерный медведь…»
Все же умер Кудур непонятым.
Никто так и не узнал, зачем он прыгнул в глубокий колодец.
Некоторые думали, что певцу помог охотник Хеллу. Другие думали, что Кудура погубила мечта. Утешая человека, совсем уж слабого умом, говорили: «Даже Кудуру такое не удавалось».
32
Хеллу был.
У берегов резной лед.
Нежные мхи, каменные проплешины.
Осенняя паутина прилипала к смуглой коже. Бежал, смахивая ладонью.
«…горькая супесь, глухой чернозем… смиренная глина и щебень с песком… окунья земля, травяная медынь, и пегая охра, жилица пустынь…»
Главное стадо олешков давно вышло к реке, но олешки все тянулись и тянулись по треугольным полянам.
Хеллу торопился.
Он опять не нашел следов холгута.
Зато там и тут – под лиственницами тундры и на краю хвойных лесов, под скалами Белого берега, и у Соленой воды дымили временные стойбища Детей мертвецов. Каждый ростом выше оленного быка. У рта волосатые. Такие способны сбить с выверенного пути самое большое стадо. А ведь олени – это жир, это вкусное мясо. Это крепкие сухожилия для растяжек, это теплые шкуры. Если упустить олешков, зима выйдет долгая и голодная. И холгуты опять не пришли.
«…я ухо приложил к земле, чтобы услышать дальний топот…»
Под тонким ледком, легшим за ночь на тихую воду, Хеллу увидел уткнувшихся носами в берег, маленьких снулых рыб.
Гнилой воздух.
Сникшие камыши.
Шляпки вялых грибов.
Большое копье давно готово к охоте, Люди льда давно полны решимости, а белый мамонт Шэли не приходит. Холодом тянет с севера, зато юг дышит теплом, все ближе придвигая к пещере зубчатую стену хвойных лесов.
Прозрачный паучок с удивлением посмотрел в глаза Хеллу.
Повиснув на паутинке, он казался таким прозрачным, что не отбрасывал тени.
Зато под кочками чернели тяжелые, раздутые газами, расклеванные птицами тритоны. И они не были задавлены зверем. Болезнь, скорее всего, таилась в заполненных водой ямах. Умирающая вода выбрасывала мелкие светло-зеленые пузырьки. Они как бы светились и подпрыгивали над тяжелой мертвой водой. Если такой ополоснуть руки, они опухнут.
Когда-то мир состоял из живой влаги и льда.
Живая птица кричала в воздухе, стучала хвостом живая рыба.
Белый мамонт Шэли всяко смеялся над оборванцами, заставляя отступать в грязное болото или к пещере. Потом шел к реке, тянул хоботом воду. Не боялся.
Так было.
А потом что-то испортилось.
Может, Красный червь издали дохнул зловонно и жарко, превратил придонные растения в кислый кисель. От дыхания Красного червя несет ужасом, живое умирает в тягучей слюне. Тысячи цветных бабочек тянулись рядами вдоль подмерзшего берега, будто их вынесло на берег невидимой волной.
«…да и птицы здесь не живут…»
Длинной палкой Хеллу ткнул в студенистые массы коричнево-красного цвета, густо, как кожаные подушки, покрывшие дно затопленных ям. Хотелось пить, но к воде Хеллу не наклонился. Зато подобрал наконечник чужого копья. Здесь прошли Дети мертвецов. Наконечник тускло поблескивал. Когда Хеллу коснулся острой грани, на пальце выступила кровь.
Теперь он бежал быстро и остановился только под лиственницей с перепутанным, неправильным расположением ветвей. Такую все называют вихоревым гнездом. Под лиственницей, уже осыпавшей землю солнечными рыжими иглами, выбивался из-под земли прозрачный ручей.
Если на Большое копье насадить острый и крепкий наконечник чужих, думал Хеллу, припадая к дохнувшей холодком воде, можно смело выходить против самого большого, против самого тяжелого холгута. Даже если холгута поведет сам Господин преследования, можно не бояться и выходить навстречу. Много будет вкусного мяса, жира.
«…и эти апотропические руки…»
Рука охотника лежала на каменном топоре.
Перевернувшись через плечо, он нырнул в чащу.
Сердце Хеллу билось часто и гулко. Он торопился.
Он уходил теперь от Господина преследования, чье мерзкое отражение вдруг мелькнуло в колеблющейся воде. Жир и мясо откочевывают на юг, а в лесу опять появились Дети мертвецов. Они сбивают стада с привычных троп. Одежда на Детях мертвецов легкая, нигде не коробится. Лбы схвачены ремешками, вырезанными из росомашьих шкур. У каждого за поясом пучок тонких стрел, блестят длинные наконечники необычных копий. Никто не назовет Детей мертвецов оборванцами. Это они, увидев Людей льда, дивятся: «Одежды ваши чем пахнут?»
Он опять провел пальцем по находке.
Наконечник тонко зазвенел и пустил луч света.
Когда-то женщина Эйа жила в чужом племени. Рассказывала, что Дети мертвецов пользуются топорами, которые рубят самый плотный камень. А в некоторых теплых местах бросают в землю зерно, чтобы потом вернуться и съесть выросшее. Если много вырастет, не надо ловить олешков. Как медведи, сосут зерно. Если много такого вырастет, не надо ссориться из-за обсидиановых пластин.
Хеллу вздрогнул от негромкого свиста.
Но обернуться не успел.
Схватили.
33
Все пахло незнакомо и остро.
Как огромные перевернутые корзины, под которыми можно переждать непогоду, торчали чужие жилища над треугольной осенней поляной. Напряжение и боль от удара сломили Хеллу. Он помнил, как его ударили, как повалили в траву, но совсем не помнил, как его тащили к чужому стойбищу.
Боль вернулась и он вскрикнул, инстинктивно закрыв голову руками.
Но никто на него не нападал. Никого рядом не было и он осторожно прильнул к щели в плетеной из прутьев тальника стене.
Недалеко от входа дымил костер, пахло берестой.
Молодая, красивая сидела перед костром на мягкой брусничной кочке. Волосы зеленоватые, как осока.
«…дыша духами и туманами…»
В прежнее время жил один дух, вспомнил Хеллу. Вот увидел такую женщину, спросил: «Ты что умеешь делать?» А женщина не ответила. Она только повернулась и запах был приятный.
Росомашья с матовым блеском шкура с желтой полоской по спине легко покрывала круглые плечи молодой, красивой. Зеленоватые волосы летели как туманное облако, перехваченное кожаным ремешком. Оглянувшись, показала зубы. Как росомаха, питающаяся живыми олешками. Настороженно, но без боязни встретила взгляд охотника, тонкие ноздри вздрагивали.
У каждого свой запах.
Хеллу по старой человеческой кости мог определить – принадлежала кость охотнику трибы или убит был кто-то чужой? Но запах молодой, красивой смутил его, как того духа из прежнего времени, когда земля была величиной с подошву.
Пошарив по полу, наткнулся на обожженную кость.
Кость как бы удлинила его руку.
Заворчав, не понимая, почему его оставили под таким ненадежным присмотром, как эта молодая, красивая, опасаясь неслыханной ужасной ловушки, одним движением нырнул в зловещую, вобравшую страхи, тьму.
Запоздалый вопль. Но никто за Хеллу не гнался.
34
…Старый Тофнахт на корточках сидел у входа в пещеру.
Скалы снаружи, как грибами, обросли ласточкиными гнездами. Ласточки метались, как темные молнии, чиркали воздух. Хеллу молча присел на корточки рядом с Тофнахтом. Подходили другие охотники, обнюхивались. Одни касались Хеллу пальцами, другие тоже присаживались. Волосатые лица, настороженные взгляды. Из душного отверстия пещеры несло дымом, застоявшимся воздухом, прелью, мышиным пометом. Кто-то недоверчиво вскрикнул, кто-то уставился на гребни известняковых скал, пасмурно подсвеченных утренним солнцем.
«…снег идет… снег идет…»
Густой белый снег медлительно крутился над рекой, над холмами, над тихими пространствами тундры. Падая в реку, превращался в тусклые блины, легко уносимые течением. Черная выдра, выскочив на берег, испуганно фыркнула.
Потом скользнули из белой сумятицы угрюмые тени.
Одного охотника несли. В пещере, правда, посадили на пол, но сидеть он не мог.
По следам ударов на голове Хеллу сразу понял, что охотники встретили в лесу Детей мертвецов.
«…снег идет… снег идет…»
Солнце поднялось.
Негромкие, но все громче и громче, шалея от напора, пенясь и прыгая, злобные ручьи бешено ринулись вниз с холмов, с размаху снося песок и камни, выпали в темную реку.
Мертвого посадили на дно неглубокой ямы.
Кожаная рубаха, расшитая мелкими ракушками и костяными пластинками.
На ногах простые муклуки, парка без капюшона с разрезом на груди, заколотым костяной булавкой, на руках костяные браслеты.
«…ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло, всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра…»
На низкой лиственнице стрекотала сорока.
Она крутила хвостом и выкрикивала обидное, но на нее никто не смотрел.
Старый Тофнахт опустил в яму костяную ложку, по плоской ручке которой медленно шел, задрав свернутый в раковину хобот, белый мамонт Шэли.
Под головой умершего пристроили каменную подушку.
Он устал.
Он должен был отдохнуть.
Он был на охоте, теперь пойдет под землю.
Там встретит толстого турхукэнни и весело обманет его. Для пользы Людей льда весело обманет. Скажет, размахивая красивой ложкой: «Смотри, какая! Таких скоро много будет! Не ходи в тундру, скоро все сами под землю придут.»
Смерть – опасное состояние.
Охотники молча переминались, им хотелось уйти.
Им хотелось мять в руках стебли речного чеснока, острым соком натирать лица.
Они не хотели стоять над холодной ямой, они боялись и не смотрели на умершего. Но напрасно старик Тофнахт посыпал бледное лицо охрой. Желто-коричневый порошок не возвращал живого темного цвета.
Охотники хотели уйти.
Они ворчали.
35
…По узкому лазу Хеллу пробрался в обширный грот.
Пахнуло сухой прохладой из глубокого колодца, в котором много столетий назад стучал по стенам человеческими берцами певец Напилхушу. Метнулись тени, летучая мышь горестно вскрикнула. В соседнем гроте такие летучие мыши свисали из-под кровли живыми гирляндами. Там на три локтя неровный пол покрывали пласты окаменевшего помета.
Опасливо коснувшись уродливых медвежьих черепов, пирамидой сложенных в заплывшей сталактитами нише, Хеллу поднял глаза.
Ужасно поблескивал широкий наконечник Большого копья, вырезанный из цельного бивня. Этот бивень долго размачивали в особенном растворе, потом выпрямляли, надрезали с боков кремневыми лезвиями. Тщательная шлифовка выявила скрытый сетчатый рисунок. Конечно, Большое копье пронзит самую толстую засмоленную шкуру. Сразив гиганта, можно весело прыгать через мохнатую, еще теплую тушу и играть в военные игры. Двенадцать самых сильных охотников с громким криком бросятся на белого мамонта Шэли, а еще двое ловко поднимут парус, чтобы столкновение оказалось смертельным.
Хеллу нежно провел рукой по древку.
Ноги сами приплясывали. В гроте никого не было.
Он оглянулся. Темно.
В гроте, правда, никого не было.
Губы шевелились, ноги двигались, восторженные слова сами рвались из сердца.
«…скоро уйдут черные дни…»
Хеллу не хотел, чтобы его услышали.
Ведь он не жалкий калека, чтобы петь, подпрыгивая, размахивая руками.
Он не убогий калека, ни на что не способный. Он не лишен зрения, горб не пригибает его к земле. Он настоящий охотник – может плясать у костра, опьянив себя жирной пищей и мухомором. Может, как все, сидеть у костра молча. Зачем ему выкрикивать странные слова, непроизвольно рвущиеся из груди?
«…скоро будут мясо и жир…
…скоро пойдем по снегу, оставляя за спиной легкие облачка дыхания…»
Сердце прыгало.
Губы шевелились.
Хеллу не знал, зачем он так делает.
Только бы вынести копье и ударить кинувшегося навстречу гиганта!
Подобраться к холгуту как можно поближе. Загнать Большое копье в живот, до самой печени, до глубинных кровеносных сосудов, чтобы зверь, убегая, сам вымотал себе кишки. Пригвоздить к земле!
Хеллу уже пел хрипло.
Ноги сами шли в страшном ритме.
Каменные стены кружились вокруг него.
Один рисунок загадочно накладывается на другой, одно изображение вписано в другое. Бесчисленные животные идут по стенам. Их так много, что они расплываются, как густой туман.
Беспримесные тона – глина, охра, уголь.
Материалы всегда под рукой. Оленьи рога на стене – как лес.
Тысячи, многие тысячи животных.
Куда идут? Где холгут?
Хеллу знал, что неопытная рука всегда начинает с простых линий, мягких, беспорядочно разбросанных. Потом возникают более сложные линии. Как первые слова. Как стон, несущий значение.
«…когда б вы знали из какого сора…»
Белый мамонт.
Изображение заплыло потеками прозрачных солей.
Глаза холгута полны злобы, уши прижаты. Он смотрит косо. Ступишь не так – смотрит косо. Но и так если ступишь – тоже смотрит. Будто отпрянул в туман тысячелетий, увидев совершенное оружие. Вот создал небо и землю для первого человека, а потомки первого человека построили Большое копье. Круг замкнулся.
Белый мамонт этого не понимал.
Он находил старанье Людей льда странным.
Вот, грозился, ворвусь в прогорклую пещеру, как выдох пурги. Вот раздавлю женщин, растопчу младенцев!
Линии…
Много линий…
«…Бобэоби пелись губы
Вээоми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй – пелся облик
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь
Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило Лицо…»
Чем важней изображение, тем крупнее.
Огромный белый гусь, стремящийся за край лесов…
Нежный олешек, задравший мохнатые рога под цветные полотнища Северного сияния…
Убегающая лошадь…
«…руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в ее блестящем животе…»
И опять олешки.
Бесчисленные стада.
Лес рогов под холодными звездами.
А выше, выше – воздевший хобот, как руку, отпрянувший от Людей льда белый мамонт.
36
Ночью ударил мороз.
Он выжал влагу из воздуха, ветхим бархатом развесил иней по лиственницам.
«…клыкастый месяц вылез на востоке…»
Карликовый медведь возился в кустах, затих, услышав легкую поступь.
Реку у берегов сплошь затянуло зеркальным тонким ледком, недовольно тявкали в камышах болотные шпицы. Лес огромен, пуст, тянется далеко. Не слышно шума, даже ветка не скрипнет. Только за самой дальней, почти невидимой лиственницей Хеллу почувствовал нежный, растворенный в воздухе дым.
Дети мертвецов не сменили стоянку.
Вокруг костра, пылающего на поляне, они сидели и стояли – молчаливые, со стянутыми на лбу волосами, в мягких шкурах, накинутых на широкие плечи, или просто в потертых парках, в разношенных муклуках.
Хеллу заворчал, раздувая грудь.
«…как некогда в разросшихся хвощах ворчала от сознания бессилья тварь скользкая…»
Хеллу не понимал, что с ним творится.
Его испугал долгий высокий звук, родившийся в тишине.
Протяжный, томительный, долгий звук, казалось, исторгнутый самим бьющимся сердцем…
И сразу другой, более долгий…
Они ранили сердце. Они заставили Хеллу застонать. Заставили его прижаться к сухому корневищу лиственницы. Он хотел петь. Он хотел выводить странные слова. У него губы шевелились, он сжал глаза ладонями, таким сильным было желание.
«…а может, это все пустое, обман неопытной души?…»
Дети мертвецов ожили.
Одни садились на корточки, опустив длинные руки к земле, поднимая бородатые лица к звездному небу, другие наоборот вскакивали. Кто-то принес высушенный болотный корень, развернутый, как больная раковина, и новые звуки – еще более долгие, еще более рвущие, понеслись над ночной поляной.
Хеллу привык, что поют калеки. Он привык к тому, что поют те, кто не способен ни на что другое. Чем сильнее искалечить человека, тем охотнее он будет петь. А еще лучше, если поющая тварь чахнет прямо с детства. У таких меняется само отношение к жизни. Это хорошо, если калека за всю жизнь не убьет ни одной птички. Рыбы, увидев наклоняющуюся к воде тень, смеются и беззвучно раскрывают рты. Певец может подсказать мастеру важное, может помочь глупой женщине, но его не допускают к костру в лучшее время. У него плаксивый голос, когда он хочет есть, но голос сразу возвысится, если на калеку прикрикнуть. И если он поет всю ночь, то не должен падать после сказанных им слов. Но если сказал, пусть прячется, пока сонного не затоптали на голом полу.
А охотник занимается настоящим делом.
Охотник много ест, сутками бежит за стадом, прячется от злобного холгута, ныряет в воду, как рыба, подобно летучей мыши скрывается в лесу. Он в спальном пологе берет молодую женщину. Он товарищ по жене многим охотникам. У него нет времени на глупости.
Хеллу сжал зубы.
Он, наверное, не такой, как все.
Он иногда поет.
Он не хочет, но голос сам пробивается сквозь сжатые губы.
Увидев Большое копье, он против воли начинает пританцовывать.
И Дети мертвецов тоже не похожи на ужасных калек, но поют. Обнявшись, раскачиваются, ведут ужасный речитатив, от которого останавливается река.
Из пламени костра вынырнула женщина.
Хеллу сразу узнал молодую, красивую. Узнал зеленоватые волосы, как летящее облако.
«…вместо глаз у нее васильки, вместо кос извиваются змеи…»
Ярко освещенная, мерцая, как волшебная рыба, молодая, красивая стремительно шла по кругу. На ней была узкая набедренная повязка, груди вызывающе торчали чуть в стороны, волосы летели, как дым. Стоило чуть замедлить темп, и волосы падали на глаза, как бы закрывая мир летящим зеленоватым занавесом. Но танцующей и не надо было смотреть. Она ощущала землю мелькающими длинными ногами. Она видела сквозь тьму. Стремительно, как летучая мышь, правила полет, куда ей хотелось.
37
Эхекай-охекай!
38
…Из сидящих вскочил рослый охотник.
Он бил в ладоши. Он прыгал и корчился. Он вскидывал руки.