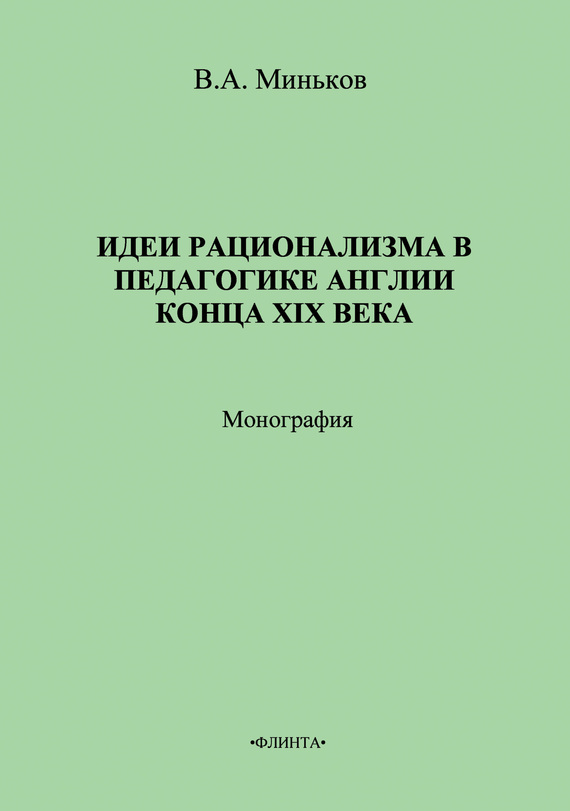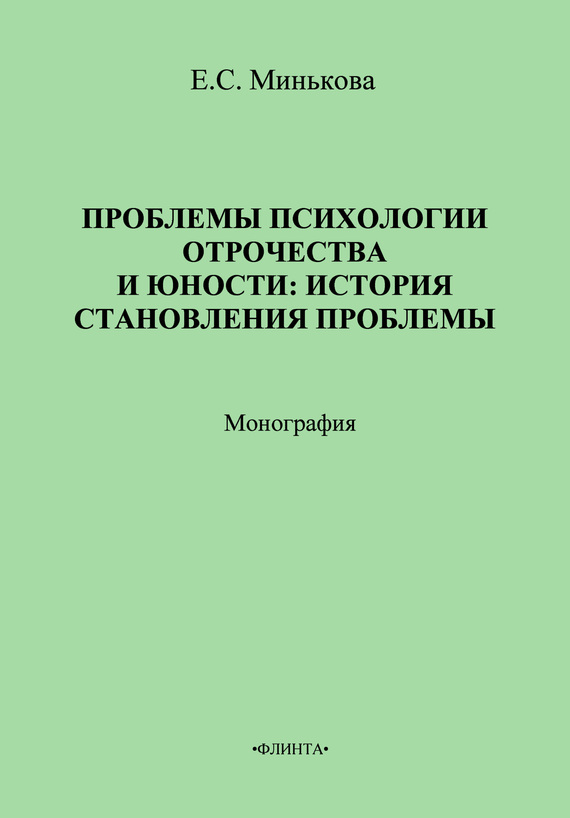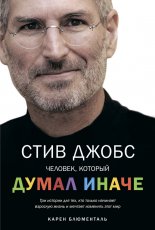У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

– Какой же ты, Гришка, дурак, – обиделась мама: неужели папе непонятно, что деревяшку нужно сначала выбить.
Но мне кажется, папа был все-таки прав: ну, какой же это молоток, если он без ручки?
В америку на электричке
К нам на дачу приехал дядя Саша. Дядя Саша американец. Он папин брат. Папа с ним не виделся тридцать два года.
Дядя Саша привез барахлишко: несколько отрезов шевиота, пару шерстяных безрукавок, часы…
Но, узнав, что мне поменяли фамилию и я уже больше не Киновер, дядя Саша во мне разочаровался. И еще подлила масла в огонь бабушка Лиза.
Бабушка пожаловалась дяде Саше на маму и рассказала ему про случай с пионами, когда мама ее чуть не пристукнула, и дядя Саша все маме высказал, что он о ней думает. Мама не осталась в долгу и, назвав бабушку склочницей, выскочила из-за стола, а дядя Саша и папа отправились в бабушкину халупу выяснять отношения.
Но не успели они войти, как на пороге нарисовалась мама и бросила эти несчастные отрезы дяде Саше под ноги.
Бабушка и братья ругались между собой по-еврейски, а мама кричала по-русски. И ночью дядя Саша уехал, и папа его даже не провожал.
Мама выкатила из сарая тачку, и Дуняша, погрузив на нее дяди-Сашин саквояж, покатила его на последнюю электричку.
Как это делалось в одессе
Папа рассказывает про детство: маленький Гриша нашел на даче клад. Играл с мальчиками в «орлянку», и под конуру закатилась бита. Папа за ней – и вдруг натыкается на коробочку…
Мальчики ушли домой, и папа – снова под конуру. Вытащил и принес бабушке с дедушкой. И оказалось золото. Монет пятьдесят. Наверно, домовладельца.
Бабушка задумалась, но дедушка велел отнести на место – мало ли что? А дядя Саша все слышал.
Папа отнес и на следующий день пожалел: надо, думает, взять, хотя бы монетку.
Полез – а под конурой пусто.Листья травы
Возле опрокинутой на попа тачки с болтающимся в кармане фартука спичечным коробком мама отсеивает мусор, и награбленные вместе с обломками веток листья дожидаются своего часа.
Папа красит забор и окаймлением банки, в которую папа окунает кисть, накапанным обручем оставляет на траве коричневую печать. Передвигаясь вдоль забора, папа ее размножает.
Мой кругозор ограничен маминой тачкой и папиным забором. Для меня это ЛИСТЬЯ ТРАВЫ.
Про деда мороза, или как я болел за трактор «сталинград»
Я думал, мама всегда притворяется: и когда падает в обморок, если я не прополол на даче грядку, и когда роняет половник при виде сползающей в тарелку сметаны. И все равно мне ее очень жалко. В особенности сейчас. Когда она уже давно в могиле.
И чтобы стало еще жальче, мне вспоминается, как мы играем в подвале у Кольки Лахтикова в очко, и вдруг, напав на мой след, в своей каракулевой шубе на пороге сказочным привидением появляется мама и, рухнув на половицы, лежит, раскинув руки, посредине комнаты, и тетя Полина (так зовут Колькину маму) «воткнула» ей, как сказал бы Глеб Горбовский, «нашатырю», и я отвел маму домой и все приговаривал, мам, ну чего ты… а, мам… И потом у мамы случился инфаркт и ее положили в Серебряном переулке в госпиталь, и я приехал к ней под Новый год в Архангельское и на пруду катался там на коньках, и вдруг под вечер мама мне и говорит:
– А папка-то наш совсем один… поехали, Толюн, в Москву…
И в той же самой шубе вышла вместе со мной на шоссе, и мы с ней поймали такси. И сначала ехали в темноте, и только на счетчике светились бегущие цифры, и вдруг замигала огоньками Москва, и папа вышел к нам в своей пижаме, и на столе сверкала разноцветными лампочками елка, и возле креста на вате мне «в подарочек» стояла баночка с лимонными дольками, я ее, правда, потом сразу же проиграл Петушку. И в маске Бармалея папа как-то неуклюже притопывал и, хлопая в ладоши, смущенно приговаривал: «Красота, красота… мы везем с собой кота… чижика, соба-ку… Тольку – забия-ку…» И мама сказала, что «никогда ей этого не простит!» – не простит бабушке Лизе, – что «эта дура внушила Толюну», что не бывает Деда Мороза.
И еще как мама выскочила чуть ли не на ходу из трамвая и привезла мне на Павелецкий вокзал аптечку и, когда уже тронулась электричка, в последний момент успела ее мне все-таки всунуть, и как уже в лагере я эту аптечку поменял на полдник.
В тот день на полдник давали кекс и компот из чернослива; а если давали чай, то, чтобы не пролился на трусы, надо успеть завернуть клеенку.
И как почему-то именно мама привела меня первый раз на футбол.
Я еще совсем не ругаюсь матом, и вместо штанг возле помойки два здоровенных булыжника. Сначала меня не принимали, но когда все-таки приняли, то поставили в ворота, и я разбил, помимо ссадины на локте, еще и коленку, после чего меня из ворот убрали, и я просто стоял и смотрел.
И мама мне вдруг и говорит:
– Собирайся, Толюн, на футбол… – и мы с ней поехали на стадион «Динамо», у мамы там рядом ее академия. Играли тогда «Динамо» Москва и «Трактор» Сталинград.
И за «Динамо» стоял Хомич, а я думал, Хомич только у нас на даче, у нашей хозяйки так звали кота. И все болели за «Динамо» за то, что оно самое сильное. А я стал болеть за «Трактор» за то, что он самый слабый, я тогда еще был за бедных. И «Трактор» вдруг взял и забил, я, правда, все прозевал и от огорчения даже чуть не заплакал. Зато понравилось, как переворачиваются цифры: сначала стоял ноль, а потом повернулось – и уже единица. А может, я это видел еще в кино. И все уже стали уходить и злорадно ехидничали, что «Динамо» припухло. И вдруг на последней минуте Леонид Соловьев забивает «Трактору» «банку» чуть ли не с центра поля. И когда шли толпою в метро, то все еще смеялись, что это был не гол, а «пшенка», и что вратарю «Трактора» надо ловить не мячик, а бабочек. И тогда я решил больше за «Трактор» не болеть.
Плеточка никиты симоняна
1
Как правило, взрослые, вспоминая свое счастливое детство, пуская ностальгические слюни, в первую очередь упирают на «летучую мышь», так, если мне не изменяет память, называется ручной фонарик, при помощи которого, еще путешествуя пешком под стол, но почему-то обязательно под кроватью, выхватывая передвигающимся лучиком строчку за строчкой, можно проглотить целую Ленинскую библиотеку «Всадников без головы» или проштудировать в тисненом переплете с таинственной буквой «ять» подшивку изданного еще в 1913 году журнала «Вокруг света» с пожелтевшими страницами, где на потрескавшихся картинках изображены танцующие под барабанный бой папуасы в набедренных повязках и с размалеванными, помимо колец в носу, щеками; или застывшие горошины инея в скомканной бороде только что вылезшего из берлоги Снежного человека.
А мне, сколько я себя помню, дома всегда было скучно. Отрабатывать «Мальчиком из Уржума» штрафную санкцию за неудовлетворительную оценку в папином табеле энтузиазма не прибавляло, и, стараясь не попадаться папе на глаза (шатание без цели по коридору приравнивалось к прогулу музыкальной школы), я норовил, если не отбывал установленный папой срок, как можно незаметней выскользнуть во двор. А если был уже прикован к галерам, то доставал из-под подушки заветную тетрадь и, маскируясь под арифметическую задачу, закручивал в точилку затупившийся еще с прошлого раза грифель.
2
С легкой руки мамы я вдруг ощутил в себе какой-то бухгалтерский зуд к футбольной статистике. Обычное сообщение о том, что «на республиканском стадионе имени Берия местные динамовцы принимали своих одноклубников из Киева» и «счет на двенадцатой минуте открыл нападающий гостей Михаил Коман, а за четыре минуты до окончания встречи Автандил Гогоберидзе восстановил равновесие», приводило меня в такой же трепет, как бороздящего Атлантический океан «пятнадцатилетнего капитана» – вышедший из тумана «Остров сокровищ». И из газет, что висели на повороте из кухни в коридор в матерчатой сумочке, куда папа складывал в основном «Юманите», предпочитая эту газету всем остальным за нежность бумаги, я вырезал статьи Мартына Мержанова и Юрия Ваньята.
Графики забитых голов своим очертанием напоминали плеточки, и за каждой плеточкой был закреплен постоянный цвет: малиновое «ЦДКА» и синее «Динамо», коричневое «Торпедо» и красный «Спартак». А всем остальным я подбирал цвета футболок сам – в зависимости от имеющихся в моем распоряжении карандашей.
Но самое главное – это, конечно, таблица, что начиналась командой «ЦДКА» и заканчивалась «Шахтером» из города Сталино. Таблица состояла из клеточек, и в каждую клеточку потом заносился результат.
Прежде всего надо было вывести слово КОМАНДЫ и потом направо и вниз, начиная с единицы, 18 цифр и возле каждой цифры, идущей вниз, написать название, лучше, конечно, чернилами, но чернилами можно поставить кляксу, или дрогнет рука – и потом не стереть, и тогда я решил сначала все набрасывать карандашом, а потом уже чернилами обводить, а на листочке еще не мешает потренироваться; и если рядом с цифрой 4, например, выведено «Торпедо», то на пересечении с цифрой 4, стоящей наверху, клеточку нужно зачернить, потому что «Торпедо» само с собой не играет; и в результате из всех затушеванных ступенек получится лесенка.
3
Чемпионат СССР начинается где-то в середине марта, и к этому времени таблица должна быть уже готова. И тогда из всех городов можно услышать репортаж. Сначала из Тбилиси. Потом из Киева. Потом из Минска… И, наконец, из Москвы и из Ленинграда. Каждый сезон в Москве открывается 2 мая. И почему-то всегда «Торпедо» – «Спартак».
Не видя еще живьем (за исключением «Трактора» и «Динамо»), ни одной команды, я полюбил произношение кочующих из репортажа в репортаж фамилий: Чистохвалов, Маргания, Бесков… Веньковатов, Дементьев, Сарджевеладзе…
Нравились и просто отдельные слова: корнер, пенальти, офсайт… Но больше всего завораживал маслянистый голос Вадима Синявского: «Внимание! Говорит Москва! Наш микрофон установлен на центральном стадионе «Динамо». Ну, и конечно, футбольный марш.
Названия команд звучали для меня волшебной музыкой: «Крылья Советов», «Зенит», «Даугава»… Себе я выбрал «Крылья Советов», и теперь из всех газет, включая и папино «Юманите», помимо футбола, стал вырезать все статьи, где упоминается город Куйбышев, даже если это отчет о слете каких-нибудь хлеборобов или животноводов. И когда чемпионат СССР был у меня продублирован на столе, то самая заветная пуговица от дедушкиной телогрейки досталась центральному нападающему «Крылышек» Александру Гулевскому. А когда я стал болеть за «Спартак», то Александра Гулевского сменил Анатолий Ильин.
4
Но это все потом. А сейчас еще только осень 1950-го. И, высунув кончик языка, я вывожу красным карандашом плеточку Никиты Симоняна. В этом году он забил тридцать четыре гола!
Лирический этюд
Мне девять с половиной лет, а Гале Тюриковой, наверно, уже двенадцать. И я за Галей «стреляю». Ну, что значит стреляю? Просто закрою глаза и мечтаю. Конечно, про себя. Но почему-то все об этом знают.
И вдруг Потэска мне и говорит:
– Сундук, а, Сундук… слышь… а Галька-то Тюрикова в тебя… бля буду… втрескалась… – и, так это понимающе, в знак солидарности лыбится.
Потэска уже носит кашне, и через восемь лет во время фестиваля его на несколько лет заметут в Архангельскую область. За ограбление делегата из Мозамбика. И когда его «брали мусора», то он от них уходил в Подсосенском переулке по крышам. По крайней мере, так гласит легенда.
И, получив такую информацию, от переизбытка чувств я витаю в облаках.
Если закрыть глаза, то Анисим дает мне пас, и я в одно касание пяточкой переправляю мяч в ворота. И Галя все видит…
А если их открыть, то из окошка третьего подъезда меня окрыляет такая картинка: прижав к бокам локти и выставив перед собой ладони, Галя взлетает над все мелькающей и мелькающей веревкой и как будто плывет…
Но Леня Спича мне потом все рассказал. Что Потэска просто пошутил. Всем было интересно, как себя теперь Сундук поведет. И все потом надо мной смеялись.
А завершает мой этюд такое воспоминание.
Потэска разбил Спиче нос, и, хотя Леня давно упал, бой все равно продолжается. И, кроме испачканной рубашки, кровь досочилась уже до самого ремня и все стекает и стекает теперь по штанам… Но Потэска все продолжает и продолжает бить…
И девочки, в том числе и Галя Тюрикова, стоят и смотрят…
Побратимы
Недавно в «Моей маленькой лениниане» Венички Ерофеева я обнаружил у Владимира Ильича такую шуточку:
«Тов. Цюрупа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).
Елена Федоровна Размирович – Митькина бабушка и соратница моего дедушки. А дедушка кадрил соратницу товарища Крыленко – товарища Коллонтай. И потом дедушку выслали в Германию, а по возвращении на Родину выправили ему диагноз «враг народа».
И хорошо еще, вмешался Климент Ефремович. А Митька теперь, выходит, мой побратим.
Но самое главное все-таки не это. Митька – единственный на Покровском бульваре человек, которого я потом встречу на концерте Булата Окуджавы.
Чистые пруды
1
Я выхожу на лестницу и, подкравшись к ступенькам, ложусь животом на перила. Можно, конечно, и подкараулить лифт, но внизу тишина. Раньше, когда лифт внизу, его и не вызовешь. И даже не было кнопки.
Витожка обещал мне и чехлы, но пока дает напрокат одни «норвежки». Так у нас называют беговые коньки. И еще их называют «ножи». Витожка их берет за рубль с полтиной у брательника и за каждый вечер снимает с меня трюндель.
Скатившись на первый этаж, я выхожу во двор и, аккуратно ставя «норвежки» в снег, сворачиваю в подворотню.
На фоне тускло мигающей лампочки немеркнущие герои моего времени. Андрюша с чувством собственного достоинства все так же цыркает в урну. У Петушка к заветным сапогам добавилось шелковое кашне. У Кольки Лахтикова теперь сверкает фикса. На Скоморохе вместо сдвинутой на лоб ушанки с залихватским помпончиком вязаная шапочка. Бабон все такой же озабоченный и грязный. А Двор Иваныч вдруг куда-то пропал. Наверно, сел.
Зато меня больше никто не обыскивает: я теперь «на ножах».
2
Когда мороз несильный, обычно я топаю прямо в кедах, а связанные шнурками «ножи» перекидываю через плечо. И прямо на месте переодеваюсь. А кеды запихиваю под скамейку. И чтобы потом найти, скамейки не мешает пересчитать. Но сегодня обещали минус двенадцать. И на бульваре еще терпимо – снег, а хуже всего уже на Покровке переходить через светофор. И чтобы не затупились лезвия, приходится еле ползти.
Еще бы не помешало прихватить с собой напильник, но точить напильником одному – несподручно. Протянешь конек товарищу, и тот, зажав его между ног, как будто бы дрочит. Потом попробует на ноготь: режет или не режет? И если режет, значит, с ногтя сойдет стружка.
Но у меня нету товарищей. Анисим копит на гантели, а Сема весь ушел в авторучки. И потом, когда начнут шмонать, могут и припаять холодное оружие.
3
На Чистых прудах толпа в основном катается на «гагах». Или на «канадках». А высший пилотаж – это заделать «пистолет» – присесть на одну ногу, а та, что, вроде ствола, смотрит вперед, – и как будто стреляет. И стелющимся по льду краснознаменным ансамблем, держась друг за другом за плечи, вдруг пролетит галдящая сороконожка…
А на «норвежках» кататься запрещено. В прошлом году, говорят, еще разрешали. Но на 8 марта кому-то пропороли живот. И теперь на входе вместе с контролершей дежурит «мусор» и проверяет все чемоданы и сумки. А если недоглядел, то при выходе на лед возле перил стоит еще один «мусор».
Но шила в мешке не утаишь: сегодня я уже досчитал до пяти. И на тех, кто на «ножах», как в будущей песне Высоцкого, «Идет охота…».
И прямо из-под кисти Рафаэля в эту пятерку неожиданно затесалась волчица. Но «мусора» ее почему-то не трогают. И не совсем понятно, как ее пропускают на лед: не будет же она в своем оранжевом свитере карабкаться через забор.
Прильнув к штакетнику, я выясняю обстановку: покамест «мусор» всего один… Минут через десять снова проехал и опять тот же самый. А все остальные гоняют чаи. И, значит, можно лезть. А иногда, еще не успеет проскочить, а следом уже пара… Опять один… И снова пара… И главное, что все разные. И, значит, надо смотреть в оба.
4
– …Ну, что сказать вам, москвичи, на проща-а-нье?.. – задаваясь привычным вопросом, размашисто ворожит приблатненный Утесов, и под этот всегдашний мотив высыпавшие, как из рога изобилия, «мусора» загоняют народ в раздевалку… Все сужающиеся и сужающиеся круги превращаются в точку, и по бульвару уже валит толпа…
Пересекая толпу, я подбегаю к забору и, подтянувшись, ложусь животом на частокол. Делаю, как на брусьях, взмах и, проваливаясь в снегу, прыгаю по склону вниз.
Выскочив на лед, я закладываю за спину ладони и, пригибаясь, иду на вираж. Я катаюсь совсем один…
Из раздевалки выезжает «мусор» и едет прямо на меня. Я нарочно притормаживаю, но в последний момент уворачиваюсь. «Мусор» пытается меня схватить и падает. За забором смеются, и в «мусора» летят снежки. Из раздевалки на помощь своему товарищу выезжают еще трое.
Тот, что упал, отряхивается и, набирая скорость, гонит меня на этих троих. Я делаю зигзаг и, выскочив опять на снег, бегу обратно к забору. Снова подтягиваюсь, но с закинутой на штакетник «норвегой» застываю. Переливаясь свистком, с той стороны на меня бежит пеший…
Все еще на снегу, я проваливаюсь в сугроб, и те, что меня обложили, подступают все ближе.
Я бросаюсь на них и в сторону. Троих удается обойти. Но последний успевает прыгнуть и, падая, хватает меня за ногу. Остальные подбегают и, навалившись, выкручивают мне руки…
5Хотя ее и расцветил Хэм, она все равно не по мне: я не люблю корриду.
Ну, что это за поединок, когда все одного – и дразнят, и убивают. Мне по душе, когда убивают – все, а дразнит – один.
Вот это, я понимаю, бой!
6Я открываю глаза и, оторвавшись от штакетника, поворачиваю голову…
Тот, что свистел, молча приближается и смотрит мне под ноги. Поправляет у себя на тулупе кобуру и, погрозив рукавицей, недобро усмехается. Замаскированные снегом просвечивают запрещенные «ножи».
Проторчав несолоно хлебавши перед забором, я понуро плетусь домой.Червонец
Когда провожали в армию Андрюшу, то я с Петушком поспорил, что выпью прямо из горла чекушку. И все стоят и смотрят: осилю или не осилю…
Но как-то сразу не пошло, и тогда я отнес чекушку домой и вылил ее в тарелку с грибным супом. И после обеда снова вышел во двор.
И сначала мне никто не поверил: наверно, подумали, затырил. Но, в подтверждение моей честности, грибы прямо через нос неожиданно пошли обратно…
И Петушок мне до сих пор должен еще старыми червонец. Но теперь уже никогда не отдаст.
Когда Петушок повзрослел, то ему самому дали «червонец» за групповое изнасилование. И уже в лагере, Анисим потом рассказывал, Петушка зарезали.
Мелодия для анатолия ильина
1
Если из всех голов, включая и тот, знаменитый, «бобровский», забитый при счете 2:2 в ворота легендарного Хомича, чьим именем наша дачная хозяйка в «Заветах Ильича» окрестила своего любимого кота, еще во времена Вадима Синявского с его скрипучей скороговоркой, приправленной какой-то вкрадчивой, а если быть точнее, даже маслянистой хрипотцой, выстроить, как у художника Верещагина, пирамиду, то на вершину, убрав с картины ворону и заменив ее «трепещущей ласточкой», я бы, не задумываясь, поставил гол Анатолия Ильина. Не тот, «золотой», что в олимпийском финале Мельбурна, а тот, незасчитанный, в ворота московского «Динамо», метров, наверно, с сорока, когда пущенную из глубины поля «свечу» можно было и укротить и, раскидав каскадом финтов динамовскую защиту, где, во главе с умеющим забивать в падении головой Константином Крижевским, хозяйничало неизменное ККК, выйти на финишную прямую… но Анатолий Ильин, не дав «свече» погаснуть, точно застыв с летящего внаклонку разворота, сложился в коротком замахе… и сам Лев Яшин даже не успел шелохнуться…
И на Восточной трибуне блатные повыпускали из клеток своих «сизарей». Раньше была такая мода отмечать первый забитый мяч полетом голубей. Но судья почему-то дал отмашку, хотя офсайта, и все это видели, не было. И такого оглушительного свиста я больше никогда в жизни не слышал.
2
А самый черный день в истории моей «высокой болезни» случился в Лужниках 6 сентября 1959-го.
Сначала я решил, что это Иван Мозер. Вот кто попортил мне не один литр крови. Бывало, вдруг нарисуется под номером 11. И все. И можно посылать депешу в Тарасовку. Для выяснения состояния здоровья. Какая-нибудь травма голеностопа. Или растяжение мышцы. Но это в «Спартаке». А против сборной Финляндии, помню, вышел киевлянин Фомин. Но, мне в утешение, Стрелец, в ту пору еще со взъерошенным, как тогда говорили, «коком» улыбчивый пацан, забил целых четыре гола. И все взахлеб орали «русский танк!», а через год, разобрав в «Комсомольской правде» на части, в принудительном порядке отправили на перековку. Ну, и понятно, Рыжкин – еще мой один вурдалак. Конечно, неприятно, но не смертельно: куда им всем было тягаться с Анатолием Ильиным!
Но тут я сразу же почувствовал что-то неладное. И как в воду глядел. А выбежавший в составе нашей команды на предматчевую разминку новобранец оказался для всех темной лошадкой. И вслед за диктором диковинную фамилию Месхи светящимися точками продублировало еще не совсем привычное табло. И этот порхающий по рингу легковес стал вытворять такой цирк, что стадион просто не мог разогнуться от хохота. И когда бедный Франтишек Шафранек, поддавшись на ложный выкрутас, укладывался на газон, то этот играющий в кошки-мышки джигит, как будто на коньках, обегал уткнувшегося в траву номера 2 сборной Чехословакии, напоминая все того же Бобра, но только уже хоккеиста, когда, уложив на лед вратаря и объезжая ворота, под восторженное улюлюканье публики он завозит в ближний угол точно приклеенную на крюк шайбу. И чем чаще все это повторялось, тем с каждой минутой все таял и таял последний шанс, что у кромки поля, наконец-то, появится лучший нападающий сборной СССР, если, конечно, учесть, что наш «русский танк» с развороченными гусеницами уже больше года стоит на приколе.
…А когда выходили со стадиона, то, напротив памятника Ильичу, с расстегнутой ширинкой и с «соплей на губе» на лавочке, раззявив хлебальник, дремал какой-то пьяный.
И Юрка Вишняков еще похохмил:
– А вот и Месхи!..
И за исключением меня все засмеялись.
Им бы все ржать, а у меня сегодня траур – из сборной СССР по футболу убрали Анатолия Ильина!
3
Когда осыпаются иглы, то елку снимают с креста. И это очень обидно. И у Булата Окуджавы даже есть такая песня.
Но обиднее всего, когда еще совсем не осыпался, а на тебе уже поставили крест.
4
– Ну что, Сундук, – предлагает мне, нахмурившись, Анисим, – идем к Качалину… – и рикошетом от урны вколачивает консервную банку в угол подворотни. Освобождая пищевод, набирает слюну и пускает вдогонку увесистую харкотину.
Это его реакция на отлучение от сборной Бориса Татушина.
Для Анисима Борис Татушин все равно что для меня – Анатолий Ильин. А Метревели – все равно что для меня Месхи. И если Славу Метревели поменять на слово культура, то Анисим напоминает мне Геринга. (Услышав слово «культура», Геринг сразу же хватался за кобуру.) И тут меня вдруг осеняет.
Анатолий Ильин – он и в Армении Анатолий Ильин. И если его поставить на левом фланге вместе с Михаилом Месхи, такая дружба народов не приснилась бы и Татушину с Исаевым.
Помню, в Тарасовке отрабатывали тактический прием. Исаев неожиданно встает на колено – как будто у него развязалась бутса… и Огоньков пробегает мимо. А бутса даже и не думала развязываться. Огоньков уже пробежал, и тут Исаев, как на блюдечке, получает от Татушина пас и выходит один на один с Тучкусом. Которого за дырявость болельщики прозвали Штучкус.
А где-то еще в 54-м все бегали с Анисимом от контролеров, и Анисим залез по лесенке на крышу, а я от Лосиноостровской до самых Мытищ провисел между вагонами. Хотели с ним выяснить, как нам устроиться в «подносилы».
А еще в третьем классе один придурок из дома 16/10 все выдавал себя за Игоря Нетто. И за то, что нам «постукает», снимал с нас за каждый удар по десять копеек.
Но Игорь Александрович нас огорчил.
– Вы, – улыбается, – уже слишком старые!
Такой с виду нескладный и немного похож на жирафа. А ноги, если засучить рукава, то, как поет Клавдия Шульженко, точно «две большие птицы». Загреб – и давай плести кружева. И болельщики прозвали его Гусь. А когда отрабатывают «квадрат», иногда так отрывисто покрякивает. Все-таки капитан. Но никогда не шипит.
И, говорят, Алексей Парамонов еще в сороковых с этого и начинал. С того, что на стадионе «Динамо» вместе с другими пацанами подносил основному составу снаряды. И потом его взяли в дубль.
– …Пускай играет вместо Метревели… – разрешает мне Анисим. И возле расписания на Ярославском вокзале я назначаю ему встречу.
Все-таки его убедил. Что, прежде чем брать за грудки Качалина, надо сначала спросить у самого Ильина, на кого он больше согласен: на Славу Метревели или на «танец с саблями»? И я прождал, наверно, часа два или три. Но Анисим так и не появился.
И тогда я поехал один. Но, прометавшись из тамбура в тамбур, доехал только до Перловки. И все сомневался, говорить мне одному или не говорить? Не то чтобы сдрейфил. А так. Все сидел на скамейке и думал. И от волнения даже купил до Москвы обратный билет.
А до Тарасовки так и не доехал. А если бы доехал, то я бы тогда предал своего товарища. Ведь это Анисим кинул идею выдвинуть Качалину ультиматум. И на несколько месяцев потом пропал.
Оказывается, все тоже сомневался. И после мучительных раздумий ринулся в бой в одиночку. Но только не в Тарасовку, а на расширенное заседание футбольной федерации. Анисим вообще-то упорный. И в качестве кандидатуры на пост главного тренера сборной СССР предложил свои услуги.
Решил меня обскакать. А вдруг этот пост достанется мне? И в результате оказался в Клинике имени Ганнушкина.
5
Из Парижа транслируют репортаж. И хотя в заявке на участие в финале Ильина даже нет среди запасных, я все еще на что-то надеюсь. Но чуда не происходит, и, дослушав состав до конца, я выключаю приемник.
Но это не помогает: из репродуктора, что висит над входом в отделение милиции, жизнерадостный Озеров набирает на всю страну обороты…
Я закрываю форточку, но и это мне тоже не помогает: Озеров просачивается из-за стены.
Тогда я затыкаю уши и лезу под кровать, но благородный порыв оперного вокалиста накрывает меня и там.
– Удар, – «проводит мне апперкот» неистовый рупор отчизны, – еще удар… г-о-о-о-л!!!
И с этим победным воплем рушится последняя надежда на исполнение моего заветного желания. Что без Анатолия Ильина сборная обязательно должна проиграть.
И в результате, на радость болельщикам и мне назло, точно подслащивая для меня ядовитую пилюлю, сборная СССР по футболу становится первым обладателем Кубка Европы.
6
Не знаю, кого больше, но я люблю и кенаря, и кошку. Но если их поместить в одну клетку, то кенарь никогда не будет петь.
А кошка, сколько ее ни дрессируй, сразу же кенаря слопает.
7
И тогда я надумал поддержать своего любимого футболиста на дому, и в киоске «Мосгорсправка» мне выписали такую квитанцию: Ильин Анатолий Михайлович, 1931-го года рождения. Место рождения – город Москва. Проживает по улице Горького в доме № 6. Номер квартиры я, правда, уже позабыл.
Я вошел в подъезд и даже не обнаружил лифтерши. А теперь, вооружившись пулеметом, наверно, сидит целый отряд специального назначения. Ведь шуточное ли дело – улица Горького, дом № 6. В пяти минутах от самой Красной площади!
Мне открыла его жена, и я ее сразу же узнал. Галина Шамрай, чемпионка Олимпийских игр по гимнастике. Как будто спланировала со своих разновысоких брусьев…
У двух олимпийских чемпионов теперь бы в каждом углу коридора замаскировались по личному телохранителю и, в поисках бомбы, сразу же кинулись бы меня обезвреживать. А вместо этого из комнаты выглянула малышка. Не помню, были у нее бантики или нет. И мне сразу же представилась Олечка, которой родиться еще через два года.
Я сказал:
– Здравствуйте, а Анатолий Михайлович дома?
Галина Шамрай приветливо улыбнулась:
– Вы знаете, Толя уехал в Тарасовку. Может, ему что-нибудь передать?
Малышка все продолжала из комнаты выглядывать.
Она спросила:
– Мама, это кто?
И мама ответила:
– Это к папе. Да вы, проходите, не стесняйтесь… – и, повернувшись ко мне, снова заулыбалась…
И я представил их, папу и маму, вместе. Вот это, я понимаю, пара!
На месте тогдашнего Сундука сейчас я бы их сравнил с ВЫСОЦКИМ и МАРИНОЙ ВЛАДИ и на месте Галины Яковлевны даже попробовал написать воспоминания и назвал бы их АНАТОЛИЙ, или ПОЛЕТ С ПОДРЕЗАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ. Но тогда я еще даже и не подозревал, что Высоцкий уже существует и что его Жар-птица ему еще только снится; зато КОЛДУНЬЯ, обойдя все экраны Советского Союза, уже давно успела заворожить и меня, и Владимира Семеновича.
И я ей тоже в ответ улыбнулся:
– Да я и не стесняюсь… Просто я хотел сказать… вы, наверно, уже получили… письмо… но это все не то…
– Да, да… – она еще раз внимательно меня осмотрела и, точно признав, наконец, во мне автора, опять заулыбалась, – мы с Толей читали…
И было не совсем понятно, согласна она со мной или не согласна. Что там, в этом моем письме, все совсем не то.
Но теперь уже ничего не попишешь. Тем более что, может, еще где-нибудь и пылится. В какой-нибудь коробке из-под шляпы. Вместе с другими письмами. Наверно, я ему писал не один.
И как свалилась гора с плеч, что я его не застал. Ведь окажись Анатолий Михайлович дома, что бы я ему тогда сказал? Стоял бы и, уставясь в половицу, думал. Как на платформе станции Перловка.
Другое дело Иосиф Бродский, к которому я тоже потом приду. Через тринадцать лет.
На слова Иосифа Бродского у меня сложилась песня. А для Анатолия Ильина нужно еще подобрать мелодию.
Как написал мой старший товарищ Володя Корнилов:
Вдруг на конус пошли —
Без жалости! —
И поэзия, и любовь
….С лета сорок шестого, с августа,
Я всерьез полюбил футбол.
Помню, черт-те чего звучало,
На дрожжах подымалась спесь.
Но снимали мои печали
Блин, Бобер, Пономарь, Чепец!
А я всерьез полюбил футбол, наверно, с весны пятьдесят четвертого, с мая.
И снимали мои печали
Гусь, Кузьма, Ильинок, Стрелец!
8Но чтобы эту мелодию подобрать, сначала надо найти слова. И тогда я ему все расскажу.
И про «сизарей», зазря выпущенных блатарями во время той игры. И про тот удивительный гол, Анатолий Михайлович, наверно, уже и сам его не помнит, его же не засчитали.
И про тот, что, конечно, помнит, потому что его помнят все, – гол, забитый на чемпионате мира в Швеции в переигровке со сборной Англии и зафиксированный на газетной витрине дома № 3 по набережной Шевченко; и как, вырвав с витрины страницу и вырезав из нее фотографию, я прикноплю ее потом у себя над полатями в акмолинской степи, где за окном барака «медленно блеющие бараны», вместо Лолиты Торрес или Жерара Филипа, – как будто этот гол забил не Анатолий Ильин, а Анатолий Михайлов – еще на Покровском бульваре на газоне чертежной доски, где вместо штанг – спичечные коробки, а вместо футболистов – пуговицы, и на воротах – от дедушкиного полушубка – Борис Разинский, а Борис Татушин – укатился под сервант; как уже в конце октября прямо с Казанского вокзала в телогрейке и в резиновых сапогах я рвану в Библиотеку имени Ленина и, заказав подшивку «Советского спорта», проштудирую все 18 голов самого результативного футболиста чемпионата, приплюсовав к еще увиденным весной пропущенные в битве за «казахстанский миллиард», – подшивку, увенчанную экспромтом (уже не помню фамилию автора), из которого запомнилась такая концовка: «Но блистает Ильин Анатолий неизменно на левом краю!»
Я расскажу, как в июле 69-го на Колыму приехали ветераны московского «Спартака» и вместе с ними почему-то «примкнувший к ним» Юрий Фалин. И как Николая Тищенко встретили овацией и, вспомнив, как в полуфинале с болгарами он играл почти целый тайм со сломанной ключицей и даже сделал голевую передачу Стрельцову, все закричали:
– Коля, как твоя рука?!
И как во втором тайме, погасив радость встречи, Анатолия Ильина почему-то опять заменили. И снова, как и тринадцать лет назад, вернулась и опять засвербила обида.
И как я ненавидел Качалина за то, что в Мельбурне до самого финала он все ставил и ставил Рыжкина. И как потом все ему простил за то, что в финале он все-таки поставил Ильина. И какой это был для меня потом праздник. Потому что Ильин еще и забил гол. И не просто забил гол, а забил гол «золотой». И все потом так и говорили «золотой гол Анатолия Ильина». И как я потом, наверно, всю неделю подряд ходил на «Карнавальную ночь». Все ходили на Гурченко и на Игоря Ильинского. И еще на Филиппова, какой он пьяный смешной. А я ходил на Анатолия Ильина. Просто у нас в «Колизее» перед сеансом всегда крутили «Советский спорт». И все не мог налюбоваться трехходовкой Татушин – Исаев – Ильин.
Но все равно мой самый любимый гол – тот, незасчитанный. В ворота Льва Ивановича Яшина.Новое кино
1
Сегодня подхожу к телефону, а в трубке молчат; и потом неожиданно засопели. Ну, думаю, Анисим, это на него похоже.
– Ну, ты, – спрашивает, – чего?.. – и так это горестно вздыхает, как будто мы с ним только вчера расстались. А мы с ним не виделись уже три года – еще с тех пор, как он поехал брать за грудки Качалина. И, не дождавшись моего ответа, снова засопел, точно взвешивая, стоит ли ему говорить со мной дальше или не стоит? И, наконец, словно спохватившись, деловито продолжает:
– Слушай, Сундук, ты чего сейчас делаешь?.. – и вдруг, как и тогда, десять лет назад, когда мы с ним хотели прочитать Лене Федотовой про лифчик, начинает хохотать. Я думал, может, Анисим косой, но, оказывается, нет. Просто я от него уже отвык.
– Ну, ладно, – говорю, – сейчас приеду…
2
На «Кировской» выхожу из метро, и, вместо обшарпанной «Аннушки», весь чуть ли не вылизанный, один плюгавый вагон. И даже и не захотелось в него садиться. Ну, и пошел пешком. Иду и ничего не узнаю.
Там, где раньше была раздевалка, построили кафе, и на ступеньках к столикам, что под цветастыми зонтами, очередь. А внизу – и почему-то черные – лебеди. И, как в зоопарке, каждый им что-нибудь бросает: кусочек пирожка или ломтик ватрушки.
И как-то вдруг сделалось не то чтобы грустно. А так.