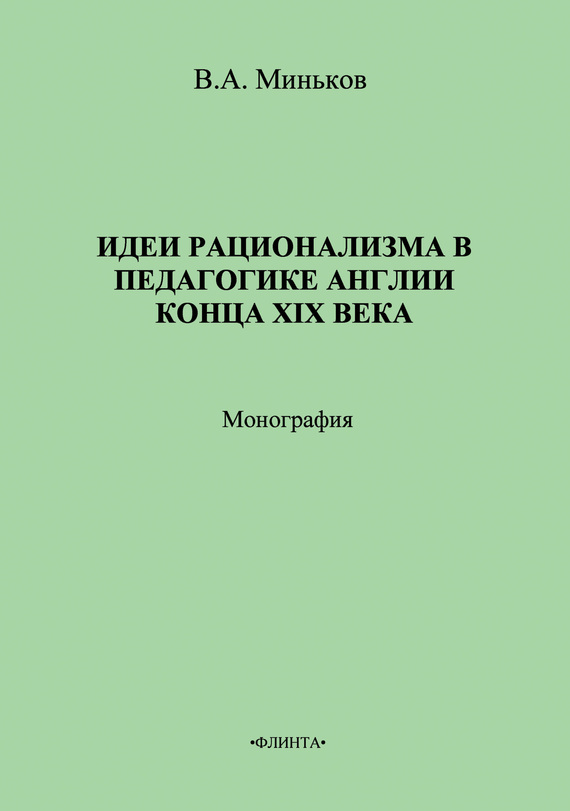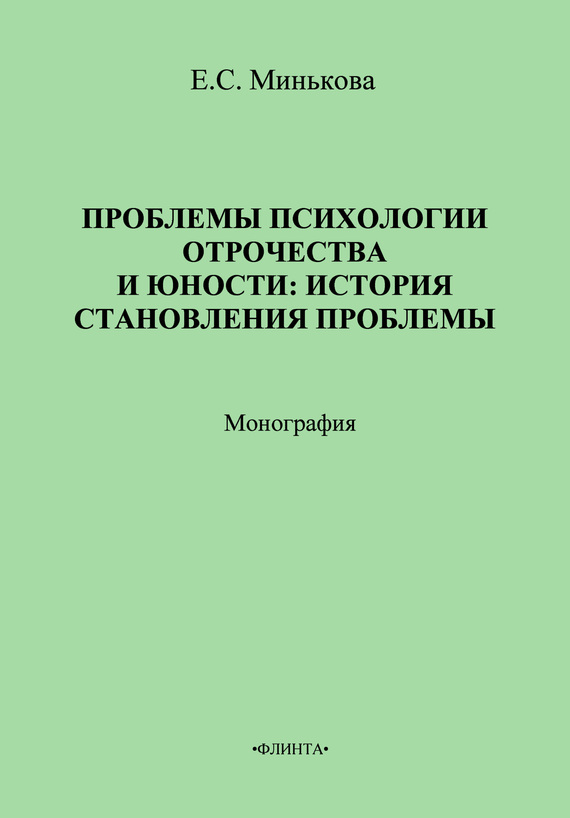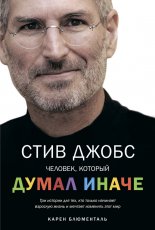У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

Замерзшим языком,
Что все поля под снегом,
Все реки подо льдом [1] .
И твоя приписка – «Подействовало на меня очень».
Ответ я написал такой:
«В связи с тем, что я материально ограниченный, а товарищ Жаботинский – лауреат Государственной премии, прошу товарища Жаботинского усыновить мою дочь».
Решил тебя остудить. Чтобы пришла в себя. Охладить твой пыл. Не отдавать же такое заявление в этот самый отдел! Думал, – прочтешь – и тоже разорвешь. Как я. А потом тоже склеишь. На память.
Сначала я хотел послать просто так, но тогда все будет понарошку. Подумают, сдрейфил.
Тогда я взял и заверил. Потом, конечно, спохватился, даже ходил на почтамте к начальнику. Но было уже поздно: письмо ушло.
Меня, правда, нотариус предупредил: «Смотрите, вы еще плохо знаете женщин. Она может все принять за чистую монету».
…Я засунул конверт обратно в карман и увидел двух девчонок, примерно таких же, как мальчишка, ну, может, чуть постарше, класса так из шестого (а вдруг из девятого?). Девчонки были в передниках и с такими круглыми футлярами, в каких студенты носят чертежи.
Я у них спросил:
– Девочки, вы не из седьмого класса?
И снова попал впросак. Я даже сначала испугался (а вдруг из четвертого?). А они на меня посмотрели чуть ли не сверху вниз и так снисходительно заулыбались:
– Что вы?! Мы уже из десятого!
Но вот, наконец, угадал: кажется, семиклассники. И Олечку знают.
– Как вы сказали? – спрашивают. – Михайлова? Конечно, знаем. Из седьмого «в». У них дополнительный урок.
Ну, слава Богу. Все-таки Михайлова. А значит, и Анатольевна. (А вдруг уже, и правда, Евгеньевна… Ольга Евгеньевна… Михайлова… Даже не поворачивается язык. Уж лучше тогда Жаботинская.)
Интересно, а что Олечка будет писать в анкетах? Ну, потом, когда вырастет.
Олечка напишет: отец – Михайлов Анатолий Григорьевич. Потом Олечка задумается: а кто же он такой, этот отец? И, так и не найдя ответа, поставит на своем отце крест.
Но начальника отдела кадров на мякине не проведешь, и он заставит Олечку анкету переписать.
Олечка тогда подумает и напишет: отец – Жаботинский Евгений Евгеньевич. Ну и дальше все как положено.
Но начальник отдела кадров снова вернет Олечке анкету обратно и снова заставит переписать. Начальник отдела кадров скажет:
– Ну, как же так – Михайлова – и вдруг Жаботинский? Так не положено.
И тогда Олечка в последний раз задумается и напишет уже окончательно: отец – Михайлов Евгений Евгеньевич. И тогда все, в том числе и начальник отдела кадров, останутся Олечкиной анкетой довольны.
И тут я вдруг Олечку увидел: она вышла вместе с двумя другими девочками; девочки были помельче, и по сравнению с ними Олечка мне показалась какой-то неожиданно крупной.
Я совсем позабыл про шляпу, и она у меня чуть было не улетела. Но я все-таки успел ее подхватить и, нахлобучив поглубже, не совсем уверенно пошел наперерез. Через несколько шагов я остановился и крикнул: «Олечка!» – И девочки вместе с Олечкой остановились тоже. Сначала Олечка, а потом и они. Но только девочки все еще по инерции продолжали что-то Олечке говорить, а Олечка уже повернулась ко мне.
Неужели опять засмеются? Как тогда. Или просто пройдут, и все. А я буду за ними идти и все повторять: «Олечка… Олечка…»
Но никто даже и не думал смеяться. Вместо того чтобы засмеяться, Олечка пришла мне на помощь: не то чтобы резко, но вовсе не суетясь и все равно как-то робко (но не боязливо, это бы я почувствовал), она от девочек отделилась и, спокойно им кивнув (девочки уже замолчали и тоже повернулись ко мне), как бы дала им понять, что дальше они могут идти одни.
И через мгновение девочки остались уже где-то в стороне, а мы молча шли с Олечкой рядом: я – все придерживая шляпу (в другой руке «Уленшпигель»), и она – такими для меня незнакомыми плавными и не по-детски мягкими шагами (неужели это моя дочь?). Глаза у Олечки были опущены, но не совсем, и мне было хорошо видно, что самым краем они все-таки обращены в мою сторону. Черты лица, по сравнению с фотографиями у меня на стене, стали крупнее и в то же время точенее, но как бы жестче.
Впереди уже замаячил дом, а мы все еще продолжали молчать. (Ведь если даже идти пешком с Колымы, то все равно слов не хватит. А тут всего квартал.) Еще немного, и так вот, молча, и дойдем и так и не заговорим.
И вдруг у меня вырвалось:
– А ты знаешь, Олечка, кто я такой? – (Сказал и как будто бы не сказал, а упал, полетел; а ведь дом-то уже совсем рядом. Метров, наверно, двести. А может, сто.) Я почти остановился.
Олечка молча кивнула и вдруг посмотрела прямо в упор:
– Я тебя (она, наверно, хотела сказать «вас», но ошиблась, спутала)… как-то так неожиданно (Олечка все на меня смотрела)… – и, замолчав, снова опустила глаза.
Мы уже опять с ней шли, и дом все надвигался; ну, отодвинься (пропади совсем!), ну, хотя бы метров на пятьдесят, ну, на десять…
Я спросил (сам не знаю почему):
– Ну, как там бабушка, дядя Сережа?.. – (Спросил и как будто не спрашивал. Все. Уже подошли.) Олечка остановилась:
– Дядя Сережа? Да все поет…
Я сказал:
– А ты слышала, что у меня тоже есть песни? – Но, оказывается, нет. Не слышала. Олечка молча покачала головой и совсем тихо произнесла:
– Ну, я пошла… – и уже было повернулась. Но тут я вдруг вспомнил про книжку. Вспомнил, как про что-то сейчас лишнее и ненужное. Хотя и «Уленшпигель».
– На… Тут вот… возьми… – я ее даже не протянул, а скорее сунул (Все. Сейчас уйдет.)…
Олечка опять молча кивнула и вдруг спохватилась:
– Ну, я… пошла… (Книжку она положила в портфель.)
Остался фотоаппарат. Но и он меня теперь тоже не спасет. И все-таки я решил попробовать. Я пробормотал (Олечка уже открывала дверь):
– Понимаешь… на последней фотокарточке… тебе там всего четыре года…
Олечка ко мне повернулась и задумалась. Она все еще держалась за ручку двери, даже чуть уже дверь приоткрыла. Потом все-таки отпустила (Олечка еще колебалась) и сказала:
– Я вообще не люблю фотографироваться… – и вдруг сделалась не то чтобы серьезной (серьезной она была и до этого), а такой сосредоточенной, собранной. (А ведь раньше любила, в особенности если что-нибудь такое смешное. Один раз я ее даже сфотографировал вниз головой. Олечка стояла на четвереньках и, нагнувшись, смотрела на меня между сандаликами. Мне потом за это от тещи влетело. Все ругалась, что я ребенка порчу. Но что теща понимает? Ведь если фотокарточку перевернуть, то Олечка, как будто Атлант, держит на руках землю.)
Я скорее расстегнул футляр и, выкрутив фотоаппарат (я как-то плохо соображал, что делаю), стал прикидывать расстояние (все еще не верилось: а вдруг Олечка сейчас передумает?).
Все. Поставил. Два метра. (Но как же все-таки темно – ну прямо перед самым подъездом. Хотя бы немного отойти. Выйти бы сейчас на солнышко. И чтобы вокруг трава. И сквозь листву – небо. И чтобы возле – ручей. И чтобы Олечка мне прошептала:
«А я знаю, что это за ручей. Это же тот самый. В Усово. Помнишь, мы еще туда ездили с мамой?»)
На всякий случай я щелкнул два раза. (Потом все боялся, а вдруг позабыл перевести?) Фотоаппарат к футляру все никак не прикручивался: я его засовывал обратно вверх ногами.
А потом дверь захлопнулась, и Олечка исчезла (сейчас нажмет на кнопку и уедет на свой седьмой этаж). А я все еще стоял (все смотрел на дверь).
А потом повернулся и потащился прочь от этого каменного дома.Что остается
1
А все-таки где же зарыта собака: почему – ведь я еще ничего ей не сделал – а она уже готова меня растерзать.
И еще я боюсь коров. А также пастухов. И грозу.
Коров я боюсь за то, что они такие угрюмые и, когда меня увидят, то как будто жуют траву. Но на самом деле подбираются все ближе и ближе.
А пастухов – за то, что они надо мной смеются, что я боюсь коров. В особенности одноглазого Тихона, он всегда лежит пьяный на станции.
А когда начинается гроза, я залезаю под веранду и, притаившись между лейками, в страхе затыкаю уши.
2
Мы прыгаем с карниза на газон. Карниз над подъездом, и мы туда забираемся из окна и по очереди прыгаем. Все уже прыгнули по несколько раз, и только один я все еще не прыгнул ни разу. Никто уже больше не прыгает, и остался только последний я.
Я подошел к самому краю и посмотрел вниз – мне страшно. Тогда я отошел назад, рванулся – и остановился. Страшно еще сильнее.
Внизу засмеялись и, побежав на второй этаж, закрыли окно на задвижку. Молча стоят и смотрят, что я буду делать дальше. Постояли и ушли. Я остался один.
Стемнело, и внизу возвратились. Снова сбегали на второй этаж и опять открыли окно. Снова молча стоят и смотрят, что я буду делать дальше. Опять постояли и снова ушли. И снова я остался один.
Наступила ночь – и все уже давно спят. И только один я все не сплю. Я до сих пор все еще стою на карнизе.
3
Засветив небесному куполу по темени, молния озаряет застывший в трепетном ожидании сад. И если выползти из-под веранды на тропинку, то можно пересилить страх и, обретая Божий дар, подняться на колени перед березой. И тогда на твоем пути засияют рассыпанные по березовой коре нотные знаки.
У моего друга даже есть такая гравюра. Правда, березовый ствол у него там почему-то темный. Зато нотные знаки светлые. Я думал, что так и на самом деле. Но как-то нечаянно пригляделся и просто не поверил глазам.
Оказывается, в действительности все наоборот. И если ты не хочешь сойти с ума, то всегда должен быть готов к такому неожиданному превращению. Что самые светлые надежды в конечном итоге оборачиваются обыкновенными «Белыми столбами».
4
Точно срывая зло, раскалываясь и оглоушивая, сереющий небосвод затягивается пеленой, напоминающей искусственное освещение (словно на утреннем сеансе в «Колизее», когда вдруг тоже обрыв, и, требуя продолжения, из задних рядов недовольно свистят, а где-то сбоку все еще царапающим пунктиром матово подмигивает); но вот уже совсем другая картина, и на экране снова звук.
Сначала еще вполсилы – как будто, глядя на ужин, мама поливает из лейки свои незабудки, папа, глядя на зиму, опрыскивает из пульверизатора черную смородину, а бабушка из распахнутой настежь халупы поливает грязью и маму, и папу, и нашу домработницу, и вообще весь белый свет…но, все нарастая и нарастая, оказывается, уже лавина – из вылитых струн, и если ослабить колки, то, переходя на другую октаву, лупцует, пританцовывая по лужам, прерывистый шквал…
И вдруг, открываясь всей листвой сада, неожиданно пропадает, словно испарившимся занавесом; и в наступившем антракте чуть ли не у самой калитки последним звонком раздается гудок, немного сиплый и с оттяжкой: сигналя и набирая скорость, от платформы отходит электричка.
5
А если вскарабкаться на дерево, то ближе к горизонту, чем светлее над головой, тем зловещее и гуще лиловое марево, зато все ярче росчерки, но глуше и ворчливее раскаты и все длиннее паузы между окончанием сполоха и началом громыхания. (А в городе так никогда и не приходилось: на бульваре место на ветке занято вороной, а во дворе – ну, какие деревья – загаженный газон с прибитой на дощечке надписью «НЕ ХОДИТЬ» – но тут ничего не попишешь – животные читать не умеют, да за пазухой камень с пожарной лестницей на крышу, на которую при одной только мысли забраться дворник оторвет голову; и остается только лагерь, а там – с привязанной веревкой и с ползущим во время торжественной линейки стягом шест, похожий с высоты птичьего полета на вбитый колышек.)
Бледнеющие сети ливня уже дотаивают, но из водостока все еще хлобыщет в дождевую бочку.
6
Отражаясь задумчивой гладью, на якорях кувшинок чуть колышется стойбище сосен; блуждающим в зарослях зайчиком, глядя на сумерки, мелькает заплутавшее солнышко; нежась на лапах среди застывших дюн, мы витаем в облаках…
Плечо, как только в него уткнешься, сначала все еще горячее, даже обволакивает жаром; но вот, успокаиваясь, прислушаешься – и, уже теплое, так доверчиво дышит; зато чем дольше лежишь, тем становится все прохладнее и прохладнее.
7
Какие-то они у меня все-таки странные – и гроза, и деревья, и озеро… и даже небо: точно смотришь на них через решетку в зоопарке; и все никак не насмотришься. Как будто вымирающие звери.
В мире домашних животных.
8
Раньше я думал, что если утка – мама, то, значит, папа – гусь. А сейчас уже начинаю догадываться, что если папа – паук, то мама, оказывается, муха.
9
Я смотрю на ковер-самолет – на нем нет мертвого места: всю поверхность ткани покрывает узор из бабочек; сосредоточившись на чем-то своем, пошевеливают распущенными крыльями.
Когда ковер из универмага, то стоит провести пылесосом, и вместо узора – засиженная точками от клопов встревоженная Красная Шапочка или изъеденный молью погрустневший Серый Волк.
А когда из Серебряного Бора, то попробовать сдунуть ветром – и, оставив мохнатые купоны репейника (линяя пыльцой, ковер из шоколадного в разводах превращается в розоватый с колючками) – уже вспорхнули…
Как будто десант одуванчиков. Но только живых.
10
Нажав на калитку, ты скрываешься в зелени малинника; опасливо озираясь, я семеню вслед за тобой на расписанный резными петушками фасад.
– Погоди, – шепчу я, – что-то не лает… – и замедляю шаг. Собака выскакивает на тропинку и опрометью несется нам навстречу.
Я боязливо останавливаюсь, а ты как ни в чем не бывало подходишь к ступенькам и насмешливо оборачиваешься.
Собака пригибает голову и, потягивая вокруг тебя носом, виляет в знак признательности хвостом. Потом настороженно рычит и, как бы вспомнив что-то очень важное, словно спохватившись, бросается на меня.
Я затравленно цепенею, а собака, то отбегая, а то все сужая круги, чуть ли не задыхается в остервенелом лае.
11
Слышу, кто-то плачет: тоненько-тоненько, далеко-далеко… Просыпаюсь. Сквозь морозное окошко меня разглядывает луна. Воет собака.
Доченька, если услышишь когда-нибудь воющую собаку – не верь. Это не собака.
Это – твой папа.
12
Облака продолжали плыть все в том же направлении, за сопку, а из низины все так же тянуло холодом.
Какая-то пичуга, наверно, удивляясь моему присутствию, описала возле меня круг и, набрав высоту и как бы зависнув надо мной в воздухе, вдруг улетела. И это был совсем не воробышек. Воробышек – он ведь серый, а у этой – такая желтая грудка.
То ли дело ворона – ворону я бы узнал даже с закрытыми глазами; конечно, если бы она закаркала. А когда ворона не каркает, то ее можно спутать с грачом. Ведь, наверно, не зря Саврасов назвал свою картину «Грачи прилетели». А так бы навряд ли кто догадался, что это у него не вороны, а грачи.
А может, снегирь? Но тоже навряд ли. Снегиря я видел только на витрине. Да еще вдобавок в клетке. И потом ведь не станут же его ловить так далеко от Арбата. Ну, тогда, значит, ласточка. Хотя тоже нет. Ласточки летают между домами. А здесь между кустами – кочки.
Когда заходит разговор о ласточке, то мне сразу же представляется Покровский бульвар, и я, еще школьник, ближе к вечеру возвращаюсь с портфелем домой (что-нибудь середина мая, и я учусь во вторую смену), и сейчас вот-вот и закрапает; в какой-то тревожной истоме где-то, уже совсем рядом, погромыхивает, а ласточки, как оголтелые, все носятся и пикируют на протянутые вдоль домов провода.
А может, и не ласточки. Но какая разница? Ну, пускай стрижи… И вот уже капнула первая капля, и сразу же запахло пылью, и как-то все зловеще притихло… и вдруг, как будто проснувшись, зашелестела, забормотала листва… И тут ведь совсем неважно, осина это или тополь.
Я спустился к воде, и теперь уже облака оказались внизу; запутавшись в водорослях, они медленно наплывали на покрытые мхом островки, из-за которых, завихряясь, все выскакивали и выскакивали струи; обгоняя облака, струи соединялись в рукава и, словно продолжая спокойную беседу, свободно бежали дальше; встречаясь с камнями, они как бы вскрикивали и, переходя на более высокую ноту, белея и искрясь, дробились между валунами.
Раньше я никогда не подозревал, что если слушать ручей совсем близко, то можно услышать столько разных звуков. Все зависит от глубины. Но теперь я уже знаю, что ручей, если в него как следует вслушаться, это все равно что оркестр, а каждый в нем камушек – все равно что струна или клавиша. И совсем напрасно когда-то меня заставляли играть через силу гаммы. Я пришел сюда сам, и сейчас до моей музыкальной школы подать рукой. А то, что я здесь услышал и открываю, – моя родная речь. Теперь это мой ключ.
Присев на корточки, я опускаю в воду ладони и, зачерпнув пригоршню, обжигаюсь. Ключ мне пока еще не по зубам. Слишком холодный.
Лениво шевелясь в облаках, водоросли на мгновение затуманиваются. Я смотрю на свое отражение. Среди облаков и водорослей я колеблюсь, подернутый рябью.
13
Через приоткрытый полог угадываются плывущие клочья. В городе, когда туман, то его все равно что нет. Просто серое окно. А здесь – как будто заглядывает.
Я сворачиваю спальный мешок и стягиваю его в дорогу. Рассыпавшись по брезенту, мне вдогонку скатываются капли.
…Туман уже отодвинулся в глубину распадка и теперь несколькими ярусами, обнажая породы и вгоняя в краску утро, клубится все выше и выше.
Еще немного – и вспыхнут белесые вершины, пока еще чуть фиолетовые.
14
Подступая к самой трассе, как-то неумолимо надвинулся склон; напротив в голубых заплатах неба желтеет тайга; сквозь ветви – краснеющей паутиной, подрагивая, проглядывает солнце; еще не успевший замерзнуть ручей задумчивой скороговоркой, точно подбирая в распадке музыку, настаивает внизу на своем, а вдалеке, чередуясь с облаками, громоздятся похожие на спины животных уходящими хребтами сопки, такие же, если подойти вплотную, угрюмые, как и та, что притаилась рядом.
И ручей все твердит себе как ни в чем не бывало среди камней; скоро, правда, уже перемерзнет, но потом ведь все равно оттает и снова примется за свое; и так будет всегда.
15
Раньше все мечтал: вот открою когда-нибудь глаза – и вместо комода – листва, а вместо паркета – трава. А теперь я хочу услышать, как жужжит и бьется о стекло муха.
Но здесь только одни комары. А если и ополчаются мухи, то белые.
Когда я вышел на трассу, то все вокруг было совсем не таким: на почти обнаженных кустах одиноко ржавели скрюченные листья, редкие пучки травы все еще желтели среди полиняло-коричневых коряг.
Но вот, покамест шел, – задумался, – и, оказывается, снег; потом вдруг опять очнулся – и уже сугробы.
И так бы вот всегда идти и слушать и, подбирая молчание, слышать, как падает снег.
16
Квартира спит, и только одна ты на кухне скрипишь по бумаге пером. Ты выводишь мне письмо – редкий сорт растения – свои мягкие округлые буквы. А если приглядеться, – то холмы и овраги.
Когда тащишься к себе на поезде, томишься в самолете, дрожишь в вертолете и, наконец, трясешься по льду залива на вездеходе, они просвечивают сквозь метельное марево через морозные узоры на стекле.
И уходящим в туман распадком – твой тающий лепет « До свидания, струнка моя. Ветер …» – ты старательно заклеиваешь конверт и со слипающимися глазами погружаешься в пустоту постели.
Все струны давно уже приструнены и молчат. А ветер, мало того что совсем не тот, все гуляет, все безобразничает на пустыре.
Пустырь до горизонта зарос бурьяном… И за горизонтом – тоже бурьян.
17
Тебе кажется, что ветер несет добро. Сам такой порывистый, мужественный. Но главное – сильный и добрый. Больше всего ты ценишь в мужчине доброту. И силу.
Когда-то я читал твои дневники. Я бы их назвал ночниками. Дневник женщины – это дневник ночной бабочки.
18
Ветер действительно несет добро: дырявый котелок, который, сколько ни кипятись, все равно не варит, унылый рваный ботинок, правда, его еще можно починить, но, если даже и починишь, то где же найти ему пару; пластмассовую куклу с перекрученной задом наперед головой, которую можно развернуть в любую сторону и ничего не изменится.
Тебе страшно, что кукла очень одинока и у нее совсем нет друзей, за исключением точно таких же, как и она сама, с разворачивающейся в любую сторону головой; ну разве это друзья!
А мне страшно, что она всего-навсего кукла. Но если об этом не думать, то даже совсем не страшно: какая разница – подбит ли у куклы глаз или покорябано плечо? А если все-таки думать, то страшно вдвойне.
19
На Чукотке не бывает мусорных ящиков, и зимой очень удобно: куда ни плюнь – обязательно попадешь в помойку.
Осторожно, чтобы не сорвало дверь, из барака приоткрывается щель, и протянутая с отбросом рука, воровато дрогнув, поспешно разжимает пальцы.
Отирающийся возле крыльца ветер нетерпеливо подхватывает добычу и, укрыв, словно драгоценность, пологом ночи, торопливо разносит по окрестности. Как будто семена. И на эти семена черноземом забвения ложится белый снег.
Зимой поселок сверкает белизной, а весной, которая в этих краях иногда совпадает и с летом, и с осенью, талый снег, обозначившись свежими всходами, набухшими после зимней спячки, обнажается огромной сточной канавой, и местные жители, передвигаясь на самодельных плотах и лодках, называют свой поселок заполярной Венецией.
20
Я видел эту картину своими глазами – панораму неизвестного художника, выполненную не на полотне, а на центральной улице поселка в оправе из деревянной трухи с редкими вкраплинами самого дешевого камня; чаще всего эти предметы покачиваются на одном месте, но иногда, в зависимости от направления ветра, все-таки перемещаются, правда, как-то урывками: свободное течение в этом водоеме отсутствует.
В центральную улицу со всех сторон впадают петляющие вдоль покосившихся заборов и монотонных с подтеками сараев кривые закоулки, и внешне это напоминает полноводную реку с разветвленной системой таких же полноводных притоков, но если смотреть из глубины, то большая часть предметов лишь только чуть колышется под водой среди кусков льда и пустых консервных банок с острыми ядовито отогнутыми краями, и, если нечаянно наступить, начнется заражение крови.
21
Я подтягиваю за отвороты резиновый сапог и, вытерев со лба капли пота, врезаюсь совковой лопатой в сцементированное переплетение нечистой силы и льда. Это моя работа.
Сам по себе лед не такой уж прочный. Но с примесью галоши он приобретает свойства стали.
Я отбрасываю лопату и беру в руки лом. От непривычного напряжения у меня вздуваются на ладонях мозоли. Потому что я белоручка. Среди чернорабочих.
22
Вечная мерзлота с каждым годом все увеличивается в размере. Я могу это доказать.
Короткое лето и нехватка рабочих рук способствуют тому, что накопление льда опережает его ликвидацию.
В результате, все больше остывая, земля обрастает оболочкой, напоминающей пухнущую ледяную покрышку со все хуже отапливаемой одиночной камерой внутри.
23
Но ветер это ведь не только пыль в глаза или пыльный мешок, это еще и пыльца. Вот он налетает на одуванчик и, как будто срывая зло, разносит в пух и прах трепещущий воздушный десант. И вечные парашютисты-зерна, отлетев в совсем иной мир, безропотно опускаются в землю, все в ту же самую землю, но по сути совсем в другую: в землю, где нет ни заполярной Венеции, ни пухнущей из года в год леденящей покрышки с одиночной камерой внутри (все это у старших сестер и братьев, у которых не рыльца, а рыла в пушку), а над головой растет подорожник, и если освободить от пыли, залечивает рану. Это и деревья, хвойные и лиственные, высокорослые и низкорослые, вечнозеленые и посиневшие от холода, всегда обнаженные; это и пчела, о которой тебе только и известно, что она дает мед и может воткнуть жало, а чем отличается от осы, не совсем понятно, но какая разница; это и стрекоза, что все лето поет, в то время как муравей, надрываясь от непомерной ноши, зарабатывает себе на пенсию, но пусть даже и муравей, пускай даже комар, пьющий твою кровь и кровь твоего товарища, лишь бы не малярийный, и даже болотная жаба, пусть даже и лягушка, пускай себе квакает, и, конечно, трава, но чтобы не ступала нога человека; а самое главное – цветы, которых я тебе никогда не дарил, но зато подарю сейчас, – все эти гладиолусы и гвоздики, тюльпаны и георгины, если даже и спутаешь, то сами слова, сочетания букв издают тонкий аромат; обыкновенная сирень, которая, сколько ни залапывай, все равно никогда не надоест, – втиснутая в пригородные вагоны и осыпающаяся на колени, только она пробует оживить одурманенную духотой сумеречную безысходность воскресного вечера с тяжелой головой и неотвратимо надвигающимся понедельником; неброские кусты жасмина по соседству с угрюмой очередью возле пивного ларька, единственного места в округе, где царит оживление, если не считать винно-водочный отдел полупустого универсама, – маскируясь под набивший оскомину каменный пейзаж, но излучая удивительный запах, они говорят совсем об иной жизни, немыслимой в этих краях, но где-то все-таки существующей, совсем рядом, стоит лишь закрыть глаза, – да вот же она, тут, у меня под рукой, – твоя нежная и прохладная кожа – как будто бы снег, голубоватый и в бликах, – снег, в который ты однажды упала, помнишь, мы катались на лыжах и ты наклонилась поправить ремешок, а по-твоему, – «ремушок», такой ласковый, и еще: «камушек», «баушка», а когда разогнулась, то, не выдержав ослепительного напора, рухнула, прямо в голубизну, но я, кажется, все перепутал – мы только-только сошли с электрички, я нес впереди лыжи, а ты – не успела оглянуться – и уже в сугробе; и твой задыхающийся шепот « Струнка моя, ветер… », а может быть, и строчка из письма, из целого вороха писем; а под снегом – все те же холмы и овраги – твои мягкие округлые буквы…
24
которые напоминают твои плечи, когда, возвращаясь из Серебряного Бора, мы стоим с тобой под навесом и смотрим на ливень. Ты протягиваешь из-под навеса ладонь и, не ведая, что творишь, уходишь в себя, а мне остается придумать название, конечно, условное, например: девочка, играющая на арфе; девочка похожа на нашу дочь. Но лучше просто девочка, вернее женщина, женщина, играющая на арфе, а может, на виолончели, – все равно что цветы в мороз, морозные узоры, только вместо запаха – звуки, почему-то всегда неслышные, а вместо холодных струн инструмента – теплые струи дождика, еще совсем не приструненные, да и ветер в трепетном порыве все перебирает и перебирает вьющуюся прядь, и покамест закуролесит, утечет немало воды; а стоит тебе сделать шаг, – и ты уже вся в ливне, и теперь похоже на море, когда только входишь в воду и сейчас поплывешь, или когда тебя поливаешь из душа, а ты понарошку фыркаешь и как будто захлебываешься…
А если закрыть глаза и прислушаться к шуму дождя, то его можно сравнить с затихающим шелестом листвы; а ведь только что все крепчал и густел и с каждой новой нотой лез из кожи все выше и выше, вбирая и заглушая окрестные звуки – и оглушая, но не оглоушивая… и вдруг, на самом пределе, завис, как если бы вырвался, наконец, из пут и оторвался… но, оказывается, уже пошел на снижение, сперва неохотно, а потом все быстрее и быстрее, и, как-то все равно неожиданно, сошел на нет, но не совсем – словно еще кто-то рядом остался и ходит на цыпочках. А попробовать их открыть, то через поредевшую занавеску можно увидеть рождение радуги, главное, не прозевать: вот она, где-то еще сбоку, уже забрезжила; а поднять их минутой раньше, то, пожалуй, ничего и не обнаружишь, – и вдруг проступила, сначала издалека, неясным мерцанием, весточкой с горизонта, первой ласточкой, но с каждым мгновением все яснее и ближе, теперь уже радужной вестью, что все растет и разворачивается, пробивая сквозь нагромождение облаков солнечную борозду.
И вот уже ливня простыл и след, нет, еще не простыл: от разнеженной, еще теплой земли, перекрещиваясь уже чуть охладевшим ветром, поднимается пар; успокаивающиеся набрякшие влагой деревья, невнятно бормоча что-то несвязное, точно силясь спуститься на землю, но не спеша, а может наоборот, остаться еще там, под облаками, пытаются поправить разлохмаченные ливнем прически, отражаясь в зеркальной воде; притихшие кусты, как бы в слезах, множась и переливаясь, светятся радужной росой – той же самой, что и у тебя на щеке: в прилипшем сарафане и со спутанными кольцами волос, ты, открыв рот, все смотришь и смотришь и как будто бы пьешь из проема между покачивающимися кронами сосен.
…А потом наступит зима. И хотя на небе будут совсем другие тучи, ты так и останешься с протянутой рукой под низко плывущей рванью, и на твои опущенные плечи будет медленно падать снег.
25
Тебе никогда не приходило в голову, отчего, когда дует ветер, у тебя начинает ломить в затылке?
Кажется, я догадался. Дело не только в ветре. Чтобы понять, что такое ветер, нужно разобраться в природе надувательства.
Ветер приволакивает попавшую под дурное влияние холода тучу. И вот уже тут как тут снег.
В этой теплой компании все связаны одной веревкой. Которой виться всегда.
Ветер и снег – вечные чернорабочие природы.
26
Снег засыпает крышу соседнего дома, окна которого каждую ночь гаснут перед твоими глазами, одно за другим, и никогда не угадаешь, в какой последовательности, как если бы смотреть на дерево и ждать, на какой из веток оторвется и спланирует именно вот этот лист, а потом, подхваченный ветром, непонятно куда унесется. Потому что, сколько бы на лист ни глядеть, он обязательно остается на месте, но стоит только отвернуться, хотя бы на миг, как листа уже нет и в помине, и очень трудно определить, где же он только что находился: перед глазами сиротливо подрагивает голая ветка.
Вот так же и окно: кто-то напротив двигается, накрывает на стол, достает из холодильника закуску, наливает стакан, спорит, ругается, стучит кулаком, скрипит зубами, но вот, кажется, успокаивается и, схватившись за сердце, валится на кушетку и засыпает, даже не раздеваясь, и ты вдруг обращаешь внимание, что человек был совсем один, и возникает вопрос – с кем же тогда этот человек спорил?
…Но свет все по-прежнему горит, пять минут, десять, полчаса… но стоит только опустить глаза и тут же их поднять, как вместо горящего окна неясным силуэтом проступит темный сплошной массив – оказывается, это окно было уже последнее, – и ты все сидишь и смотришь, как будто это не дом, а дерево.
27
А если повернуть голову, то переливающиеся огни Парка культуры с неподвижным чертовым колесом вперемешку с темнотой все вбирают и вбирают в себя хлопья – на мерцающей поверхности воды как бы идет поединок между рекой и снегом, и если внимательно смотреть на снежинки, то, кажется, чем дольше на них глядишь, тем их становится все больше и больше, и чем белее снежинки, тем чернее поверхность реки.
И вот когда глаз привыкает к черному, и ты уже свыкся с мыслью, что это и есть твой цвет, вдруг происходит необъяснимое: черная река, словно по таинственному знаку, превращается в белую дорогу.
И сколько бы в воду ни смотреть, уловить этот переход от черного к белому никогда не удается.
28
Вот уже которую ночь я никак не могу найти сравнение твоей улыбке. Но кажется, забрезжил рассвет: твоя улыбка – это отчаянный сигнал бедствия без всякой надежды на спасение. Как если бы этот сигнал подавал совсем слепой, а те, кому этот сигнал предназначен, – глухонемые.
29
Перед щелью почтового ящика письмо застывает и мелькнувшей снежинкой проскакивает на темное дно, за ним второе, третье – как будто зимняя река; коснувшись поверхности, снежинки тут же тают, и вода морщится под порывами налетевшего ветра, подобно брезентовому покрывалу (если снять с реки слепок), а под покрывалом – мешки с комбикормом на палубе лениво раскачивающейся баржи с вечно перекуривающей бригадой чернорабочих, среди которых почему-то и ты, ждешь у моря погоды, а море где-то там, за горами, куда тебе уже пора поторапливаться, холодное Охотское море и твой город на берегу этого холодного моря, город, который тебя всегда нагревает, город низкого неба и плотного тумана, город на вечной мерзлоте, но это еще все впереди; а сейчас почему-то никто не двигается с места, что-то случилось с крановщиком, кто-то его видел – не то вчера, не то позавчера, – но тот, кто его видел, сам со вчерашнего вечера никак не может прийти в себя и не появляется, и с утра кто-то уже побежал за сменщиком, но так до сих пор и не возвратился, и скоро идти на обед, а работа все так и не начиналась, и ты, притулившийся среди этих жестких мешков, все глядишь на берег, где кто-то развел костер, и вот уже к костру стекаются люди, которых ты видишь первый и последний раз в жизни, потому что завтра тебе ехать дальше; обступив костер полукругом и сгорбившись, люди протягивают к нему скрюченные ладони; зябко поеживаясь и втянувшись поглубже в телогрейку, ты закрываешь глаза, и люди на берегу медленно плывут мимо тебя в обратную сторону; кто-то вполголоса разговаривает, кашляет, откуда-то издалека, но все равно как-то в самое ухо стучат, лязгают, громыхают, что-то, заскрежетав, отваливается и падает, шипит электросварка, такое впечатление, что в целом все чем-то заняты, хотя по отдельности никто ничего не делает; не прерывая надсадного гула, где-то в глубине гудит мотор, но все слабее и слабее… и вдруг, подступая к самым твоим ногам, к тебе приближается тряпка, намотанная на щетку уборщицы, все ближе и ближе, а в другом конце зала из вывернутых на полную катушку кранов с яростным шумом наливается вода и слышен стук передвигаемых ведер, и вот уже голос из громкоговорителя что-то объявляет, должно быть, посадку на поезд, и все, кто тебя окружают, подхватив мешки и корзины, вдруг бросаются к выходу и вместе со всеми и ты, но поезд оказывается совсем не твой, и когда ты хочешь вернуться на место к уже нагревшемуся от твоего плеча косяку, то вдруг замечаешь, что твой косяк уже занят, кто-то, видно, за тобой следил, и, потеряв теплое место, еле протискиваясь, ты болтаешься по битком набитому вокзалу, где прямо на полу, на подоконниках, под колыбельную сквозняка, на подстеленных газетах и без газет, в несуразных позах, откинувшись навзничь и распластавшись на животах, храпят пассажиры; еле держась на ногах от усталости и духоты, ты так и не решаешься выйти на привокзальную площадь, где, хотя и просторно, но темно и холодно, потому что хозяйничают ветер со снегом, и, сколько ни поднимай воротник, все равно будет колотить дрожь; и, наконец, найдя возле перил на ступеньке свободное пространство, куда можно вклиниться, ты опускаешься на корточки и, вытянув одну ногу, словно покачиваясь на волне, проваливаешься, приткнувшись к шершавой дерюге брезента.
30
И мимо тебя все в ту же обратную сторону мелькают уже не люди, а предметы, которые ты едва успеваешь различать сквозь замызганное стекло вагона, – все эти бревна, панели, доски, наваленные груды угля и торфа, мела и цемента, кирпича и щебенки, беспорядочно раскиданные и уже порядком растасканные, – весь этот заготовленный впрок строительный материал, валяющийся без дела, но обязательно огороженный забором или хотя бы изгородью, уже наполовину выломанной; пронумерованные и кем-то учтенные, но так до сих пор и не разгруженные товарные платформы, единичные и сцепленные, но и те и другие одинаково одинокие, а иногда даже и целые составы; заросшие бурьяном котлованы с застывшими шагающими экскаваторами, выброшенные на свалку заржавевшие детали машин и механизмов со всеми своими допусками и посадками, теперь уже никого не трогающими; торчащие в небо трубы, день и ночь стоящие на вахте и заволакивающие дымовой завесой звезды и синеву; но больше всего озадачивают просто пустые рельсы, всегда как-то неожиданно обрывающиеся, но обязательно упирающиеся почему-то в насыпь, похожую на могильный холм; а когда с грохотом влетаешь на металлический мост, то как будто пересчитываешь ребра этому нескончаемому железобетонному телу. Подгоняемый стуком колес, бесчисленным множеством хлопьев он поглощается черной речкой твоей памяти и, в свою очередь, сам засыпается снегом, приобретающим от соприкосновения с копотью пепельный оттенок, словно разбросанные ветром семена, рассеянные на всем пути твоего следования все теми же высунутыми из барака воровато дрогнувшими и разжавшимися пальцами; а когда снег растает, привычно заколышутся зыбким и вечно колеблющимся негативом на мутном да еще и размытом фоне, не оставив в твоей душе никакого отпечатка.
31
Зато его оставишь ты – на вдетом в пишущую машинку чистом листе бумаги: ты дотрагиваешься до клавиши, и из-под оттиска на конце рычага вылетает буква, за ней другая, третья… но это пока еще не почерк, это просто шрифт, где буквы могут располагаться в любом порядке, наподобие застывших под снегом предметов, что всплывают весной на поверхность, как если бы твою пишущую машинку размолотить, а клавиши с рычагами пустить бумажными корабликами по талой воде; твой почерк проявится в тот момент, когда, повинуясь твоей душе, буквы сложатся в Слово.
Потому что твой почерк есть отпечаток твоей души, а всем этим предметам оставлять после себя не почерк, а отпечатки пальцев, и даже не своих, а все тех же самых, высунутых из барака и, прежде чем разжаться, воровато дрогнувших.
32
А если приглядеться к холмам и оврагам, то, в отличие от всех этих предметов, они совсем не бегут в обратную сторону: как будто бы медленно, а на самом деле совсем в другом измерении, они шагают от тебя на расстоянии и, приковывая к себе твой взгляд, расширяют его до горизонта.
Рельеф – это почерк земли, отпечаток ее души. Земле не нужно ни пишущей машинки, ни холста. Ни даже гитары. Она сама себя печатает. И рисует. И поет. А тут приходится разрываться на части. С одной стороны, надо всегда помнить о себе, но, с другой, не нужно забывать и о предмете. Ты берешь предмет и, вложив в него душу, создаешь свой рельеф.
Земле хорошо: она может себя подарить кому угодно, хотя бы тебе. А ты не можешь себя подарить ни земле, ни предмету. Земле тебя могут предать.
Но ты не робей: холмы и овраги всегда придут тебе на помощь. Ты только почаще и повнимательнее в них всматривайся.
И тогда ты поймешь, что если в них оставаться не только тебе, то в тебе оставаться только им, словно твоим буквам, только из них тебе складывать свои слова, слова, которые без них никогда бы тебе раньше не сложить.
33
Зато их сложить сейчас, шестнадцать лет спустя, но все в том же шатающемся вагоне, а на холмах и в оврагах все тот же самый снег, совсем не тот, что засыпает крышу соседнего дома, – снег, который не заметает, а светится, нашей с тобой встречей, той, самой еще первой, нашей первой встречей после первой разлуки, первой и, по сути, последней; но это еще будет завтра, ранним январским утром, на перроне Ярославского вокзала, где мы будем стоять и молчать, так и не понимая, что же с нами происходит; прижимаясь влажной щекой, ты поведешь меня на эскалатор, и мы будем смотреть друг на друга, все еще не веря, что это не сон.
…И когда свет продвинется по комнате, ты откроешь глаза и почувствуешь на своем плече неправдоподобное дыхание, и в нескольких шагах будет стоять детская кровать дочери, которой еще два с половиной года, и можно подойти и осторожно поправить одеяло; но ты этого не делаешь, потому что, если ты встанешь, то дыхание на твоем плече прекратится; боясь пошевельнуться, ты лежишь и, улавливая каждый шорох, напряженно ждешь, когда же дочь проснется, – чтобы, наконец, услышать, как застучат по паркету ее босые ножки…
34
А где-то в стороне, поближе к лесам, десятки раз увиденное и десятки раз стершееся из памяти, словно с лица земли, вдруг промелькнет кладбище, уже за избами и чуть на отшибе, с сиротливой церквушкой и крестами; и что-то вдруг защемит, забередит, – такая заброшенность, – но не от любви, скорее от жалости, и непонятно к кому – кладбище, на котором уже некуда хоронить, да и церковь уже давно заколочена, но неба, слава Богу, все равно не закрыть, и земли хватит каждому.
А если бы разрешили, то пускай меня похоронят где-нибудь на поляне, я давно уже собираюсь облюбовать себе место, лучше под сосной, но можно и под березой, и чтобы вдали, проносясь, гудела электричка, и лаяли вразнобой собаки, и время от времени слышался резкий удар кнутовищем пастуха и вслед за ним – обиженное мычание; чтобы прозрачный осенний воздух чуть подрагивал в совсем еще робких лучах и на ветке, чуть покачиваясь, щебетала птица, но небольшая, всего лишь с ладонь, даже еще меньше, теплый пестрый комочек, и неизвестно, как называется, птица, которую ты никогда не замечал, а если и видел, то лишь вскользь, даже не останавливаясь, вернее, не видел, а слышал, а если бы даже и попытался увидеть, то все равно бы никого не нашел, потому что всегда жил в огромном городе, где метро и давка за апельсинами или бананами, импортным мылом или туалетной бумагой, где в Парке культуры и отдыха вместо птицы – передает последние известия репродуктор; или в бараке, где уже совсем другая музыка, и поют под гармошку или под баян, и услышать птичье пение мешает звон стеклотары, которую нужно как можно скорее сдать, иначе закроется отдел и придется нести посуду обратно и платить вышибале из «Астры» по двойному тарифу и, пока он бегает за бутылкой, слушать, подпирая колонну, развинченную воркотню напомаженного певуна; а если и жил там, где поют птицы, то почему-то никогда не удавалось остаться одному – всегда тебе кто-нибудь мешал – рабочий или гидролог, а когда все-таки вырывался на ручей, чтобы замерить расход и сделать засечку на самописце, то приходилось привязывать консервную банку и тарахтеть по камням – отвлекать внимание медведя, и уж тут не до пения; иной раз, правда, нет-нет да и услышишь – кукушку, но это не в счет, разве кукушка поет, и потом, хоть и услышишь, все равно опять не увидишь, мне даже кажется, что кукушка совсем не птица, а такая, как в тире, просто деревяшка, вертит туда-сюда головой, или как в часах, – выскакивает и бьет поклоны; а когда вдруг представится случай и остаешься один, то обычно бывает поздно: оказывается, уже наступила зима, и все птицы давно улетели.
35
Сначала исчезло твое лицо, но иногда мы с тобой разговаривали по телефону. Потом пропал и голос. Но еще остались письма, последний шаткий мостик, чуть заденешь – и рассыпался. А потом опять пошел снег, тот, что ложится на крышу соседнего дома, все того же соседнего дома, чьи окна каждую ночь гаснут перед твоими глазами; а тому, совсем другому (стоит лишь опустить веки, и вот она – под рукой – твоя нежная прохладная кожа) – уже никогда не бывать; и еще фотокарточка, у меня над столом, с твоим криком о помощи, молчаливым и укоризненным.
36