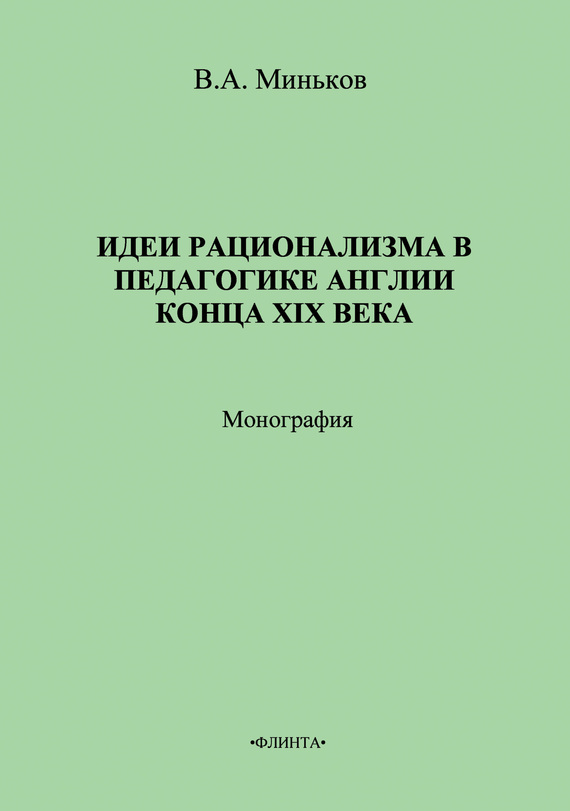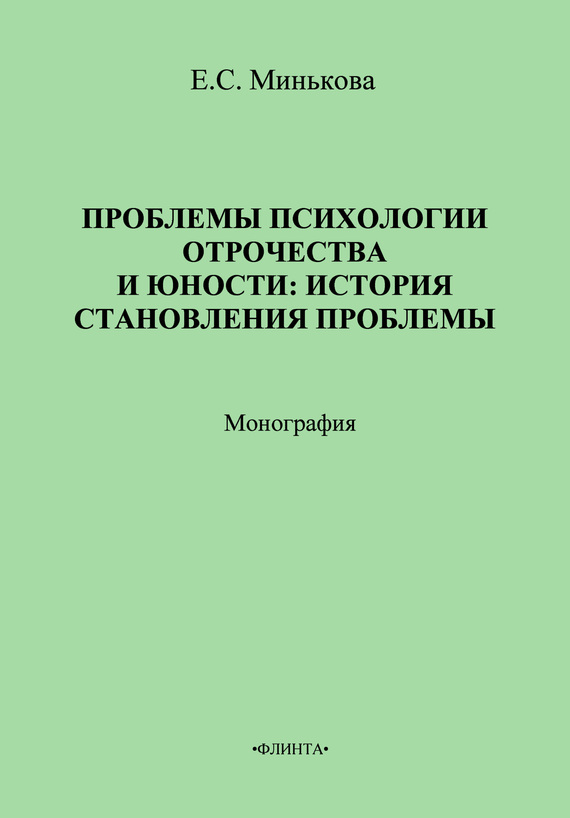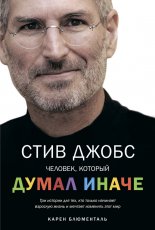У нас в саду жулики (сборник) Михайлов Анатолий

Грустный вальс
Гнилая вода
Я придвинул бланк и, поклевав чернильницу, нацарапал: «МОСКВА САВВИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 5 КВАРТИРА 14 КОЗАРОВЕЦКОМУ МЕНЯ ВЫЗЫВАЛИ ГАЛИНЕ БОРИСОВНЕ» .
Телеграфистка пробежалась по количеству слов и протянула мне бланк обратно: оказывается, надо еще дописать свою фамилию.
Я почесал затылок и, заменив правую руку на левую, накорябал: МИХАЙЛОВ .
Уже полез в карман за деньгами, но в последний момент вдруг вспомнил, что передо мной не конверт, а в телеграмме почерк у всех одинаковый, и, заметая следы, решил свою фамилию зашифровать.
Буду теперь Ковалев – и, зачеркнув засекреченного МИХАЙЛОВА , засветил свою подпольную кликуху.
Телеграфистка опять поводила пальцем и вернула мне бланк обратно: оказывается, зачеркивать не положено, и пришлось переписывать еще раз.
Добравшись до КОВАЛЕВА , я задумался: а как же ты теперь поймешь, что это я, и неожиданно сообразил, что и тебя тоже не помешает засекретить.
Я схватил еще один бланк и написал: «МОСКВА УЛИЦА ГЕОРГИУ-ДЕЖА 12 КВАРТИРА 84 СЕРЕГИНУ ПОЗВОНИ КИСЕЛЕВУ ПЕРЕДАЙ МЕНЯ ВЫЗЫВАЛИ ГАЛИНЕ БОРИСОВНЕ КОВАЛЕВ».
Но в результате снова засомневался: ведь Стасик тоже не поймет, что я – это КОВАЛЕВ , а ты – КИСЕЛЕВ , и, продублировав твой адрес, уточнил: «ВОЛОДЯ СРОЧНО ПОЗВОНИ СЕРЕГИНУ ОБЪЯСНИ ЧТО КОВАЛЕВ ЭТО Я КИСЕЛЕВ ЭТО ТЫ КОВАЛЕВ».
Но и на этот раз сомнение меня не покинуло: хоть и прибавилось двадцать восемь копеек, ты все равно ничего не поймешь.
Я вытер капли пота и, скомкав каждый бланк, выбросил их в урну.
Уже было вышел на улицу, но в последний момент все-таки возвратился и, не оставляя улик, выудил весь свой улов обратно.
А уже на мосту все четыре бланка разгладил и, разорвав на мелкие кусочки, пустил бумажными корабликами в Магаданку.
Теперь-то уж доплывут.
Магаданка – это название нашей речки, что в обратном переводе с чукотского значит ГНИЛАЯ ВОДА .
Как видишь, наши прогнозы оправдываются, и тетя Галя (тебе от нее персональный привет) не дремлет.
Пишу на буфетном столике напротив багажной стойки, и через пятнадцать минут начало регистрации рейса на Москву. Осталось заклеить конверт и попросить кого-нибудь из вылетающих опустить его в Домодедове.
Подробную информацию (с момента моего последнего возвращения в Магадан) вперемежку с уже заправленными главками перешлю при первой оказии.Все, закругляюсь. Вчерашние штаны хотя и сушатся в бараке на веревке, рука, перестав дрожать, уже привычно тянется к перу.
Аэропорт, 56-й километр Колымской трассы
Тося.
09.06.73.P.S. Послезавтра выезжаю на гидрологический пост в Омсукчан и на своем посту открою по врагам народа прицельный огонь…
И все-таки обидно
… И все-таки обидно: в моем возрасте Франсуа Вийона уже давным-давно повесили, а меня еще только хотят поставить на ноги. Но недаром же говорят в народе, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Я даже придумал такую шутку: если тебя хотят поставить на ноги – не опускай рук, а если тебя хотят повесить – не вешай носа.
Ну, а теперь шутки в сторону, и все по порядку.
Объяснительная записка
1
Бригадиру пилорамного участка
Магаданского леспромхоза
Сегодня, 21 декабря 1970 года, в 3 часа 48 минут, во время очередного обхода я обнаружил валяющуюся на снегу накладку. Когда я растапливал бак со льдом, накладка ударом тяжелого предмета была выбита, и вместе с сорванным замком с территории производственного цеха было похищено 14 (четырнадцать) новогодних елок.
Предлагаю в оставшиеся до Нового года ночи всем сторожам дежурить в цеху, а бак с питьевой водой из подсобного помещения перенести на котел в кочегарку.
Сторож Михайлов
2Сторож Михайлов – это я. Пять месяцев тому назад мне стукнуло ровно тридцать.
Уже три года, как убили Лермонтова. А Александру Сергеевичу осталось жить всего семь лет.
3Зато я уже два раза женился. Официально. А неофициально – даже страшно подумать.
Сейчас я живу с Зоей, и соседи по нашему бараку называют меня Зоиным сожителем. Зое недавно исполнилось тридцать пять, и она меня считает малолеткой.
У нее удивительная грудь и развратные с поволокой глаза. А на точеной шее – кирпичного цвета следы. Ожоги от стружек.
4У Зои растут два сына: Сережа и Саша, и я их теперь воспитываю. Саша учится в десятом классе и называет меня на «вы». Я привез ему из Москвы клюшку. А Сереже всего только девять, и мы с ним на «ты».
Когда Зое исполнилось семнадцать лет, ее изнасиловал выпускник ремесленного училища (это же училище после детского дома окончила и Зоя и занимала при заводе в общежитии койку). Разорвал ей сверху донизу сарафан и на весь завод осрамил. И тогда ее подобрал будущий отец Саши и научил по вечерам закручивать банки с вареньем и по воскресеньям продавать на базаре, но через несколько месяцев на несколько лет сел, Зоя точно уже не помнит за что, и она осталась одна с ребенком на руках, а потом из Ейска приехали вербовать на Крайний Север, и Зоя на эту агитацию клюнула, и когда через три года прилетела на материк, то в парке культуры и отдыха встретила товарища своего ухажера-ремесленника (сам ухажер в это время уже отбывал срок), и между товарищем ухажера и Зоей завязался роман: будущий Сережин папа катал ее по озеру на лодке и увез на остров и там ей тоже разорвал сарафан, но Зоя ему все простила и привезла вместе с собой в Магадан, и после рождения наследника он сразу же по-черному запил и стал ее ревновать чуть ли не к каждому столбу, а бил как-то неожиданно и молчаливо; сначала Зоя терпела, но однажды не выдержала и проломила ему настольной лампой голову; ну а Саша своего папу так ни разу и не видел.
5Когда я смотрю на Сережу, то вижу себя примерно лет на двадцать помолодевшим. И мне вспоминается мой папа. Как мы сидим с ним на кухне и я высовываю на языке разжеванную котлету. И потом папа меня порол.
Правда, вместо котлеты Сережа показывает своей маме фигу. Смотрит ей прямо в глаза. А пальцы так сами и складываются. И Зоя хватает Сережу за ухо и залепливает ему затрещину.
Когда Зоя была в Сережином возрасте, то в детском доме, если тебе показали дулю – все равно что расстегнули штаны. И за это могли просто убить.
А недавно попало и мне. Чтобы я не смеялся. По русскому устроили изложение, и Сережа написал «Карло Маркс».
6Утром Зоя бежит на завод и точит на станке плунжера. После завода Зоя бежит в магазин и стоит в очереди. После магазина Зоя бежит домой. По-быстрому снимает платок и, сбросив пальто, загружает стиральную машину.
Часа через два стирка заканчивается, и Зоя начинает крахмалить. Потом еще надо выжать, а после развесить сушиться. И чтобы не моталось по земле, подставить с табуретки шест.
Схваченное морозом белье скрипит на веревке, и Зоя варит борщ: покамест не закипит бульон, она чистит картошку. Впереди еще уборка, и картофельная шелуха грязным серпантином ложится в помойное ведро.
7Я откинулся на валик дивана и смотрю, как Зоя гладит. Утюг в Зоиных руках точно выписывает вензеля.
Когда Зоя закончит техникум, она станет мастером. Будет закрывать наряды и заведет себе маникюр. А сейчас у нее руки грубые и заскорузлые – руки рабочего человека. И покамест Зоя их стесняется и при незнакомых старается спрятать свои руки под стол.
Я лежу на диване и любуюсь Зоиными руками.
8Я поставил подпись и придвинул объяснительную записку начальнику.
Пригорюнившись на скамейке, понуро мнет ушанку задумчивый Иван. Притулившись к подоконнику, испуганно уставился в стенку притихший дядя Петя.
Иван – кочегар. Он пришел сливать воду – и вдруг нету замка. А выбитая из-под замка накладка валяется на снегу. Когда он сливал воду до этого, то елки, как он помнит, загораживали подход к трубе. Иван прибежал ко мне в сторожку, а я в это время уже давно в бараке и, соскучившись по любимой, дышу ей в крутое плечо. Но на первом автобусе приехал обратно и к приходу начальника успел растопить печь.
Иван волнуется: у него от цеха ключ, и когда на манометре прыгает стрелка, то нужно отвинчивать кран. А Иван пустил в цех дядю Петю.
Дядя Петя тоже кочегар. Он мне должен рубль. Дядя Петя – сменщик Ивана. Но во время дежурства Ивана дядя Петя посторонний.
В цеху тепло, а дяде Пете негде ночевать. И вот украли елки. И теперь дядя Петя боится, что мы его с Иваном заложим.
Иван тоже боится, что я его заложу и начальник узнает, что он пустил в цех постороннего.
А я боюсь, что Иван с дядей Петей тоже меня заложат. Что я отсутствовал на своем рабочем месте. И тогда с меня могут высчитать стоимость похищенных елок.За водкой велели не занимать, и по очереди прокатилось беспокойство. Счет пошел на секунды, и через несколько минут все набросятся на плодово-ягодное. Или на розовый вермут.
Стоишь и ломаешь голову: розовый вермут на два градуса крепче, зато плодово-ягодное на двенадцать копеек дешевле. Но я успел проскочить и, не сойдя с дистанции, затарился без головоломки с вермутом. Я купил три бутылки «Столичной», бутылок восемь пива и пять бутылок апельсиновой воды для Сережи. А когда уже подходил к бараку, то чуть не столкнулся с бывшим Зоиным мужем и с его матерью или, как ее называет Зоя, свекрухой. Они живут по соседству (тот же самый барак, только вход с другой стороны), и Зоин муж (отец Сережи) все еще у Зои прописан. Вернее, прописан я, а он так и не выписался, не дает паспорт и все; а моя прописка, выходит, Зое нужна, мало ли, вдруг запретендует на комнату, получали-то вместе. И свекруха, покосившись на торчащие из моей сумки бутылки, как-то мстительно ухмыльнулись (Зоин муж – алкаш и уже два раза лечился от запоя).
Зафиксировав со стороны ступенек топот (я отбивал на крыльце налипшую вместе со снегом грязь), из кухни высунулась Лаврентьевна и, всплеснув руками, закричала в глубину коридора:
– Зо-о-я-я… иди встречай… – и, бормоча уже себе под нос «приехал… приехал наш путешественник…», склонилась над внушительной кастрюлей.
Хозяйничая на кухне, Лаврентьевна всегда сидит на стуле. Как на посту. Сидит и наблюдает за обстановкой. Закроет глаза и как будто дремлет. Но все равно все слышит. И если кто-нибудь чужой, пощады не жди. А сегодня Лаврентьевна не дремлет: сегодня в бараке гульба.
С перекинутым через плечо полотенцем Зоя вышла мне навстречу и, уперев руки в боки, снисходительно заулыбалась. Готовый в любую минуту раздвинуться, вырез ее халата держался на спусковом крючке.
Зоя мне говорит:
– Ну, что… студент прохладной жизни… изволили явиться…
А я стою, как дурак, и молчу, а сам все продолжаю смотреть на вырез; а стоит мне его только представить – и я начинаю терять чувство времени, а также ощущение пространства. (А когда еще летели над Омском, то, уткнувшись в иллюминатор, передвинул на восемь часов стрелки, как будто уже Магадан, все витал в облаках; и когда расстегнули ремни, надо уже выходить, а у меня впереди торчит, как-то все-таки неудобно, люди; и когда покупал в гастрономе водку, все тоже витал и даже когда шел по городу мимо памятника Владимиру Ильичу.)
– Явился… не запылился… – точно доставив сбежавшего из-под стражи преступника, Зоя меняет интонацию, и, опережая всех остальных, еще не успевших переварить эту новость, Нина Ивановна хлопает в ладоши.
– Толька… приехал… – в каком-то радостном изумлении чуть ли не с шепота Нина Ивановна уже не укладывается в октаву (наверно, все-таки не зря меня заставляли играть в музыкальной школе гаммы), и по градусу достигнутой ноты угадывается, что гуляют с одиннадцати утра.
(Та самая, помнишь, из Зоиной бригады. У них там на заводе сплошная родня, и все обо всех всё знают, у кого какой «болт». Например, короткий и толстый; или наоборот – тонкий и длинный.
Мне Зоя сама рассказывала – как у ихнего начальника цеха.
Я у Зои спросил:
– Ну, и как?
Зоя засмеялась:
– Все равно что гвоздем.
А еще бывает винтом. Это уже рассказывала Нина Ивановна. Как у ихнего фрезеровщика. И говорит, что ничего. Приятно. Только немного щекотно. Но больше всего Нина Ивановна любит «опыляться по утрянке».)
Если придерживаться паспортных данных, то Нина Ивановна должна отмечать день своего рождения раз в четыре года: она родилась 29 февраля. Но Нина Ивановна с этой ошибкой природы мириться не желает и, наперекор календарю, устраивает себе именины гораздо чаще: по субботам и по воскресеньям вместе со всей страной и по скользящему графику в будни. Но иногда все дни недели сливаются в один сплошной праздник, и после каждого такого заплыва у Нины Ивановны под глазом красуется фингал.
Нина Ивановна приехала в Магадан из Молдавии, и, будучи еще двенадцатилетней девчушкой, сумела склонить к сожительству сорокалетнего гуцула. Так что на фоне своей сентиментальной подруги Зоя напоминает еще не распустившийся бутон. (Когда я пишу о Бродском, то, сравнивая его с Высоцким, охватываю небом всю землю. А когда пишу о Зое, то, сравнивая ее с Ниной Ивановной, затягиваю небо в пруд. И в синеве отражения в самой глубине угадывается омут.)
Перегнувшись через весь стол, тянет мне руку сидящий рядом с Ниной Ивановной Витенька. Витенька – ее кавалер и уже отмантулил два срока – не то за хулиганство, не то за бандитизм, но читает «Диалоги» Платона и знает чуть ли не наизусть все сны Версилова из «Подростка». Он как-то Зое сказал, что я единственный человек в Магадане, с кем ему интересно поговорить. В лагере Витеньку за его начитанность прозвали Монахом. И его там уважали. Там ведь «кто сапожничает, а кто педрила». А вот Витенька читал книжки. И теперь на всей Колыме он, пожалуй, самый образованный человек.
Невзирая на щуплость, Витенька производит впечатление силача, и, если схватит за локоть, на коже остается синяк.
Досадуя на вынужденный простой, с гармошкой наизготове озабоченно осклабился Павлуша.
Павлуша – наш сосед по бараку и по совместительству мой «внештатный сотрудник». Но в такую минуту об этом как-то не хочется вспоминать.(Однажды я, правда, не выдержал и его прищучил. Уж больно, думаю, подозрительно: все угощает да угощает и все «агдам» да «агдам». Наверно, решил, не к добру. Ну, и прижал его после второй бутылки к стенке.
– Ну, признайся, – говорю, – Паш, а Паш… мы же свои, – улыбаюсь, – люди… Ну, признайся, – повторяю, – что стучишь… да я, – и хлопаю его по плечу, – да я и не обижусь…
Другой бы на его месте после таких слов сразу же отвернул мне тыкву – ведь шуточное ли дело – стукач! А он размазал сопли – и как с гуся вода.
– Да ты это, – говорит, – че… да ты это… – шмыгает носом, – брось…
А сам все продолжает моргать. И мне его даже как-то сделалось жалко.
– Ты, – говорю, – на меня, Паш, не обижайся… – я это, – улыбаюсь, – так. Пошутил.
И после этого случая мы с ним даже еще сильней задружились.)
…И вот я все стою и никак не могу сообразить, что лучше: выставить все сразу или растянуть на несколько приемов сюрприз. И покамест соображал, как-то и сам не заметил, что уже выставляю все сразу. Но на столе все сразу не поместилось, и часть бутылок (ломясь от продуктов питания, холодильник был уже и так перегружен) пришлось поставить на подоконник. Все одобрительно переглянулись, и Нина Ивановна засмеялась:
– Ну, Толька дает!
Павлуша закричал:
– Штрафную ему, штрафную! – и мне налили полный стакан; и все потянулись со мной чокаться. А потом Зоя пошла на кухню показывать мои подарки – нейлоновую кофточку и шелковую комбинацию. Поправив съехавший на локоть ремень, Павлуша уже перебирал на гармошке ряды, а Витенька все меня спрашивал:
– Ну, как там, в Москве, чего нового?.. – как будто это касается одних только нас, а все остальные – так, пузатая мелочь.
С кастрюлей в руках Зоя вместе с Лаврентьевной возвратились с кухни, и Лаврентьевна все меня хвалила, какой я молодец, и даже вытащила из целлофанового пакета всем пощупать; кофточка пошла по кругу, а по тарелкам, сползая с черпака, заскользили пельмени, Зоя их налепила, наверно, несколько сотен.
Наконец Павлуша настроился и запел, и все сначала притихли, но потом вдруг опомнились и как-то неожиданно подхватили, точно всем гуртом навалились на общего врага.
В комнату заглянул Сережа и, заметив меня, пискляво загримасничал:
– Ой, кто приехал…
После чего он обычно переходит на бас, но Зоя успела его опередить. Она на него накинулась:
– Посмотри, на кого ты похож!.. Ну-ка, снимай ботинки…
Но Сережа ее не дослушал и, поспешно захлопнув дверь, по-быстрому смотался. А Зоя, тут же о нем позабыв, приставила к подбородку ладонь и присоединилась к поющим.Ему ска-за-ла я всего ха-ро-шева,
а он пра-ще-ния не па-пра-сил…
Старательно наклонив голову, Павлуша порывисто разводил створки, и вместе с гармошкой ходила ходуном татуировка на его кулаке; в своем всегдашнем переднике Лаврентьевна как-то задумчиво пригорюнилась, но тоже старалась не отставать. (Помнишь, я рассказывал, обсуждали на кухне случай, как в соседнем бараке прямо во время свадьбы невеста пырнула жениха, вроде этот жених спутался с невестиной подружкой-свидетельницей; так вот, это и есть та самая милая старушка, она еще все приговаривала: зарезать его надо было, зарезать…) Мелодия, в особенности когда повторяли припев, раскачиваясь перекошенными ртами, лилась размашисто и как-то по-домашнему уютно, а когда переводили дыхание, во время паузы все друг на друга поглядывали и понимающе улыбались, и даже Витенька, нахохлившись особняком, – и тот не удержался и, угрюмо уставившись в салатницу, все-таки шевелил губами.
Серьезное предупреждение
Так вот всегда: сначала постучат, а потом как будто глухая стена. Но ведь я, кажется, крикнул: да-да! А там опять тишина. И теперь я уже заорал:
– Ну, входите!
Но вместо того чтобы войти, замолотили еще сильнее. И только когда я вскочил, дверь как-то несмело приоткрылась, и на пороге появилась незнакомая женщина.
Она у меня спросила:
– Это ваш мальчик гуляет у «Фестивального»?
Я раздраженно пробурчал:
– Наверно, наш. А что?
Женщина посмотрела на мою тельняшку и, скользнув по кружевам на взбитой подушке, бросила:
– Ну, тогда пойдемте.
Из-под пальто у нее высовывался край белого халата. Где-то я ее уже видел.
Я подошел к вешалке и, нацепив на тельняшку плащ, стал нахлобучивать ушанку. Плащ у меня осенний, а ушанка уже вся протерлась. Но если опустить уши, тогда еще ничего. Ну, а ботинки, похоже, что летние. Вельветовые. Правда, здесь что лето, что зима.
В коридоре на место ботинок я поставил тапочки. Иногда я про тапочки забываю и пачкаю ботинками дорожку. И Зоя потом вытирает и ругается.
Женщина шла впереди, а я, вслед за ней, крадучись, так, чтобы Зоя меня по шагам не узнала. Хорошо еще, Зоя была на кухне.
Я спросил:
– Ну, и что он там натворил?
Мы с ней уже спускались по ступенькам.
– Те-то двое убежали, – повернулись она ко мне, – а вашего поймали. Я за ними следила.
И я, наконец-то, ее узнал: из кондитерского отдела. Стоит на контроле.
Женщина привела меня прямо к заведующей. Заведующая сидела на стуле, и перед ней на столе лежал целлофановый кулек. И через него просвечивал «Золотой ключик». Граммов примерно четыреста. А рядом – чек. На восемьдесят четыре копейки. А возле стола с опущенной головой стоял Сережа. Сережа меня увидел и захныкал.
Заведующая оторвалась от Сережи и сверкнула на меня фиксами:
– Вы знаете, зачем мы вас сюда вызвали?
Я ответил:
– Да. Знаю. Мне уже сказали.
– Ну, хорошо, – как бы решившись на перемирие, сбавила обороты заведующая, – в детскую комнату мы пока сообщать не будем. Но вам, папаша, это будет серьезным предупреждением.
Потом она снова повернулась к Сереже, и голос ее снова окреп.
– А ты, Сережа, понял, как это некрасиво? Ты все понял?
Вместо ответа Сережа глубоко вздохнул и, зашмыгав носом, кивнул. Мы с ним вышли на улицу.
На улице он перестал хныкать и вытер рукавом щеки. Я велел ему высморкаться.
Сережа порылся в карманах, но платка нигде не было. И я тоже поискал у себя. Но и у меня тоже не оказалось. Сережа остановился и высморкался прямо на тротуар.
Я укоризненно покачал головой и нахмурился:
– Как тебе не стыдно? Ну-ка, подними!
Сережа меня сразу понял:
– Еще одно слово – и ты будешь горбатый!
Я завопил:
– Ой! – и весь перегнулся. – Уже не могу разогнуться!
Сережа покрутил возле виска указательным пальцем и засмеялся:
– Как в шляпе – так дурак! Как в очках – так жулик!
Я тоже засмеялся:
– Встать!!! Вы арестованы!
Сережа опять засмеялся, весь вытаращился, надулся и застыл.
– Отвечайте, – снова заорал я, – где вы были вчера в пять часов вечера? Только говорите всю правду! Нам все равно все известно!
Сережа вдруг замахал руками, загримасничал и замычал. Все ясно. Он глухонемой.
– Ну, ладно, – перестал я смеяться, – пошли. Ты уже все слышишь.
– А ты уже не горбатый. – Сережа тоже успокоился. – А ты не расскажешь маме?
– Маме?! Конечно, расскажу. А как же?.. (Сережа внимательно на меня посмотрел.) Что, перетрухал?.. Ну, че там у вас произошло?
– А это не я, – Сережа насупился, – это они. Они научили.
Я спросил:
– Ну, а ты?
Сережа поморщился:
– А они смеялись.
Я сказал:
– Ну, ладно. С ними я еще поговорю.
Сережа снова остановился и потянул меня за локоть:
– Да… за… в со… пя… Угадай, что я сказал?
Я засмеялся:
– Подумаешь! Удивил козла капустой… Давай зайдем в «сорок пятый».
Сережа тоже засмеялся:
– Правильно. А как ты узнал?
– А вот так.
И нас чуть не сшибли два грузчика. Они орали: «Па-берегись!..» – и тащили в открытую дверь ящики.
Ящики оказались с вином, и пришлось занять очередь. Продавщица пересчитала каждый ящик и стала отпускать.
Я засунул бутылку за пазуху, и Сережа опять потянул меня за рукав. Мы подошли к лотку.
Я купил Сереже мороженое, и мы с ним снова вышли на улицу. Нам навстречу, нагнув голову, бежала собака. Собака была так себе, черная и немного кудрявая. Она увернулась от машины и озабоченно побежала дальше.
– Фи-у-фи-у-фи-у… – посвистел Сережа, и собака оглянулась и завиляла на ходу хвостом.
– А я ее знаю, – сказал Сережа, – это Пират.…Запутавшись в крючках (по пьянке Зоя позабыла стащить с себя лифчик), я все-таки изловчился и, оторвав от лифчика лямку, зарылся в синеву…
Вдруг померещился скандал: сейчас рванет на кухню и, отодвинув бочку с капустой, выхватит из тамбура топор. Но вместо бочки с капустой Зоя откинулась на подушку и, обхватив меня ногами, опять потащила на дно…
А на рассвете, сделав потягушки, неожиданно призналась, что сохраняла мне верность только до 1 мая: все утро смотрела в окно, но после демонстрации (меня все нет и нет), не выдержав сердечных мук, вместе со всей колонной намылилась на салют, и где-то на Новой Веселой ей кинул перчатку один латыш, и даже называла его имя – если мне не изменяет память – Альгирдас (помнишь, еще в пятидесятых, в тяжелом весе был боксер Альгирдас Шоцикас). Но этот король ринга ей совсем не понравился: такой на вид орел, а попрыгунчик – как у воробья.
(Когда мы с Зоей женихались, она мне вытащила из колоды еще одного короля – джигита с Северного Кавказа по имени Зураб; пошли, рассказывает, как-то всей капеллой в «Астру»: Нина Ивановна, Зоя и еще две фрезеровщицы из цеха горячей штамповки. И после летки-енки, прихватив по бутылке «Арарата», к ним подваливают четыре Тарзана, а после персонального приглашения каждой из дам на «танец с саблями» напудрились на хату. И этот самый Зураб чуть потом Зою не зарезал. Узнал, где она живет, и на следующий день приперся к ней прямо в барак. А Зоя в это время на кухне раскатывает тесто.
Она ему говорит:
– Уходи. Ты, – улыбается, – меня не устраиваешь…
И спустившийся с гор наездник чуть не сошел с ума. Все кричал:
– Твоя подруга (это значит Нина Ивановна) устраиваешь, а тебя нет!!!
И уже лезет в ножны за кинжалом. Еще хорошо, у Зои в руках скалка. Еле-еле, смеется, отвязалась.)
– А у меня, – и тоже смеюсь, – была девушка из Литвы… – и, обезоруженный Зоиной чистосердечностью, в знак солидарности рассказал ей про вахтершу с мясокомбината. – Пришел к ней как-то в общежитие на елку, а у нее на кровати солдат. Ну, думаю, все: сейчас достанет из-за голенища тесак. Но вместо тесака вытаскивает из валенка поллитру.
И уточнил, что было это еще в 66-м году, но Зоя сделала вид, что пропустила эту информацию мимо ушей.
И все у меня потом шутливо допытывалась:
– Ну, как, еще не закапало?..
И мы с ней вместе смеялись, но по ее блуждающему взгляду все-таки было заметно, что она неспокойна.
А дня через три, когда, наконец-то, решила, что все – пронесло, вот тут-то скандал и разразился.
Зоя кричала:
– Ну, скотобаза, смотри!!! (Удивительное, правда, ругательство?) – и, обнаружив под рукой орудие пролетариата, схватила за ножку стул.
И, принимая боксерскую стойку, я приготовился держать оборону.
– Да это же, – объясняю, – не сейчас, это, – уворачиваюсь, – еще в Иркутске…
Но, распаляясь, Зоя все продолжала меня стыдить. Да весь барак может засвидетельствовать, что на праздники она даже не выходила на улицу и, прислушиваясь к каждому шороху, всю ночь не смыкала глаз.
У нее, значит, «темная ночь», а у меня здесь, оказывается, «чувырла»!!! – и, завершая поиски карающего меча, на этот раз остановилась на постельном белье, где возле стопки с накрахмаленными пододеяльниками вперемежку с цветастыми наволочками меня ожидал поставленный на попа утюг.
И, на мое спасение, вдруг раздался стук, и на пороге в позе санитара «Скорой помощи» с бутылкой «Солнцедара» нарисовался улыбающийся Павлуша.Обеденный перерыв
Из коридора доносится топот, и после гулкого грохота по подвешенному на гвоздь корыту в комнату влетает Сережа. Забросив под стол портфель, он выуживает откуда-то из-под брючины галстук и, перевязав наискосок лоб, как будто он одноглазый, прыгает по ковру. Налетает на тумбу с телевизором и, развернувшись, скачет обратно к зеркалу. Открывается дверь, и в комнату входит Зоя.
Наткнувшись на мать, Сережа сдирает свою разбойничью повязку и, уставившись в одну точку, уже заранее начинает хныкать. Штаны у него мало того что возле кармана разодраны, но еще и на коленях измазаны: по дороге из школы он стоял «на воротах»; в тетради у него по русскому двойка, а в дневнике – за то, что на уроке пения ползал, – замечание.
Увидев разорванные штаны, Зоя хоть и сразу набычивается, но как-то все равно неожиданно поднимает крик. Вооружившись полотенцем, она хватает Сережу за шиворот, а Сережа вырывается и визжит.
Как бы отмерив положенную порцию, Зоя кидает полотенце на стул и так же внезапно временно успокаивается. Швыряет на кровать пальто и, приступая к допросу, начинает у Сережи допытываться, почему он, прежде чем играть в футбол, дома не переоделся.
Сережа молчит, и, постепенно опять повышая голос, Зоя повторяет свою фразу еще раз; потом еще раз и еще… Но Сережа, так ничего и не придумав, все продолжая молчать, лишь как-то внатугу всхлипывает.
Тогда из шкафа выхватывается ремень, и, повиснув на Зоиной руке, точно его сейчас потащат на кухню резать, Сережа валится на пол и, извиваясь, вопит:
– Мамочка… миленькая… пожалуйста, прости… я больше не буду…
Сережины вопли добавляют Зоиным движениям к порывистости даже какую-то легкость, и со словами: «Что не будешь?! Я тебя спрашиваю или не тебя?! Что ты не будешь?!» – Зоя засучивает рукава и, как бы продолжая свой танец дальше, теперь уже не с полотенцем, а с ремнем, снова распаляется до крика. И опять много раз повторяет один и тот же вопрос. А потом, все на той же высокой ноте, начинает приговаривать, чтобы Сережа, наконец-то, понял, как тяжело достается матери каждая копейка. И Сережа уже не вопит, а храпит. А я все так же тупо сижу на диване и смотрю на Зоину шею. Если бы я сейчас оказался на месте Сережи, то вцепился бы ей зубами в горло.
Откинув ремень, Зоя переводит дух и, чтобы не сгорел на кухне обед, выбегает. И не успевает захлопнуться дверь, как Сережа уже опять перед зеркалом и, как ни в чем не бывало, высовывает язык и, встретившись со мной взглядом, подергивая кожей щеки, подмигивает.
А когда Зоя вернется, то снова захнычет, и все, что было связано со штанами, теперь повторится и с двойкой, а потом и с замечанием в дневнике.
А вечером, когда уже прилично «примем», Зоя прижмет к себе Сережину голову и будет ее нежно гладить и плакать.