Адская бездна. Бог располагает Дюма Александр
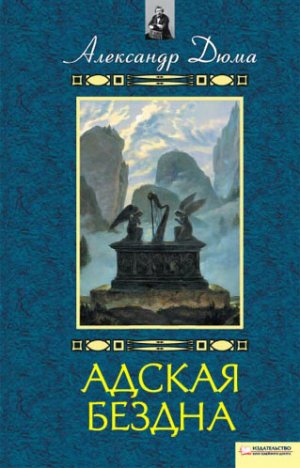
— Да, — пробормотал он, — да, Юлиус, ты мой, ты принадлежишь мне, притом моя власть еще крепче, чем вы полагаете — ты и твой отец. Вот уже два года я владею твоей душой, а в настоящий момент, может быть, и сама твоя жизнь в моих руках. Кстати, самая пора выяснить, как обстоит дело.
Самуил достал из кармана бумажку, которую он вытянул по жребию, развернул и прочел: «Франц Риттер».
Он расхохотался:
— Итак, по-видимому, теперь лишь от меня зависит, жить этому младенцу или умереть. Стоит мне оставить все как есть, и Отто Дормаген проткнет его как цыпленка. Однако он спит, так что я бы вполне мог вынуть его бумажонку из Библии и аккуратненько всунуть на ее место свою. Сделаю я это? А может быть, не сделаю? Черт побери, сам не знаю! Вот положение как раз в моем вкусе. Держать в своих руках жизнь человеческого существа, словно простой стаканчик для игры в кости, — это по мне! Играть с жизнью и смертью — всем забавам забава! Продлим же это развлечение, достойное богов. Прежде чем принять решение, я закончу свое письмо, разумеется, не столь почтительное, как у Юлиуса, хотя я имею те же… гм… естественные причины чтить знаменитого барона.
Послание Самуила и в самом деле было довольно дерзким.
XI
CREDO IN HOMINEM[4]…
Вот оно, это письмо. Самуил поистине кощунствует, но само название этой книги дает нам право привести его святотатственные откровения от начала до конца.
«Милостивый государь и прославленнейший учитель, действительно ли Вы искренно веруете в Господа?
То есть, давайте сразу уточним: веруете ли Вы в божество, существующее помимо нас, одинокое, эгоистичное и спесивое, в создателя, властителя и судию всего сущего, в Бога, который, если он не провидит грядущего, слеп и безрассуден так же, как любой глава исполнительной власти, а если провидит, бессилен и бездарен, словно сочинитель скверных водевилей, ибо человек, его шедевр, не более чем слабое, зависимое и глупое создание?
Или, быть может, Вы считаете то, что принято именовать Богом, неотторжимым от жизни человечества и здесь-то, в этой неотторжимости, волей-неволей признаваемой, таится смысл утверждения, излюбленного вами, христианами, что Бог сделался человеком?
Для просвещенного, не замороченного предрассудками сознания в наши дни это уже не вопрос. И все же перед теми чрезвычайными следствиями, кои предполагает сей очевидный факт, робкие умы отступают, охваченные ужасом и смятением.
Первое из этих следствий таково: если Бог есть человек, то человек равен Богу; когда я говорю “человек”, я разумею не обывателя или мужлана, не существо, считающее гроши, подобие скудоумного насекомого, или роющего землю быка, а того, кто мыслит, любит, наделен свободной волей, как Вы, как я, — короче, человека в полном смысле слова!
Затем, если человек есть Бог, он наделен всеми, правами Бога, ведь это очевидно. Он волен поступать так, как ему угодно, не зная иных пределов, кроме предела собственных сил. К гению неприменимы иные мерки, кроме меры его же гения. Щепетильность, угрызения совести — все это ни к чему. Наполеон, которого мы сейчас проклинаем и которого будем обожествлять лет через десять, если не раньше, знает или чувствует это, отсюда его величие. По отношению к стаду посредственностей гений имеет все права и пастуха, и мясника.
Сатана у Мильтона говорит: “Зло, стань моим добром!” Такое противопоставление само по себе ограничено. Что до меня, то я не вижу надобности непременно творить то, что люди называют злом, но равным образом не считаю себя обязанным стремиться к тому, что они именуют добром. Природа несет в себе все: не она ли, создавшая птиц, породила также и змей?
“Но как же быть с общественным порядком?” — спросите Вы.
Что ж, поговорим и о нем.
Вы крепко держитесь за общественные установления — понимаю, еще бы, ведь Вас общество одарило всем. Да мне с какой стати его чтить? Я еврей. Я незаконнорожденный. Я беден. Судьба была трижды немилостива ко мне без всякой моей вины, и за три эти беды ваше общество отторгает меня, карает, словно за тройное преступление. Так уж позвольте и мне не питать к обществу особой признательности. Горе тому, кто, имея пса, мучает его, отказывая даже в глотке воды, и вместо пищи потчует ударами палки. Однажды пес взбесится и укусит такого хозяина.
Итак, существует ли в мире хоть кто-нибудь, кому я был бы чем-либо обязан? Быть может, Вам? Давайте разберемся.
Есть во Франкфурте узкая, мрачная, грязная улица, прескверно вымощенная, полузадушенная двумя рядами шатающихся от ветхости домов, верхние этажи которых почти готовы столкнуться лбами, словно пьяницы, не имеющие сил удержаться на ногах; это улица, где лавки пусты, а их задние дворы завалены искореженным железом и битыми горшками; она обнесена оградой, и каждый вечер ее запирают на два оборота ключа, словно обиталище зачумленных, — это еврейский квартал.
Там царят вечные потемки: солнечные лучи не снисходят до этой гнусной клоаки. Что ж, Вы, не в пример солнцу, оказались менее брезгливы. Однажды, около двадцати лет назад, Вы забрели туда и, проходя мимо одного из домов, увидели сидевшую на его пороге с шитьем в руках девушку блистательной красоты. Она была так хороша, что Вы не преминули наведаться туда снова.
В ту пору Вы еще не успели стать знаменитым ученым, которого вся Германия славит и осыпает благами, зато Вы были молоды и на редкость умны. А еврейку природа одарила пылким сердцем. Разумеется, Вы менее, чем кто-либо другой, склонны были поведать мне, чем обернулась встреча ее сердца с Вашим умом.
Но я знаю одно: я появился на свет год спустя. И я незаконнорожденный.
Моя мать впоследствии вышла замуж и умерла где-то в Венгрии. Я ее не знал, меня вырастил мой дед, старый Самуил Гельб, взявший на себя все заботы о сыне своей единственной дочери.
Что до моего отца, я, по всей вероятности, не раз встречал его, но он не подавал вида, что знает, кто я. Никогда, ни открыто, ни тайно, он не признал во мне сына. Возможно, что порой я оставался с ним наедине, но ни разу он не открыл мне свои объятия, не произнес, пусть совсем тихо, шепотом, этих двух слов: “Дитя мое!”
Я предполагал, что он сделал карьеру, принят в свете, женился. Конечно, не мог же он признать своим сыном еврея, ублюдка, ведь у моего отца было высокое положение, была супруга, был, возможно, и другой, законный сын…»
На этих-то словах Самуил и прервал свое письмо; заметив, что Юлиус дремлет, он окликнул его, напрасно пытаясь разбудить, потом вытащил из своего кармана бумажку с выпавшим ему жребием и прочел на ней имя Франца Риттера.
После некоторого колебания Самуил спрятал бумажку обратно в карман и снова принялся за письмо:
«Так я жил до двенадцати лет, не зная, ни кем был мой отец, ни кто такой Вы. И вот однажды утром я сидел, читая книгу, на том же самом пороге, где тринадцать лет назад Вы впервые увидели мою мать с ее шитьем. Внезапно подняв глаза, я заметил незнакомого мужчину сурового вида, пристально смотревшего на меня. Это были Вы. Потом Вы зашли в лавку. Мой дед, когда Вы стали его расспрашивать, подобострастно отвечал, что прилежания и ума мне хватает, я быстро воспринимаю все, чему меня учат, уже знаю французский и древнееврейский, которым он сам смог обучить меня, и читаю все книги, какие только попадают мне в руки, но он слишком беден, ему трудно дать мне настоящее образование.
Тогда Вы по безмерной Вашей доброте взяли меня в свою химическую лабораторию то ли учеником, то ли слугой. Но я внимал и учился. За семь лет благодаря моей железной конституции, позволявшей мне отдавать работе не только дни, но и ночи, благодаря той почти яростной энергии, с какой я погружался в занятия, я постиг одну за другой все тайны Вашей науки: к девятнадцати годам я знал столько же, сколько Вы.
Сверх того, я изучил латынь и греческий, для этого мне было достаточно присутствовать при занятиях Юлиуса.
Вы со временем даже немножко привязались ко мне, я ведь с таким интересом относился к Вашим опытам! А поскольку я умышленно дичился и помалкивал, Вы понятия не имели о том, что творилось в глубине моей души.
Но это не могло длиться вечно. Вы вскоре заметили, что в своих занятиях я более не следую за Вами, а двигаюсь один по избранному мною пути. Вы вспылили, я также. Между нами произошло объяснение.
Я спросил Вас, какова цель Вашей науки. “Сама наука”, — отвечали Вы. Но какой же в этом смысл? Нет, наука не может быть целью, она — средство. Я уже тогда хотел применить ее к жизни.
Подумать только, ведь в наших руках оказались ужасные тайны, непреодолимые природные силы! Благодаря нашим изысканиям и открытиям мы могли бы сеять смерть, возбуждать любовь, насылать безумие, воспламенять или гасить сознание; стоило лишь уронить одну-единственную каплю известной нам жидкости на кожицу плода, и мы, если бы пожелали, могли бы умертвить самого Наполеона! И что же? Не использовать это волшебное могущество, доставшееся нам ценой стольких трудов и благодаря нашим дарованиям? Предоставив этим сверхчеловеческим силам дремать в бездействии, эти орудия власти, арсенал покорения всего и вся будут пропадать втуне? Мы так и не пустим их в ход? Удовлетворимся тем, чтобы хранить их у себя в укромном уголке, подобно глупому скряге, без толку сидящему на сокровищах, которые могли бы сделать его властелином мира?
Услышав это, Вы вознегодовали. Вы даже оказали мне честь, признав меня человеком опасным. Из соображений осторожности Вы сочли за благо закрыть передо мной двери своей лаборатории и отказать мне в Ваших уроках, хотя, впрочем, они больше не были мне нужны. Вы отказались руководить мною, когда я уже успел опередить Вас. Наконец Вы отослали меня, тому уж два года, в Гейдельбергский университет и, сказать по правде, ничего лучше не могли бы придумать: мне как раз пришла пора изучить труды законников и философов этого лучшего из миров.
Но вот ведь незадача: Юлиус здесь со мной, и разумеется, я приобрел на него влияние, какое только может иметь ум, подобный моему, на такую душу, как у него. Отсюда Ваша ревность и родительские тревоги. Вы ведь так держитесь за этого сына: еще бы, Вы обожаете в нем наследника Вашего состояния, Вашей славы и тринадцати букв Вашего родового имени. Ваша отцовская забота столь велика, что Вы даже попытались разлучить нас, отослав его в Иену, дабы вырвать из моих когтей. А он увязался за мной чуть ли не наперекор моему желанию. Моя ли в том вина?
Подведем же итог. Обязан ли я Вам чем-нибудь? Вы дали мне жизнь. Не пугайтесь: я говорю не о том, что я Ваш сын, ведь Вы всегда обращались со мной как с чужим, и я не стану пытаться сократить расстояние, по Вашей воле разделяющее нас. Нет, я разумею, что обязан Вам всем, что в моих глазах придает цену существованию, — моими знаниями, образованием, жизнью духа. Я также обязан Вам содержанием, которое Вы мне выплачиваете последние два года. Это все, не так ли?
Что ж, возвращаюсь к тому, с чего начал это письмо. Я силен и хочу быть свободным, стать человеком, то есть подобием Бога. Завтра мне исполнится двадцать один год. Мой дед скончался две недели назад. Матери давно нет в живых. Отца же я не имел никогда. Никакие узы не привязывают меня ни к кому. Для меня имеют значение только мое самолюбие, если угодно, можете называть его тщеславием. Я ни в ком не нуждаюсь и не желаю быть обязанным никому.
Старый Самуил Гельб оставил мне около десяти тысяч флоринов. Первым долгом я отсылаю Вам с процентами сумму, которую Вы потратили на меня. Итак, с денежными счетами покончено. Что до моих нравственных обязательств, то полагаю, что сейчас мне представился удобный повод расквитаться с Вами и в этом отношении, заодно доказав, что я способен на все, даже на добрые поступки.
Вашему сыну Юлиусу, единственному Вашему сыну, в эту минуту угрожает смертельная опасность. Обстоятельства, объяснять которые Вам было бы бесполезно, сложились так, что его жизнь зависит от записки, спрятанной между страницами его Библии. Если Юлиус ее найдет, он погиб. Так вот, послушайте, что я сделаю, как только поставлю свою подпись под этим прощальным письмом. Я встану, выну из своего кармана бумажку, похожую на ту, что по жребию досталась Юлиусу, и положу ее в Библию, а взамен возьму себе его записку, а с нею и опасность. Этим я исправлю немилость, допущенную Провидением по отношению к Вашему сыну. Теперь мы квиты?
Отныне мои знания всецело принадлежат мне и я буду использовать их так, как пожелаю.
Примите последний поклон и забвение.
Самуил Гельб».
Он поднялся, раскрыл Библию, вытащил листок и положил на его место тот, что был у него в кармане.
Самуил как раз прятал свою записку, когда Юлиус, разбуженный дневным светом, открыл глаза.
— Ну что, отдохнул немножко? — спросил его Самуил.
Юлиус протер глаза, приходя в себя. Едва опомнившись, он первым делом протянул руку к Библии, открыл ее и достал свой листок.
Там стояло: «Франц Риттер».
— Отлично! Мне достался тот, кого я хотел, — сказал Самуил бесстрастно. — Гм-гм! Это славное Провидение оказалось положительно умнее, чем я предполагал. Чего Доброго, оно и вправду знает, суждено ли нам увидеть закат этого солнца, которое сейчас взошло. Жаль только, что оно не хочет нам об этом сказать.
XII
ДРАЖАЙШИЙ ЛИС
Пока Юлиус дописывал и запечатывал свое письмо, Самуил раскурил трубку.
— А знаешь, — произнес он, выпуская клуб дыма, — ведь Дормагена и Риттера вполне могла посетить та же мысль, которая возникла у нас. Не исключено, что каждый из них также успел выбрать для себя противника. Надо их опередить, этого требует простая осторожность. Давай-ка предоставим им повод к ссоре, да такой, чтобы они уж не отвертелись.
— Поищем в «Распорядке», — отвечал Юлиус. — Там перечислены все вопросы чести.
— Ну, это не для нас! — отрезал Самуил. — Важно, чтобы причиной нашей драки была не школярская перепалка, а настоящая мужская ссора. Только она даст нам право как следует проткнуть этих господ. Скажи-ка, у твоего Риттера все еще прежняя любовница?
— Да, крошка Лолотта.
— Она ведь строила тебе глазки? Вот и отлично, все складывается как нельзя лучше. Мы отправимся прогуляться по ее улице. Погода прекрасная. Девица теперь наверняка, по своему обыкновению, вяжет, сидя у окошка. Ты мимоходом отпустишь ей несколько любезностей, после этого нам останется только преспокойно ждать результата.
— Нет, — пробормотал Юлиус в смятении, — я предпочел бы другое средство.
— Это еще почему?
— Ну, не знаю, просто не хочется затевать дуэль из-за девчонки.
И он покраснел, а Самуил так и покатился со смеху:
— Святая простота! Он все еще способен краснеть!
— Да нет же, я…
— Ты думаешь о Христиане, ну же, признавайся! И желаешь сохранить ей верность столь нерушимую, что тебе претит даже видимость измены, не так ли?
— Ты с ума сошел! — возмутился Юлиус, которого всякий раз, когда Самуил упоминал о Христиане, охватывало необъяснимо тягостное чувство.
— Если я сошел с ума, то ты попросту нелеп, отказываясь молвить словечко Лолотте. Тебя это ни к чему не обязывает, а более удобного и вместе с тем серьезного повода нам не найти. Нет, конечно, если ты поклялся никогда более не говорить ни с кем, кроме Христианы, не смотреть ни на кого, кроме Христианы, не встречаться ни с кем, кроме…
— Ты мне надоел! Ладно, я согласен, — с усилием выдавил Юлиус.
— В добрый час! А мне-то как быть? Где то огниво, что поможет разжечь нашу ссору с Дормагеном? Дьявол меня побери, ничего не приходит в голову! Может быть, и у него есть своя возлюбленная? Впрочем, обоим использовать один и тот же маневр значило бы расписаться в прискорбной бедности воображения, да и потом, чтобы я — и вдруг дрался из-за женщины… нет, такому сюжету недостает правдоподобия.
Он погрузился в размышления, но уже через минуту вскричал:
— A-а! Это идея!
Самуил позвонил. Прибежал коридорный.
— Вы знаете моего дражайшего лиса, Людвига Трихтера?
— Да, господин Самуил.
— Сейчас же ступайте в «Ворон», где он живет, и передайте ему, чтобы он немедленно явился сюда. Есть дело.
Коридорный исчез.
— А пока, — сказал Самуил, — не заняться ли нам своим туалетом?
Минут через десять примчался Людвиг Трихтер, задохнувшийся от поспешности, с глазами, опухшими ото сна.
Этот Трихтер, кого до сих пор мы видели всего однажды, и то мельком, являл собой тип вечного студента. Ему было никак не менее тридцати лет. На глазах этой достопочтенной персоны успели смениться четыре поколения студентов. Он имел бороду, ручьем сбегавшую на грудь. Горделивые усы, вздернутые, будто рога месяца, и глаза, потускневшие от застарелой привычки к кутежам, придавали физиономии этого трактирного Нестора весьма своеобразное выражение — притворно отеческое и вместе с тем вызывающее.
В своей манере одеваться Людвиг Трихтер ревностно подражал Самуилу, странности и причуды которого он также копировал, не зная меры и впадая в крайность, как всякий подражатель.
Возраст и опыт делали Трихтера в некоторых щекотливых обстоятельствах поистине незаменимым. Он держал в памяти все прецеденты, сообразно которым складывались правила взаимоотношений в студенческом сообществе, а также между студентами и филистерами. Этот человек был своего рода ходячей традицией Университета. Именно поэтому Самуил удостоил его звания своего дражайшего лиса.
Эта милость преисполнила Трихтера непомерного чванства. Достаточно было посмотреть, сколь подобострастно и приниженно он держался с Самуилом, чтобы догадаться, каким наглым и высокомерным он должен быть по отношению ко всем прочим.
Он вошел, держа в руках свою трубку, которую второпях не успел раскурить. Самуил снизошел до того, чтобы заметить это чрезвычайное доказательство рвения.
— Раскури же свою трубку, — произнес он. — Ты ничего еще не ел?
— Да, правда, сейчас уже семь часов, — забормотал Трихтер, довольно пристыженный, — но дело в том, дорогой мой сеньор, что я только сегодня утром вернулся с теплой встречи лисов и едва успел задремать, как ваш уважаемый посланец меня разбудил.
— Великолепно! Это очень кстати, что ты еще не ел. А теперь скажи мне вот что. Ведь Дормаген, будучи одной из наших самых замшелых твердынь, наверняка тоже имеет собственного дражайшего лиса?
— Да, это Фрессванст.
— А хорошо ли Фрессванст умеет пить?
— Бесподобно: его даже можно считать по этой части сильнейшим среди нас.
Самуил нахмурил брови.
— Как! — воскликнул он гневно. — Я имею своего лиса, и этот лис, оказывается, не по всем статьям превосходит прочих?
— О! — пробормотал Трихтер и выпрямился, уязвленный. — О! Мы, собственно, никогда не имели повода схватиться всерьез. Но если бы такой случай представился, я вполне способен потягаться с ним.
— Так пусть это случится сегодня же утром, если ты дорожишь моим уважением. Увы! Великая школа уходит в прошлое. Мы теряем свои традиции. Вот уже три месяца в Университете не было дуэли выпивох. Нужно, чтобы она состоялась, причем именно сегодня, тебе ясно? Брось вызов Фрессвансту. Я приказываю тебе утопить его репутацию.
— Довольно, сеньор, — отвечал Трихтер с важностью. — Позвольте: каким оружием мы будем состязаться? На простом пиве или на вине?
— На вине, Трихтер, разумеется, на вине! Предоставим пистолеты и пиво филистерам. Шпаги и вино — вот оружие, достойное студентов и всех истинных мужчин.
— Ты будешь мною доволен, даю слово. Я прямо отсюда отправлюсь в «Большую Бочку», Фрессванст обычно завтракает там.
— Ступай. Да объяви там всем, что мы с Юлиусом придем туда после лекции Тибо, ровно в половине десятого. Я буду твоим секундантом.
— Благодарю. А я уж приложу все силы, чтобы быть достойным тебя, великий человек!
XIII
ЛОЛОТТА
Когда Трихтер удалился, Самуил сказал Юлиусу:
— Порядок действий следующий: сначала пройдемся по улице, где живет Лолотта, затем отправимся на занятия по правоведению — важно, чтобы все выглядело, как обычно, — а уж потом в «Большую Бочку».
Не успели они спуститься по лестнице, как навстречу им попался слуга. Он нес письмо для Самуила.
— А, черт! — проворчал тот. — Неужели один из наших приятелей уже успел?..
Но письмо оказалось от профессора химии Заккеуса: он приглашал Самуила позавтракать с ним.
— Скажи своему господину, что сегодня я занят и смогу явиться к нему не ранее завтрашнего дня.
Лакей ушел.
— Бедняга-профессор, — усмехнулся Самуил. — Опять у него затруднения. Не будь меня, ума не приложу, как бы он читал свои лекции.
Они вышли из гостиницы и вскоре уже были на Хлебной улице.
Лолотта сидела у открытого окна первого этажа. Это была живая, стройная шатенка; из-под чепчика, небрежно откинутого назад, виднелись пышные блестящие локоны. Она шила.
— В тридцати шагах отсюда я вижу троих болтающих лисов, — сказал Самуил. — Значит, будет кому известить Риттера о случившемся. Ну-ка, заговори с малышкой.
— Да что я ей скажу?
— Все что угодно. Лишь бы видели, что ты с ней говорил.
Юлиус скрепя сердце приблизился к окну.
— Вы уже на ногах и трудитесь, Лолотта! — сказал он девушке. — Значит, этой ночью вы не были на теплой встрече лисов?
Лолотта вся порозовела от удовольствия — внимание Юлиуса явно пришлось ей по сердцу. Она встала и с шитьем в руках оперлась на подоконник.
— О нет, что вы, господин Юлиус! Я никогда не хожу на балы, ведь Франц так ревнив! Здравствуйте, господин Самуил. Да вы, я думаю, и не заметили моего отсутствия, господин Юлиус?
— Как бы я осмелился возразить, ведь Франц так ревнив!
— Вот еще! — фыркнула девушка, состроив пренебрежительную гримаску.
— А что это вы там шьете, Лолотта? — спросил Юлиус.
— Атласные подушечки для благовоний.
— Они очень милы. Вы бы не согласились уступить мне одну?
— Что за мысль! Зачем она вам?
— Да на память же, — вмешался Самуил. — На память о вас! Однако ты времени даром не теряешь, хоть и робок с виду!
— Возьмите, вот это самая красивая, — сказала Лолотта, храбро превозмогая замешательство.
— А вы бы не могли прикрепить мне ее к ленте?
— Какая страсть! — воскликнул Самуил с комической ужимкой. — Он от вас просто без ума!
— Так… Спасибо, моя добрая, прелестная Лолотта.
И Юлиус снял со своего мизинца колечко:
— Примите его, Лолотта, взамен.
— Я, право, не знаю, прилично ли мне…
— Вот еще! — в свою очередь усмехнулся Юлиус.
Лолотта взяла кольцо.
— А теперь, — сказал Юлиус, — нам пора откланяться. Сейчас начнутся занятия, мы уже опаздываем. На обратном пути я еще увижу вас, не так ли?
— Ну вот, вы уходите и даже не хотите пожать мне руку. Видно, вы все-таки боитесь Франца.
— Действуй! — шепнул Самуил. — Вон лисы идут сюда.
Трое лисов действительно проходили мимо дома Лолотты и видели, как Юлиус приложился к ручке красавицы.
— До скорой встречи, — сказал он ей и удалился вместе с Самуилом.
Когда они добрались до места, занятия уже были в разгаре. В Гейдельберге они очень похожи на то, что порой творится у нас в Париже. Аудитория была переполнена до отказа. Записи делали лишь немногие студенты. Еще человек двадцать слушали лекцию, но ничего не записывали. Все прочие болтали, подремывали, зевали. Некоторые привлекали к себе внимание особой живописностью своих поз. На краю одной из скамей растянулся на спине золотой лис, задрав ноги под прямым углом вверх и уперев их в стену. Другой лежал на животе, поставив локти на скамью и поддерживая голову ладонями, погруженный в чтение сборника патриотических песен. В том, что речи профессора не доходят до сознания студентов, сомнения не было, но, может быть, они хоть каким-то образом проникали в их спинной мозг или локтевые суставы?
Ни Франца, ни Отто на лекции Тибо не оказалось.
Едва она кончилась, Самуил и Юлиус вместе с толпой покинули здание, и когда часы пробили половину десятого, друзья уже входили в таверну «Большая Бочка», где должно было свершиться вакхическое — и в известном смысле трагическое — действо.
Главная зала, куда направились Юлиус и Самуил, буквально была переполнена студентами. Появление наших героев произвело переполох.
— A-а, Самуил пришел! Трихтер, а вот и твой сеньор! — закричали студенты.
Но если вначале внимание присутствовавших сосредоточилось на Самуиле, то затем оно тут же переключилось на Юлиуса, когда от толпы отделился Франц Риттер и, бледный как смерть, напрямик двинулся к нему.
Увидев, что он уже близко, Самуил успел шепнуть Юлиусу:
— Будь как можно сдержаннее! Надо, чтобы вся вина за вызов легла на наших противников, тогда в случае несчастья свидетели подтвердят, что зачинщиками были не мы.
Между тем Риттер уже оказался возле Юлиуса и преградил ему дорогу.
— Юлиус, — произнес он, — это тебя видели сегодня утром, когда ты по дороге на лекцию завел разговор с Лолоттой, не правда ли?
— Возможно. Я, должно быть, спрашивал у нее, как ты поживаешь, Франц.
— Не советую тебе шутить. Ты целовал ей руку, мне и это известно. Учти, что мне такие штучки не по душе.
— Учти, что такие штучки по душе ей.
— А, так ты еще зубоскалишь, чтобы меня взбесить!
— Нет, я шучу, чтобы тебя успокоить.
— Так вот, мой дорогой, единственно, что меня может успокоить, так это прогулка с тобой на гору Кайзерштуль.
— В самом деле, кровопускание в такую жару освежает. Если угодно, я тебе его устрою, милейший.
— Через час?
— Через час.
Они расстались. Юлиус возвратился к Самуилу.
— Я со своей стороны все устроил, — сказал он.
— Отлично! А сейчас мой черед, — отозвался Самуил.
XIV
ДУЭЛЬ НА ВИНЕ
Самуил отозвал Трихтера в сторону, спеша выяснить, что дражайшийлис успел предпринять во исполнение его приказания.
— Ну вот, — начал Трихтер. — Когда я зашел в ту харчевню, Фрессванст завтракал. Я приблизился к его столу как бы невзначай, с таким видом, будто просто прохожу мимо. Но мимоходом я приподнял крышку на его кружке и, увидев, что там пенится всего-навсего пиво, обронил с оттенком неподдельного сострадания: «Слабый выпивоха!» Эти два слова, полные кроткого сочувствия, так его взбесили, что он подскочил будто ошпаренный, однако попытался все-таки сдержаться и отвечал довольно хладнокровно: «Это стоит хорошего удара шпаги». Нимало тем не смущенный, я столь же меланхолично произнес: «Ты сам видишь, как я был прав. Я унизил выпивоху, а отпор дает рубака. Впрочем, — добавил я, — мне безразлично, на чем сражаться, клинок мне подходит не меньше, чем кружка».
— Браво, мой славный лис! — воскликнул Самуил. — А он что?
— Тут он начал соображать, что к чему. «Ну, — говорит, — если тебе по вкусу поединок на стаканах, ты этим доставишь мне удовольствие, у меня как раз в глотке пересохло. Пойду поищу Отто Дормагена, пусть мой сеньор будет и моим секундантом». — «Мой сеньор Самуил Гельб будет моим, он тоже придет», — отвечал я. «Какое оружие ты предпочитаешь?» — «Вино и кое-что покрепче». — «Хвастун», — буркнул он вроде бы пренебрежительно, однако было видно, что он удивлен и не в силах скрыть невольное уважение. В эту самую минуту в голубом кабинете все готово для незабываемого сражения. Дормаген и Фрессванст уже там и ждут нас.
— Так не будем же заставлять их ждать, — сказал Самуил.
И вот вместе с Юлиусом они вошли в голубой кабинет.
Дуэли на пиве и вине даже в наше время не редкость в германских университетах. Поединок напитков, как любой другой, имеет твердые правила, на этот счет тоже есть свой «Распорядок». Его требования исполняются с методической точностью, последовательность всех действий установлена, и нарушать ее не позволено никому.
Каждый выпивоха в свою очередь заглатывает некоторое количество спиртного, затем произносит ругательство в адрес своего противника, а тот после этого обязан и выпить, и выругаться вдвойне.
В дуэли на пиве количество выпитого решает все. Но там, где происходит поединок на вине, все сложнее: учитывается различная крепость и качество напитков, в соответствии с этим определяются нужные пропорции. То же касается ругани: есть своя иерархическая лестница и у оскорблений, среди бранных слов тоже существует аристократия, притом их ранг подобает знать каждому. Таким образом, поединок, начинаясь с бордоского вина, заканчивается водкой, от кружки восходит к кувшину, от колкого словца — к грубой брани, и продолжается все это до тех пор, пока один из противников окажется неспособен пошевелить языком — чтобы заговорить, и открыть рот — чтобы выпить. Он и считается побежденным.
При всем том дуэль напитков, как и любая другая, вполне может закончиться смертельным исходом. Поэтому полиция борется с нею всеми мыслимыми средствами, тем самым рискуя продлить ее век до бесконечности.
Когда Самуил, Юлиус и Трихтер вошли в голубой кабинет, там все уже было готово для предстоящей битвы. По концам стола теснились две грозные армии бутылок и склянок всевозможных размеров, цветов и форм. Вокруг в суровом безмолвии стоя ждали десятка два золотых лисов.
В комнате было всего два стула, установленные один напротив другого. На одном уже восседал Фрессванст. Трихтер уселся на другой.
Отто стоял рядом с Фрессванстом, Самуил приблизился к Трихтеру.
Достав из кармана флорин, Самуил подбросил его в воздух.
— Орел, — сказал Дормаген.
Флорин упал решкой вверх. Стало быть, начинать выпало Трихтеру.
О муза, воспой чаши, полные до краев, поведай о славной битве, в коей сии благородные сыны Германии явят миру, сколь растяжимой способна быть человеческая оболочка и до какой степени, наперекор законам физики, размеры вместилища могут порой уступать объему того, что оно умудрилось вместить!
Мы оставим без внимания первые стаканы и первые обидные слова: то были всего лишь легкие стычки, маленькие разведывательные вылазки, во время которых противники потратили всего-навсего несколько колкостей и опустошили каких-нибудь пять-шесть бутылок.
Нет, мы начнем с той минуты, когда почтенный лис, фаворит Самуила, взял бутылку мозельского, вылил добрую половину в громадный стакан богемского хрусталя, с небрежным видом опорожнил его и поставил на стол пустым.
Потом он обратился к Фрессвансту и сказал ему:
— Ученый сухарь!
Доблестный Фрессванст презрительно усмехнулся. Он взял два точно таких же стакана, наполнил их доверху бордоским вином и выпил оба до последней капли, сохраняя рассеянную мину, словно думал о чем-то постороннем.
Совершив это огромное возлияние, он воскликнул:
— Водохлеб!
Тогда все свидетели повернулись к великому Людвигу Трихтеру, который не замедлил доказать, что достоин столь почтительного внимания. На иерархической лестнице вин за бордо следует рейнское, но Трихтер в порыве благородного честолюбия решил перешагнуть эту ступень и сразу принялся за бургундское. Он схватил пузатую склянку с этим напитком, выплеснул ее содержимое в свой стакан, так что вино чуть не хлынуло через край, и, втянув в себя все до последней капли, вибрирующим голосом прокричал:
— Королевский прихвостень!
Это восклицание, да и вся бравада Трихтера не вызвали у его противника ничего, кроме легкого, но довольно обидного пожатия плеч. Прославленный Фрессванст не желал уступать: коль скоро Трихтер пренебрег рейнским, он в свою очередь перескочил через малагу, не побоявшись атаковать мадеру.
Но этого ему показалось мало, он хотел не только повторить подвиг соперника, но и придумать что-нибудь новенькое. Он схватил стакан, до сих пор так верно ему служивший, и разбил его, ударив об стол, потом взял бутылку и с невыразимым изяществом опрокинул ее горлышко прямо себе в рот.
Присутствующие, затаив дыхание, смотрели, как вино переливается из бутыли в глотку, причем Фрессванст лил его без остановки. Вот уже четверть бутылки опустела, потом и половина, и три четверти содержимого исчезли в чреве героя, а этот бесподобный Фрессванст все пил и пил.
Закончив, он поднял бутыль дном вверх — из нее не выпало ни единой капли.
Дрожь восхищения пробежала среди зрителей.
Но это было еще не все. Удар не засчитывался, если его не дополняло оскорбление в адрес противника. А тут мы вынуждены признать, что мужественный Фрессванст, похоже, не был более способен произнести что бы то ни было. Создавалось впечатление, что вся его энергия без остатка истратилась в этом жутком усилии. Наш непреклонный герой обвис на своем стуле в полном изнеможении, с помутившимся взором, противоестественно раздутыми ноздрями и судорожно сомкнутым ртом. Мадера одолевала его. Но в конце концов этот славный Фрессванст все же взял над ней верх — он приоткрыл уста и смог выдавить:
— Трус!
Взрыв рукоплесканий был ему ответом.
И тогда, о Трихтер, ты достиг подлинных высот! Чувствуя, что наступает решающее мгновение, ты встал. Ты больше не разыгрывал беззаботность — в этом акте драмы ей уже не было места. Ты тряхнул своей густой шевелюрой, и в комнате повеяло холодком, словно то была львиная грива. Ты медленно отогнул манжету на правой руке, чтобы ничто не стесняло твоих движений (ибо нам претит мысль, что это делалось с низменной целью потянуть время), и движением, исполненным торжественности, поднес ко рту бутылку портвейна и опустошил всю до дна.
Потом, не дав себе ни единого мгновения, чтобы перевести дух, и как бы спеша покончить с этим делом, Трихтер отчетливо выговорил:
— Прохвост!
— Хорошо! — снизошел до похвалы Самуил.
Только после этого, когда Трихтер — герой, достойный эпоса, — пожелал сесть, выяснилось, что его представления о том, где, собственно, находится стул, были несколько туманны, и он тяжело осел на пол, растянувшись во весь рост, — поза, вне всякого сомнения, более чем извинительная для того, кого следовало признать почти что утопленником.






