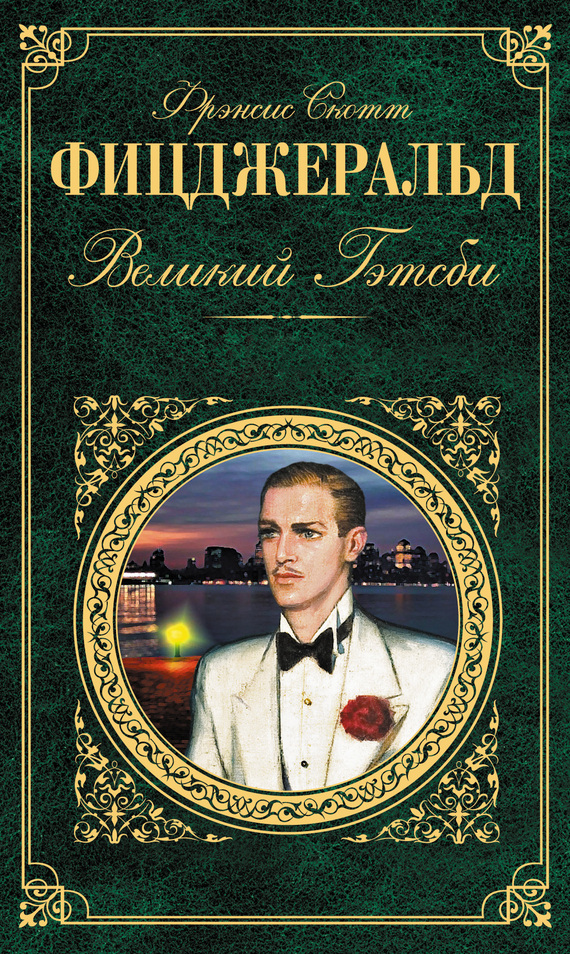Империя Ангелов Вербер Бернард
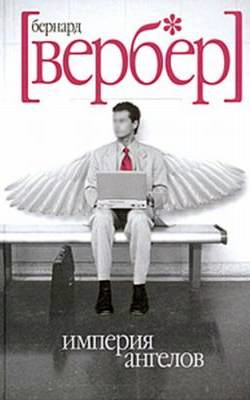
Я живу в шикарном лофте в дорогом квартале и вижу маму не чаще раза в неделю. У нее немного едет крыша. Она слишком много пьет и слишком часто меняет компаньонов. Я тоже увеличила число любовных приключений, но научилась не очень расходовать себя на них. Мне нравится играть с любовниками.
Вначале я чувствовала себя обязанной найти какое-нибудь правдоподобное объяснение типа: «Я полюбила другого» или «Не выношу твоих друзей». Теперь я себя даже этим не затрудняю. Мне достаточно бросить недовольное: «Надоел ты мне».
Единственной маленькой тенью в этой радужной картине является то, что у меня все чаще и чаще мигрень. Я была у нескольких врачей, но никто не смог мне помочь. Они не понимают, что со мной.
Я все больше курю. Это немного уменьшает головную боль. Чтобы заснуть, мне нужно все больше и больше снотворного.
Кризисы сомнамбулизма перемежаются кризисами мигрени. Что бы там ни было, я продолжаю верить в сны.
Звонок по телефону. Билли Уотс объявляет, что я была права, предчувствовав свое избрание лицом известнейшей марки духов. Намечается контракт века. Я подпрыгиваю от радости. Если подписание контракта состоится, я спокойна до конца своих дней. Но Билли добавляет в бочку меда ложку дегтя. Он сообщает, что Синтия Корнуэлл тоже рассматривается в качестве возможной кандидатки. Я в бешенстве. Синтия моя главная соперница. Она тоже чернокожая. Такого же роста. Тоже частично переделана. У нее похожая на мою улыбка. И… и она моложе меня. Ей только семнадцать лет, и это может склонить чашу весов.
Билли Уотс тем не менее утверждает, что все будет хорошо. Его медиум по имени Людивин сказала, что выберут меня.
Что до меня, то я хотела бы верить медиумам, но не фирмам, производящим косметику. Я знакома со стариками, управляющими этими предприятиями. Они всегда отдают предпочтение молодости. Я знаю, что они предпочтут Синтию. К тому же меня уже столько видели в средствах массовой информации, что в двадцать один год я выгляжу как что-то уже состоявшееся, а преимущество Синтии в том, что она выступает в роли претендентки.
Я произношу молитву. Если там наверху что-то есть, если у меня действительно есть ангел-хранитель, я хочу… Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЭТА ДРЯНЬ ИЗУРОДОВАЛАСЬ.
138. Энциклопедия
Тирания левого полушария мозга. Если разъединить два полушария и показать юмористический рисунок левому глазу (соответствующему правому полушарию), в то время как правый глаз (соответствующий левому полушарию) ничего не видит, то человек будет смеяться. Но если у него спросить, почему он смеется, то, поскольку левое полушарие ничего не знает о шутке, он придумает объяснение своему поведению и скажет, например: «Потому что рубашка экспериментатора белая, а это очень смешной цвет».
Таким образом, левое полушарие придумывает логику поведения, потому что оно не может себе представить смех без причины или из-за чего-то, что ему не известно. Больше того: после вопроса оба полушария будут уверены в том, что человек смеялся из-за белого цвета рубашки, и оба забудут про рисунок, представленный правому.
Во время сна левое полушарие оставляет правое в покое. И последнее начинает прокручивать свой внутренний фильм: персонажи с меняющимися по ходу действия лицами, немыслимые, нереальные места, бредовые фразы, внезапно прерывающиеся интриги и так же внезапно начинающиеся другие, никак не связанные между собой, без начала и конца. С пробуждением, однако, левое полушарие восстанавливает свое господство и расшифровывает воспоминания о сне так, что они приобретают какую-то связность (единство времени, места и действия) и по мере того, как день клонится к закату, становятся вполне «логичными».
На самом деле даже в состоянии бодрствования мы постоянно находимся в процессе восприятия непонятной информации, поставляемой левым полушарием. Эта его тирания, однако, трудно выносима. Некоторые начинают пить или употреблять наркотики, чтобы ускользнуть от вездесущей рациональности половинки мозга. Используя в качестве предлога химическую интоксикацию органов чувств, правое полушарие, избавленное от своего постоянного переводчика, позволяет себе выражаться более свободно.
Окружающие скажут о таком человеке: он бредит, у него галлюцинации. А он всего лишь избавился от господства левого полушария.
Даже безо всякой химической помощи достаточно позволить себе предположить, что мир может быть непонятен, чтобы получать напрямую «необработанную» правым полушарием информацию. Возвращаясь к приведенному в начале примеру, если мы сможем принимать то, что правое полушарие выражается свободно, мы узнаем первую шутку. Ту, которая нас действительно рассмешила.
Эдмонд Уэллс.«Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том 4
139. Игорь. 21 с половиной год
Я хорошо выполняю свою работу. Мои «волки» свирепствуют по всей местности. Мы с боем берем вражеские позиции, причем с очень небольшими потерями. Однажды на фронт приезжает полковник Дюкусков. У него радостный вид. Он берет меня за плечи и говорит без обиняков:
– У меня очень хорошая новость.
Я говорю себе, что это должны быть новые «калашниковы». С тех пор как нам пообещали заменить старое вооружение, я только это представляю себе как хорошую новость. Я уже знаю, кому поручу испытать новое оружие.
– Война окончена.
Я перестаю дышать. Он повторяет:
– Мир.
Я с трудом выговариваю:
– Мир…
Так, значит, эти продажные твари в Кремле, поддавшись давлению преступных американских капиталистов, решили подписать соглашение с представителями чеченских войск. Это худшая вещь, которую я мог услышать. Я хотел бы, чтобы этот момент никогда не наступил. Мир. МИР?!! Когда мы уже почти победили? Я не осмеливаюсь спросить, почему они опустили руки. Я не осмеливаюсь сказать, что, возможно, в эту самую минуту мои «волки» штурмом взяли стратегически важный объект. Я не осмеливаюсь упоминать о всех зверствах, совершенных чеченами, о детях, которых они использовали как живой щит, о пытках, которым подвергали взятых в плен. И это с ними мы будет мириться? Я спрашиваю с маленькой долей надежды:
– Это… это шутка?
Он удивлен.
– Нет. Это официально. Соглашение подписано вчера.
У меня предобморочное состояние.
Дюкусков думает, что меня переполняет радость. Он поддерживает меня под руку. Возможно ли, чтобы люди так заблуждались? Чтобы они не отдавали себе отчета? Мы были в сантиметре от победы! Мы бы победили! И вот… мы ведем переговоры. Переговоры о чем? О праве все потерять!
Что теперь будет со мной?
Я покидаю лес, открытые просторы, свою стаю. Я сдаю униформу, ботинки, оружие. С конвоем возвращаюсь в Москву и погружаюсь в мир геометрических линий города.
Чингис-хан, кажется, ненавидел города. Он говорил, что сам факт, когда люди скучены на небольшой территории, окруженной стенами, приводит к помешательству рассудка, накоплению нечистот, распространению болезней и ограниченности мышления. Чингис-хан разрушил столько городов, сколько смог, но последнее слово осталось за горожанами.
Я возвращаюсь к гражданской жизни. Мне нужно найти жилье, а я даже не знаю, как заполнить бумаги. Я снимаю крошечную квартирку. Уродливую, шумную и дорогую. Все соседи на меня косо посматривают. У меня ностальгия по стоянкам под открытым небом. Где мои деревья? Где мои «волки»? Где мой чистый воздух?
Я чувствую себя неуклюже в гражданской одежде, непривлекательной и неудобной. Брюки, майка и свитер. Карманов мало, а отвороты слишком мягкие, чтобы повесить медали.
Мне сложно стать частью гражданского общества. На войне нужно было только драться, чтобы получить то, что хочешь. Здесь же царит только одно правило: деньги. Платить, за все нужно платить.
Я думал, мне помогут боевые заслуги, но они только мешают. Тыловые крысы опасаются ветеранов войны. Я снова и снова смотрю по видео фильмы со Сталлоне и Шварценеггером и пью водку до тех пор, пока не засыпаю. Скорей бы мы объявили войну Западу. Я более чем готов.
Звонит почтальон. Он принес мое первое пособие уволенного в запас. Я считаю купюры. Пособие «спасителя отечества» равно половине зарплаты продавца хот-догов!
Я имею право на большее. Я хочу иметь больше денег. Я хочу большую квартиру. Я хочу дачу за городом, как у важных чиновников. Я хочу дорогой лимузин. Я достаточно страдал, теперь я хочу быть богатым.
Эй, наверху! Ангел-хранитель, если ты меня слышишь: Я ХОЧУ БЫТЬ БОГАТЫМ.
140. Молитвы
Я протираю глаза. Наблюдение за жизнью клиентов забирает у меня все силы. Меня нервирует, что они не понимают снов, которые я им отправляю. Меня расстраивает, что они не видят отправленных мной знаков. Меня приводит в отчаяние, что они не слышат направленных мной интуитивных побуждений. Мне осточертело. Я хочу быть хорошим учеником, но, чтобы было желание продолжать, необходим хотя бы минимальный результат. Я отправляюсь на поиски Эдмонда Уэллса.
– Я знаю, что основной обязанностью ангелов является выполнять желание клиентов, но желания моих трудновыполнимы, – говорю я учителю. – Жак мечтает только о том, как бы найти издателя своей бредятины про крыс.
– Дай ему то, что он хочет.
– Игорь. Он хочет быть богатым. Сделать так, чтобы он выиграл в лото?
– Выигрыш в лото ему не поможет. Он станет еще несчастнее. Его будут окружать только люди, привлеченные богатством. Недостаточно хотеть быть богатым, необходимо быть способным справляться со своим богатством. Он не готов. Сделай его богатым, но постепенно, не как в лото. Следующий клиент.
– Венера хочет, чтобы ее соперница, другая чернокожая и более молодая манекенщица, была бы… изуродована!
– Выполни ее желание, – холодно говорит учитель.
Мне кажется, что он меня не расслышал.
– Но мне казалось, что мы здесь для того, чтобы делать людям только хорошее.
– Ты должен в первую очередь удовлетворять желания клиентов. Если они хотят делать глупости, это их свободный выбор. Уважай его.
Эдмонд Уэллс приглашает меня немного полетать над Раем.
– Я понимаю твои затруднения, Мишель. Задача ангела непроста. Люди имеют ничтожные и смехотворные желания. Мне иногда кажется, что они боятся быть счастливыми. Все их проблемы можно выразить одной фразой: «Они не хотят создавать собственное счастье, они хотят только уменьшить несчастье».
Я повторяю это про себя, чтобы как следует уловить значение. «Они не хотят создавать собственное счастье, они хотят только уменьшить несчастье…»
Эдмонд Уэллс продолжает:
– Все, чего они хотят, это меньше страдать от зубной боли, чтобы дети, которых так хотели, перестали кричать, когда они смотрят телевизор, и чтобы теща перестала приходить по воскресеньям и портить праздничный обед. Если бы они только могли себе представить, что мы им можем дать! В том, что касается бедной Синтии Корнуэлл, соперницы Венеры, тебе необходимо обсудить с ее ангелом-хранителем будущую аварию. Но это не должно стать проблемой, потому что в качестве страдалицы его клиентка получит дополнительные очки. И последнее, на что я хотел бы обратить твое внимание, Мишель. Не знаю, заметил ли ты, но… рычаги воздействия на клиентов изменились. Игорь обращал внимание на знаки, а теперь больше на интуицию. Венера учитывала свои сны, а сейчас интересуется медиумами. Что касается Жака, на которого раньше можно было влиять в основном через кошку, то теперь он более чувствителен к воспоминаниям о снах.
141. Жак. 22 года
Мне приснился кошмар. Сперва был плачущий волк. Потом девочка, превращающаяся в воздушный шар. А потом девочка-воздушный шар поднималась над землей все выше и выше. Волк смотрел на нее и начинал очень грустно выть. Еще была птица без крыльев, которая била клювом в стенку девочки-воздушного шара, чтобы та спустилась, но стенка была слишком прочной. Тогда птица без крыльев поворачивалась ко мне и просила что-то. Она говорила: «Говорить о смерти». «Говорить о смерти».
Волк продолжал выть. Птица била клювом в девочку. А я проснулся и обнаружил, что Гвендолин снова брыкается и бьет меня ногами.
Ей тоже снился сон. Она говорила: «Нужно, чтобы это прекратилось». А потом, как будто отвечая кому-то: «Нет, не я, не это». Или: «Поверьте мне, так ничего не выйдет», и снова брыкалась, как будто отбивалась от кого-то.
Внезапно я получаю удар лапой. Это Мона Лиза. Она тоже шевелится во сне. Движет зрачками под закрытыми веками, вытягивает лапы с выпущенными когтями, хочет кого-то схватить. Мне кажется нормальным, что люди тоскуют. Но то, что кошке тоже снятся кошмары, мне вдруг кажется ужасным.
В приемной у ветеринара полно народа. Рядом со мной человек с такой же жирной кошкой.
– Чем она страдает?
– Близорукостью. Медор садится все ближе и ближе к телевизору.
– Вашего кота зовут Медор?
– Да, потому что он ведет себя как покорная собака. Никакой независимости. Только позовешь, прибегает. Вот, близоруким стал. Наверное, придется надеть ему очки.
– Наверняка это общая мутация вида. Моя кошка тоже смотрит телевизор со все более близкого расстояния.
– В конце концов, если этот ветеринар ничем не поможет, я пойду к ветеринару-окулисту, а если он тоже не найдет решения проблемы, пойду к ветеринару-психоаналитику.
Мы вместе смеемся.
– А ваша кошка чем страдает?
– Моне Лизе снятся кошмары. Она все время нервничает.
– Даже не будучи ветеринаром, – говорит мужчина, – могу вам дать совет. Кошка часто выступает катарсисом своего хозяина. Она живет вашими страданиями. Успокойтесь, и она тоже успокоится. Вы сами весь как комок нервов. А если не будет получаться, заведите детей. Это развлечет кошку.
Мы ждем. Перед нами еще с десяток посетителей, и есть время поболтать. Он представляется:
– Рене.
– Жак.
Он спрашивает, кем я работаю. Официантом в ресторане, говорю я. Он оказывается издателем. Я не осмеливаюсь заговорить о своей книге.
– Очередь так медленно идет, – замечает он. – Вы в шахматы играете? У меня в портфеле дорожные шахматы.
– Давайте сыграем.
Я быстро понимаю, что могу его без труда обыграть, но мне на ум приходит совет Мартин. Настоящая победа никогда не должна быть слишком явной, ее нужно добиваться. Поэтому я усмиряю свой бойцовский пыл и устраиваю таким образом, чтобы наши позиции сблизились. Отказавшись взять верх, смогу ли я отказаться от победы? Некоторые поражения, возможно, представляют интерес. Я позволяю ему победить. Он мне ставит мат.
– Я всего лишь любитель, – радуется Рене. – Был момент, когда я подумал, что проиграл.
Я принимаю раздосадованный вид.
– А я в один момент думал, что выиграю.
Теперь, как по волшебству, я больше не боюсь заговорить о своей книге.
– Я тоже не только официант, в свободное время я пишу.
Он смотрит на меня с жалостью.
– Я знаю. Сегодня все пишут. У одного француза из трех есть рукопись, ждущая своего часа. Вы отправляли свою издателям и вам отказали, так?
– Везде.
– Это нормально. Профессиональные читатели за мизерную сумму составляют краткую рецензию на рукопись. Чтобы сделать эту работу прибыльной, они читают в день до десятка книг. Как правило, они останавливаются странице на шестой, потому что большинство текстов очень скучны. Нужно иметь огромное везение, чтобы попасть на читателя-энтузиаста.
Собеседник открывает мне новые горизонты.
– Я не знал, что все происходит именно так.
– Чаще всего они ограничиваются аннотацией, а также количеством орфографических ошибок в первых строках. Ах, французская орфография! Все эти двойные согласные, вы знаете, откуда они?
– По-моему, от греческой или латинской этимологии.
– Не только, – просвещает издатель. – В средние века монахам-переписчикам книг платили за количество букв в переписанных манускриптах. Поэтому они договорились между собой, чтобы удваивать согласные. Именно поэтому в слове «difficile» два «f», а в слове «developper» два «p». И мы продолжаем свято следовать этой традиции, как если бы речь шла о национальном достоянии, а не о монашеских проделках.
Подходит его очередь. Он протягивает мне визитную карточку на имя Рене Шарбонье.
– Так пришлите мне вашу рукопись. Обещаю прочесть больше шести строк и честно сказать свое мнение. Но все-таки не стройте себе иллюзий.
На следующий день я отвожу рукопись по указанному адресу. Еще через день Рене Шарбонье сообщает мне, что готов ее напечатать. Я так счастлив, что с трудом верю в это. Значит, мои усилия будут все-таки вознаграждены! Значит, все было не напрасно!
Я сообщаю радостную новость Гвендолин. Мы отмечаем это событие с шампанским. Я чувствую себя так, как будто освободился от тяжелой ноши. Мне необходимо вернуться на землю. К своим старым привычкам. Я подписываю контракт и стараюсь забыть свою радость, чтобы сконцентрироваться на том, как лучше защитить собственный труд.
На деньги от контракта я приобретаю для Гвен, Моны Лизы и себя самого то, о чем мы долго мечтали: кабельное телевидение. Чтобы избавиться от возбужденности, я усаживаюсь перед экраном, который меня так успокаивает. Я включаю американский круглосуточный информационный канал, главным ведущим которого является некий Крис Петтерс. Это новое лицо немедленно внушает мне доверие. Как будто он член семьи.
– Иди сюда, Гвендолин, посмотрим телек, это помогает избавиться от мыслей.
Из кухни, где, как я слышу, она насыпает кошке корм, не следует ответа.
Крис Петтерс уже объявляет последние новости. Война в Кашмире с угрозой применения атомного оружия. Новое пакистанское правительство, сформированное после недавнего военного путча, заявило, что, поскольку ему больше нечего терять, оно намерено отомстить за честь всех пакистанцев и раздавить позорную Индию. Новая мода: все больше студентов выставляют собственные акции на бирже, чтобы акционеры оплатили их учебу. Затем они расплачиваются в зависимости от собственного успеха. В джунглях Амазонки племя Ува решило совершить коллективное самоубийство, если на их священной территории будет продолжаться разведка нефти. Они считают нефть кровью Земли…
Новое преступление серийного убийцы, душащего свои жертвы шнурком. На этот раз он убил знаменитую актрису и топ-модель Софи Донахью. Он сделал это таким образом…
– Гвендолин, иди посмотри телевизор!
Гвендолин подходит с грустным выражением на лице. Она вяжет.
– Плевать мне.
– Что случилось? – говорю я, усаживая ее на колени и гладя ей волосы, как я глажу кошку.
– Тебя вот напечатали. А меня никогда не напечатают.
142. Энциклопедия
Мазохизм. В основе мазохизма лежит страх болезненного события. Человек испытывает страх, поскольку не знает, когда наступит это испытание и насколько болезненным оно будет. Мазохист понял, что одним из средств борьбы со страхом является провокация пугающего события. Таким образом, он знает хотя бы, когда и как это произойдет. Вызывая сам это событие, мазохист думает, что руководит своей судьбой.
Чем больше боли причиняет себе мазохист, тем меньше он боится жизни. Ведь он знает, что другие не смогут причинить ему столько боли, сколько он причиняет сам себе. Ему больше нечего бояться, потому что он сам свой худший враг.
Этот контроль над собой позволяет ему затем легче контролировать других.
Поэтому неудивительно, что большое число руководителей и вообще людей, облеченных властью, в личной жизни проявляют более или менее выраженные мазохистские наклонности.
Однако за все надо платить. В силу того что мазохист связывает понятие страдания с понятием управления своей судьбой, он становится антигедонистом. Он не хочет больше никаких удовольствий, он лишь ищет новые, все более жесткие и болезненные испытания. Это может превратиться в настоящий наркотик.
Эдмонд Уэллс.«Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том 4
143. Игорь. 22 года
У меня мало денег? Ну что ж, нужно только взять их там, где они есть. Я становлюсь вором. А что мне терять? В худшем случае окажусь в тюрьме, где, возможно, встречу многих своих «волков». Станислас становится моим подельником. Мы используем то же оборудование, что на войне. После огнемета Станислас осваивает газовый резак. Никакой замок, никакой сейф перед ним не может устоять. У воров существует священный час: четыре с четвертью утра. В это время на улице нет машин. Последние гуляки уже легли спать, а первые труженики еще не проснулись. В четыре с четвертью проспекты пустынны.
Днем мы проводим разведку, а в четверть пятого приступаем к действию. Как и на войне, нужны план и стратегия.
Мы проникаем в богатый особняк на севере города. Станислас берет со столика портрет и говорит:
– Эй, Игорь, гляди-ка, этот тип с усиками, как велосипедный руль, не тот же самый, что на твоем медальоне?
Я подскакиваю. Сравниваю фотографии и вижу, что никаких сомнений быть не может. Те же усики. Тот же надменный вид. Тот же хитрый взгляд. Мы проникли в дом… моего отца. Я внимательно осматриваю его. Роюсь в ящиках. Обнаруживаю документы и семейные фотоальбомы, подтверждающие, что мой родитель стал богатым и важным человеком, что у него несколько домов, много друзей и что он знаком с сильными мира сего.
Он бросил мать, когда она была беременна мной, но не перестал размножаться. В особняке несколько детских комнат!
Охваченный яростью, я хватаю газовый резак и жгу одну за другой игрушки в детских комнатах. Они должны были быть моими. Они мне должны были приносить радость в детстве. У меня их не было, не будет и у других.
Затем я падаю на диван, опустошенный такой несправедливостью.
– Сперва мир, теперь встреча с папашей, это уж слишком!
– Держи это, выпей. Это пройдет, пройдет, – говорит Станислас, протягивая мне бутылку американского виски.
Мы вдребезги разбиваем все в доме папаши. Мебель, посуду, все. Теперь будет знать, что я существую. Чтобы отметить побоище, мы выпиваем еще и наконец засыпаем на выпотрошенных матрасах. Утром нас будят менты и отвозят в отделение. Начальник отделения, сидящий за столом, выглядит очень молодо. Наверное, блатной. Его лицо мне знакомо. Ваня. Он не сильно изменился после детдома. Он встает и тут же заявляет, что очень зол на меня. Мир перевернулся. Он на меня злится, вероятно, за то зло, что мне причинил, а я ему не ответил тем же.
– Прости меня, – говорю я, как будто обращаюсь к дебилу.
– Ага, наконец-то! – говорит он. – Я всегда хотел это услышать от тебя. Ты знаешь, ты причинил мне столько страданий! Я долго думал о тебе после того, как мы расстались.
Мне хочется сказать: «А я тебя сразу выкинул из головы», но я молчу.
Его лицо приобретает незнакомое мне притворное выражение.
– Уверен, что ты думаешь, будто это я действовал неправильно.
Главное – не отвечать на провокацию.
– Ты ведь так думал, да? Признаешься?
Если я отвечу «да», это его разозлит, если «нет», тоже. Молчать. Это лучший выбор. На самом деле он не знает, как ко мне подступиться. Охваченный сомнениями, он принимает мое молчание за согласие и говорит, что принимает мои извинения и что он не злопамятен и готов нам помочь в деле со взломом особняка. У него даже достаточно полномочий, чтобы замять все это дело.
– Но, – говорит он, – внимание! Больше не играйте в воров. Малейший рецидив, и пойдете на кичу.
Я жму ему руку и выдавливаю из себя самое нейтральное «спасибо». Чао.
– И еще одно, – говорит Ваня.
– Да, что?..
Я стою неподвижно и стоически ожидаю, что цена его прощения не возрастет.
– Хочу задать тебе один вопрос, Игорь…
– Задавай…
– Почему ты мне никогда не набил морду?
Здесь нужно сохранить самообладание. Не раздражаться. Главное не раздражаться. Рука начинает дрожать. Мысленно я представляю себе, как его маленькое пронырливое лицо разбивает мой мощный кулак с крепкими фалангами. Я чувствую в руке силу удара, который мог бы нанести. Но я зрелый человек. Я всегда говорил «волкам»: «Не будьте быками, которые бросаются на красную тряпку. Не позволяйте эмоциям преобладать над собой. Вы, а не противник решаете, где и когда ударить».
Ваня – начальник отделения милиции, кругом его вооруженные сотрудники, со всеми мне не справиться. К тому же если он захочет пришить меня, то может приказать сделать это одному из своих подчиненных. Я не собираюсь все терять из-за Вани. Я еще раз окажу ему великую честь. Я выдержал мать, выдержал холод, болезни, центр нервно-сенсорной изоляции, пули и снаряды. Я не собираюсь умирать в отделении милиции из-за обидчивости.
Я произношу, не оборачиваясь:
– Ну… Не знаю. Может, потому, что люблю тебя, несмотря ни на что, – говорю я, через силу заставляя себя произнести эти слова.
Дышать. Дышать ровно. Легче атаковать чеченские позиции, чем заставить себя не размазать по стенке бывшего друга. Ну, еще одна фраза:
– Рад был повидаться, Ваня. Пока.
– Я люблю тебя, Игорь, – заявляет он.
Я не оборачиваюсь.
– Что будем теперь делать? – спрашивает Станислас.
– Будем играть в карты.
И вместе со Станисласом я начинаю посещать все места в городе, где играют в покер. Я быстро восстанавливаю старые навыки. Расшифровывать выражения лиц и движения рук, отличать фальшивые от настоящих, самому посылать ложные знаки… Это как логическое продолжение моих боевых подвигов.
Вскоре мой стиль игры улучшается. Мне уже не нужно следить за малейшими движениями, я догадываюсь об игре противников, даже не глядя на них. Как если бы они излучали флюиды удачи или неудачи сквозь густой сигаретный дым. Я стремлюсь настроиться на что-то очень тонкое. Как будто существует проникающая через все волна, которая дает мне необходимую информацию. Иногда я могу ее чувствовать, и тогда я знаю расклад карт практически всех игроков.
Благодаря покеру я зарабатываю гораздо больше боевых трофеев, чем приносили наши ограбления. По крайней мере, не нужно прибегать к помощи скупщиков. И доходы скрывать мне не нужно.
Я выигрываю и богатею.
Я играю со все более изощренными противниками, но они не были на войне. У них недостаточно крепкие нервы, а страх проиграть делает их такими предсказуемыми… Когда ставки растут, они становятся как загнанные звери. Они больше не думают, они молятся. Они трут амулеты и ладанки, призывают ангелов-хранителей и богов. Они трогательны. Как бараны, которых ведут на бойню.
Растущая известность дает мне доступ на частные вечеринки, которые посещают богатые и обладающие властью люди. Я узнаю, что на них бывает и мой отец, и прилагаю все для того, чтобы оказаться с ним за одним столом.
Вот и он.
Долго я ждал этой минуты. Его лицо скрывает шляпа. Нас не представляют друг другу. В этом роскошном салоне, где со стен сурово смотрят портреты предков, я устраиваюсь в кресле, обитом вышивными узорами, под ярко освещающим центр стола светом. Ставки огромны, но благодаря предыдущим выигрышам, у меня достаточно боеприпасов. Один за другим игроки покидают стол после того, как их горы жетонов иссякают, и я остаюсь один с отцом. Он хорошо играет.
Я настраиваюсь на пересекающую все волну.
– Сколько поменять? – спрашивает крупье после сдачи.
– Три.
– Вам?
– Не надо, – говорит отец, не глядя на меня и демонстрируя лишь верх шляпы.
Мне надо задать ему столько вопросов, я хотел бы знать, зачем он меня породил, почему он нас бросил и особенно почему он никогда не пытался меня найти.
Мы поднимаем ставки.
– Пятьдесят.
– Пятьдесят и поднимаю на сто.
Я недостаточно сконцентрирован. Наказание незамедлительно. Банк растет, и я проигрываю. Отец остается непроницаемым. Он даже не взглянул на меня. Мне хочется сказать ему: «Я твой сын», но я сдерживаюсь. Еще игра, и снова проигрыш. Он способный игрок. Я понимаю, что сила в покере пришла ко мне не только от уроков Василия, она была и в моих генах. Отец настоящий хамелеон. Ограбление дома, судя по всему, на нем совершенно не отразилось.
– Сколько поменять?
– Две.
Та же ошибка. То же наказание.
Новая раздача. Я учащенно дышу. Сейчас или никогда. Я решаю пустить в ход абсолютное оружие, последнюю стратегию Василия. Я не смотрю свои карты, даже не бросаю ни них ни единого взгляда, и объявляю:
– Не меняю.
Он наконец зашевелился. Снял шляпу и обнажил копну седых волос. Я знаю, что сперва он подумал, не чокнутый ли я, и что теперь он задается вопросом, в чем состоит смысл моего маневра. Каковы бы ни были карты, он больше не владеет ситуацией. Теперь моя очередь.
Он меняет одну карту. Значит, у него две пары и он надеется на два плюс три.
Он берет карту и, не глядя, вставляет между своими, чтобы не показать, подошла она или нет. Знаков нет. Ни малейшего движения пальцев. Я настраиваю интуицию на нужную волну. Я чувствую, что у него нет фула.
– Какая ставка?
– Тысяча, – бросает отец, гладя в карты.
Он блефует. Хочет со мной покончить. Сразу ставит планку повыше, чтобы заставить меня сдаться. Но, учитывая, что мы играем партию, в которой я не знаю своих карт, это как раз тот момент, когда я не должен сдаваться. Я поднимаю ставку.
– Тысяча пятьдесят.
Крупье не может сдержаться и говорит:
– Э-э… Вы поднимаете ставку, даже не взглянув на карты и ни одной не поменяв?
– Тысяча пятьдесят.
– Две тысячи, – говорит отец.
– Две тысячи пятьдесят.
– Три тысячи.
Невозмутимо, несмотря на выступивший на спине пот, я продолжаю:
– Три тысячи пятьдесят.
Это становится крупной суммой даже для него. Он по-прежнему на меня ни разу не взглянул. Это, вероятно, его собственная стратегия. Заставить поверить, что ему даже не нужно смотреть на противника, чтобы его победить. Со все так же склоненной вниз головой, демонстрируя мне лишь седые волосы, он просит минуту на раздумье. Я чувствую, что сейчас он поднимет голову, чтобы посмотреть на меня. Но он сдерживается.
– Десять тысяч, – говорит он раздраженно.
– Десять тысяч пятьдесят.
Таких денег у меня нет. Если я проиграю, мне потребуются годы, чтобы рассчитаться с папашей, который мне никогда ничего не давал.
– Двадцать тысяч.
– Двадцать тысяч пятьдесят.
Наконец седая шевелюра зашевелилась и откинулась назад. Он смотрит на меня. Я вижу его лицо вблизи. У него такие же усики в форме велосипедного руля, как и на портрете, который я ношу в медальоне. Он не красив. У него вид человека, много повидавшего на своем веку. Я пытаюсь понять, что мать могла в нем найти. Он смотрит на меня, чтобы разгадать. Его серые глаза ничего не выражают.
– Тридцать тысяч.
– Тридцать тысяч пятьдесят.
Шепот вокруг. Привлеченные высокими ставками, другие игроки покинули столы и сгрудились вокруг нашего. Тихо переговариваются между собой.