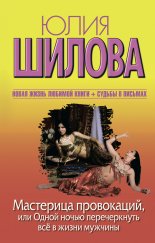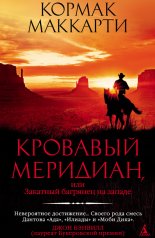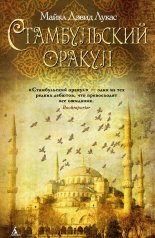Избранное Герт Юрий

Дома мы с женой подсчитываем, пользуясь данными справочника Союза писателей СССР: выходит, истинное число увеличено по меньшей мере в три раза… Но отчего-то, когда я на другой день хочу ему об этом сообщить, мне становится неловко – и за него, и за себя… И я предпочитаю промолчать.
Или – перед моей командировкой в Москву, затеянной, чтобы добыть для журнала рукописи, способные и поднять его уровень, и вызвать у читателей интерес:
– Ты парень сообразительный и сам понимаешь, какие авторы нам нужны…
Слова эти роняются мимоходом, картавой скороговоркой (он довольно сильно картавит, наш вполне чистокровный славянин Гена Толмачев), и глаза его при этом опущены, косят в сторону… Я не сразу догадываюсь, о чем именно, о каких авторах идет речь.
А догадавшись, на миг испытываю такое чувство, как если бы мне за шиворот плеснули кипятком. Но тут же остужаю себя. Разве сам я – правда, в шутку, потешаясь над юдофобами из «Нашего современника», – не посмеивался у себя в отделе, где всегда набивалось много народа и бывало весело, шутки, остроты, порой злые, перелетали из уст в уста, как отбитые ракеткой воланы, – разве сам я не смеялся, воображая, как отреагировали бы в «Нашем современнике», узнав, что у нас в журнале в течение одного года публикуются повести Мориса Симашко, Аркадия Ваксберга и Юрия Герта… Ну, вот. Хоть и в шутку, а пришла же такая мысль мне в голову. А если Толмачеву кто-то высказал ее всерьез?..
Как-нибудь, думал я тогда, подвернется случай – и мы поговорим, все выясним… Чтобы никакая тень между нами не лежала… Не нужно усложнять там, где существует простое недоразумение… Так я думал, но разговор все откладывал.
Или, помню, на планерке назвали фамилию Игоря Манделя – автора предлагаемой в номер статьи.
– Кто-кто?.. Мандель?.. – широко улыбается Толмачев. И такая, в расчете на общее взаимопонимание, ирония в этой улыбке, что все смеются в ответ и поглядывают на меня. Как не ответить на шутку шуткой?.. И я растерянно улыбаюсь в ответ.
Между тем Игоря Манделя я знаю двадцать лет, когда мы познакомились, он еще учился в школе, и все это время я издали наблюдал за ним – работящим, талантливым, до наивности честным. Сейчас он кандидат наук, математик, статистик, его монографии выходят в Москве, это я рекомендовал редакции его статью… В редакции ее отклонили, возможно – и заслуженно, была она несколько не по профилю журнала, тем не менее та планерка запомнилась: при слове «Мандель» – веселые, поддевающие усмешки, щекочущие, как прутик – спящего, взгляды…
Но сквернее скверного – подозревать, а тем более – обвинять человека, который ни в чем не виноват. И делать из мухи слона, чтобы – как в старом анекдоте – торговать слоновой костью…
Так думал я тогда.
Но следует ли всю жизнь разыгрывать из себя страуса?.. – думаю я теперь.
Но это – потом, потом… Это потом из удушливого, слепого тумана рефлексий стали выпадать в осадок, конденсироваться по каплям кое-какие мысли… А тогда, то есть на другой день, я сидел у себя в отделе над рукописями, оттягивая неловкий разговор, дожидаясь, пока Толмачев останется в кабинете один. И не дождался: проходя мимо, по коридору, он заглянул в дверь:
– Прочел?.. Зайди ко мне.
В кабинете, помимо хозяина, сидели еще двое – так, без особого дела заглянувшие сюда Морис Симашко и Виктор Мироглов. Тот и другой – близкие – хотя и по-разному близкие – мои друзья. С Морисом, чьи книги переведены на множество языков и расходятся по всему миру, мы знакомы больше двадцати пяти лет, он старше меня и держится добродушно-покровительственно. С Виктором я знаком примерно столько же, рекомендовал его в Союз писателей, нам случалось в сложных ситуациях выручать друг друга, и был у нас в прошлом безумный и отчаянный поход к Кунаеву, за которым последовала расплата… Но об этом после.
Затевать разговор в их присутствии мне не хотелось. Я был уверен, что каждый из них меня бы поддержал. Но именно это поставило бы Толмачева в неловкое положение – один против трех… К тому же, знал я, Толмачев болезненно самолюбив, а с Мирогловым у него неприязненные отношения, получится спектакль, в котором – не по моей, а выходит и по моей милости – уготована главному редактору незавидная роль…
Но что поделаешь?.. «Ты этого хотел, Жорж Данден!..»
– Я прочел, – сказал я, опускаясь в кресло перед редакторским столом и стараясь, чтобы мой голос звучал возможно непринужденнее. – И понимаю, что это шутка…
– Шутка? – светлые брови Толмачева скакнули вверх. – Как это – шутка?..
Что там ни говори, а чувство юмора у него всегда было развито.
– Ну, розыгрыш.
– Ничего себе – розыгрыш! – Он задвигал плечами, заерзал, будто его нежданно-негаданно голым задом толкнули в крапиву. – Марина Цветаева – розыгрыш?..
Глаза Толмачева, покруглев, смотрели на меня с искренним изумлением. В его натуре, помимо склонности к юмору, имелись явно артистические задатки.
– Неужели, – сказал я, сбившись с тона, – ты в самом деле полагаешь, что это нужно печатать?
– А почему нет?
Теперь уже я почувствовал себя ошарашенным – под его прямым, немигающим взглядом.
Больше всего я опасался поставить Толмачева в дурацкое положение. Да, временами он вызывал у меня настороженность, но и подобия неприязни я к нему не испытывал. Напротив…
Досадуя, что все это происходит в присутствии Мориса Симаш-ко и Виктора Мироглова, молчаливо слушавших наш разговор, не имея представления, о чем идет речь, я открыл дипломат, достал рукопись и принялся читать вслух. Я прочел одну, две, три страницы…
– Ну? – сказал я, переводя дыхание. – Может, достаточно? Толмачев упрямо пожал плечами, скользнул глазами в сторону Симашко и Мироглова, уперся в меня:
– Не вижу ничего особенного. И потом – некоторые места мы наметили убрать, сделать купюры.
– Купюры?.. У Цветаевой?..
– А что особенного? Все так делают.
– Да что тогда от очерка останется? Если весь он, от первой до последней строки, пронизан монархической романтикой? Если весь его пафос в том, что это евреи революцию затеяли, чтобы русский народ грабить и мучать, а самим хапать золото?..
– Ну, – сказал Толмачев, – так уж!.. Ведь это – Марина Цветаева! Ее имя окружено пиететом… И потом: каково ей в эмиграции приходилось? Ни хлеба, ни денег. Вот она, видно, и согласилась написать, когда ей в белогвардейских этих «Современных записках» приличный гонорар посулили. Что ж ей, с голоду было умирать?..
Цветаева?.. За гонорар?.. Это не она, это ты бы так поступил! – подумалось мне в запале. – Ты и понимаешь, и объясняешь все со своей точки зрения!.. – Ведь я помнил, как лет эдак пятнадцать назад, вернувшись из Москвы, после Академии общественных наук при ЦК КПСС, одетый в голубого цвета костюм в обтяжку, с металлическими, под серебро, пуговицами, он с поражавшей всех бойкостью и детальным знанием дела рассказывал, просвещал нашу зачуханную, провинциальную писательскую братию, каким партийным чинам, в соответствии с узаконенной субординацией, какое положено «корыто», так – без всякого юмора, на понятном для посвященных жаргоне – это именовалось: зарплата, машина, секретарша, квартира, поездки за рубеж, спецбольница, спецконьяк для подкрепления расшатанного здоровья… «Корыто»… Я слушал, отвесив челюсть, а перед глазами у меня розовели круглые поросячьи зады с завитыми восьмеркой хвостиками…
Нет, не пририсовывалась к ним худенькая, вся из углов, прикрытая старенькой, из России вывезенной шалью фигурка Марины Цветаевой, спешащая вдоль карнавально-веселой, беззаботной парижской улицы…
Я, однако, сдержался.
– Не будем спорить, почему и зачем это было написано… Только печатать это?.. У нас в журнале?.. Да нам же «Память» рукоплескать будет!
– У нас гласность, – сказал Толмачев наставительно. – Демократия. Тем более – вся редакция прочитала, ребята считают – нельзя, чтобы такой материал у нас из рук ушел. Марина Цветаева же!.. Это тебе не хухры-мухры…
Он снова кинул взгляд на Симашко, на Мироглова, ища поддержки.
Тут я впервые порадовался, что они оба – здесь, присутствуют при нашем споре: у меня не было сомнения, что я – прав, и со стороны это тем более очевидно.
– А что, – отозвался Морис нерешительно, – можно и вправду посмотреть, кое-где купюры сделать – и печатать…
– Ничего не могу сказать, пока сам не прочитаю, – мотнул головой Мироглов.
Вот как…
Что ж, пусть почитают. Хотя и тех страничек, которые я прочел вслух, вроде бы достаточно… Я ошибся. Ладно, пускай… Морис поймет, что я не с бухты-барахты попер на дыбы. И Мироглов… Ему, понятно, не доводилось испытать на себе кое-какие прелести нашей жизни… Но он разберется. И Толмачев тоже. Хотя бы как политик… Ведь он – политик, номенклатура: в издательстве был главным редактором, потом руководил партийной газетой…
– По-твоему, что же, – сказал Толмачев, – русские могут бандитами быть, а евреи – нет?..
Вот как он меня понял!
– В Каплане главное не то, что он бандит, а то, что он – еврей! Тут весь джентльменский набор: жадный, хищный, жестокий, лицемерный, двоедушный, с золотым слитком на шее, враг православия и погубитель России! Получился не характер, а национальный тип, вернее – стереотип, любезный любому антисемиту! Только и разницы, что в одном случае это ростовщик или корчмарь, в другом – «Пиня из Жмеринки», в третьем – врач-убийца, продавший Родину за доллары!.. Разве ты это не чувствуешь?
– Не чувствую, – буркнул Толмачев. – Слишком уж у тебя кожа тонкая, если ты это чувствуешь…
Счастливый человек, подумалось мне…
– Видишь ли, – сказал я, ощущая и нечто вроде сострадания к Толмачеву, и собственное – не гордость, а горечь внушающее превосходство, – мы спорим не на равных. Тут у меня явное, как говорится, преимущество. Ты принадлежишь к великому народу, который хоть и вынес немало бед за свою историю, но не знает, что такое – национальная ущемленность. Ты заметил, что у меня нос скошен в сторону… Это в январе 1953 года, когда заварилось «дело врачей», какой-то тип звезданул меня в лицо. Случилось это в Вологде, я был студентом, учился в пединституте, и вот как-то часов около десяти вечера шли мы, я и мой товарищ, тоже студент, Алфей Копенкин, по улице, в самом центре, и тут пьяная шарага вываливает из ресторана «Север» нам наперерез. «А, жид?..» И мне кулаком в рожу. Вот когда я понял, что значит – «искры из глаз посыпались». Кровища фонтаном, потом оказалось – даже челюсть треснула… Сволочное время было, то – «космополиты», то «шпионы-врачи»; хотя в институте ни я, ни мои товарищи-евреи неприязни к себе не ощущали, наоборот – какое-то сочувствие, даже неловкость за то, что в газетах пишут, что в Москве творится… Я это помню, только и удар – помню. И хотел бы забыть – нос помнит, челюсть помнит… До войны, мальчишкой, я не задумывался – кто я, знал: мы – евреи, те – русские, те – греки, все равно что – эти черные, те – рыжие… И только. Но в эвакуации, в Коканде, меня ежедневно били по дороге в школу. «Абрам», «жид» – это там я услышал впервые. Ни учителям, ни моим одноклассникам, ни бабушке с дедом я в этом не признавался, стыдно было. И каждое утро брал портфель с учебниками, тетрадками, выходил из хибарки, в которой мы снимали комнатку с земляным полом, и шел в школу, зная, что за поворотом ватага мальчишек уже меня поджидает… И не боль от ударов меня страшила, а эти крики – «Жид! Абрам!…» Они оглушали, погружали в какое-то оцепенение, столбняк – я не знал, чем ответить… Ну, да, я еврей, по-ихнему – жид… Но почему за это нужно меня бить?.. Тут зазор, который я не мог заполнить… Не могу и теперь. Или уже в пятидесятых: моя жена, москвичка, окончила институт, а на работу нигде не берут: пятый пункт не тот!.. И отец ее, отличный экономист – уже больной, на старости лет, уезжал из Москвы – то в Белоруссию на строительство нефтепровода, то в Каражал, под Караганду – по той же причине… Так что мы по-разному воспринимаем одни и те же слова: «Память», «жидомасоны» – в соответствии с тем, какой у кого жизненный опыт. Но поверь; скажи мне кто-нибудь, что я задеваю, даже ненароком, его национальные чувства… Я бы сдох со стыда и вымарал из своей вещи малейший намек, не намек – все, что могли принять за намек…
– У нас демократия, – выслушав меня, сказал Толмачев. – Гласность.
Лицо у него было каменное, неприступное.
– И что же? Значит – и нацизм, и фашизм – все допустимо, все разрешено?
– Пожалуйста, – улыбнулся Толмачев. – Как в любом демократическом государстве.
Мне вспомнилось, как ровно год назад он уговаривал меня снять любые упоминания о сталинских лагерях в моей повести, печатавшейся в журнале.
– И вообще, – продолжал он с нарастающим вызовом, – что же, если я еврейский анекдот расскажу, ты обидишься? У каждого народа свои слабые стороны. Например, я знаю, что у евреев золота много! И никто меня в этом не переубедит!..
Он рассмеялся. У него была такая широкая, от уха до уха, улыбка. И смех – такой заразительный, что всегда хотелось к нему присоединиться…
– Демократия, гласность?.. Ну, а если я тебе рассказ принесу, всего на пять страничек?.. Напечатаешь?.. Маленький, невинный, по сути, рассказик?.. Он в мою повесть «Солнце и кошка» должен был войти, но тогда, в 1976 году, не вошел, да я и не предлагал, все равно бы не напечатали…
– И зря. Я бы напечатал. – Он тогда работал в том самом издательстве, где выходила моя повесть.
– Еще бы… – Я едва не рассмеялся. – Повесть была о моем детстве, довоенном и военном, так от меня категорически потребовали, чтобы я «приглушил национальный колорит», а проще говоря – переменил имена своих родичей с еврейских на русские!..
– Все равно, – не моргнув глазом, повторил он, – я бы напечатал.
– Не буду тебя ставить в неловкое положение… Что спорить попусту? Не напечатал бы тогда, не напечатаешь и теперь.
– Напечатаю!
Голос его звучал жестко, уверенно. Видно, он был убежден, что я блефую, нет у меня такого рассказа.
– Хорошо, – сказал я, – завтра же принесу…
Вот что писали в те дни газеты:
«В конце июня я приехала к друзьям в Москву. В субботу 27 июня мы поехали в Измайловский парк. На аллее, которая выводит к троллейбусу, собралась толпа, человек 30–40. В центре стоял худощавый тип в шортах, лет 55, с талантом оратора. Но что он говорил?! Он говорил, что наше правительство – масоны, что партия ведет народ в тупик. Он требовал свободы действий для своей организации, высказывал махровые националистические взгляды. Люди, стоящие вокруг, как ни странно, ему аплодировали. Я обратилась к милиционеру, но он сказал, что у нас свобода и демократия».
Л. П. Каменецкая, Ленинград («Комсомольская правда» за 19 дек. 1987 г.)
«Мне непонятна позиция газеты: кому и зачем понадобилось выгораживать жидов-масонов? Ведь каждому здравомыслящему человеку понятно, что застой в общественной жизни и экономике – это дело рук «сынов Израилевых».[2] Непонятно также, почему стараются очернить истинных патриотов: К. Андреева, Д. Васильева, А. Гладкова, В. Шумского, которые ведут борьбу с силами скрытой реакции…»
И. Иванов, русский человек (Там же.)
«Надо было слышать, с каким выражением произносились на научной (!) конференции в Ленинградском (!) университете нерусские фамилии. Как доказывал М. Любомудров, что над нашей театральной культурой властвуют русофобы и ими осажден "Невский пятачок" (сиречь Ленинград). "Сегодня мы уже знаем механизм уничтожения российских талантов, – взывал он к залу и продолжал: – Вампилов, конечно, не умер. Но погиб, как разведчик в бою. В том поиске, сражении, в котором погибли писатель Шукшин, поэт Рубцов, художники Васильев и Попков, критик Селезнев. Свою разведку боем они вели в одном направлении – они шли в Россию, сражались за нее и отдавали свои жизни… Вампилов погиб в самом начале 3-й мировой войны, которую мы продолжаем вести и сегодня!"
Из зала пошли записки… Вот одна из них: "Какова роль евреев в заговоре против русского народа?" Ф. Углов из возможных вариантов ответа выбирает: – Они автографов не оставляют.
… Доверчивая (или сочувствующая) публика не согнала ряженого с трибуны, а аплодировала ему».
Геннадий Петров, секретарь правления Ленинградской писательской организации («Советская культура», 24 ноября 1987 г.)
«Война уже идет, жестокая, незримая война. Если я войду к вам в дом, наплюю на пол, оскверню его, надругаюсь над вашими домашними, как вы поступите со мной? Разорвете на куски и выбросите в форточку? Доколе же терпеть нам, братья и сестры?..»
Д. Васильев, лидер «Памяти» («Комсомольская правда» за 19 дек. 1987 г.)
«Нынешние лидеры "Памяти" чуть ли не в открытую призывают к экстремизму. В так называемом "Обращении к русскому народу" читаем: "…Смелее находите и называйте вражеские конспиративные квартиры… Проводите по всей стране манифестации и референдумы… Установите контроль над средствами массовой информации, выявляйте продажных журналистов и расправляйтесь с ними… Родина в опасности!"
Владимир Петров («Правда» за 1 февраля 1988 г.)
«Когда один из главарей "Памяти" Д. Васильев крикнул: "Рвать на куски врагов народа и выбрасывать в форточку!" и "Мы сотрем в порошок всех, кто станет на нашем пути", я услышал невольно истерические крикливые речи Гитлера, Геббельса, Штрайхера и других главарей национал-социалистической партии Германии. Главари объединения "Память" хотят видеть Россию "юденрайн" (чистой от евреев). Они фетишизируют понятие "русский по национальности", как гитлеровцы говорили об арийской расе. Они хотят вызвать у русского народа чувство высшей расы, как это делали гитлеровцы с немецким народом. Это ведет к страшным последствиям».
Фриц Маркузе, немецкий коммунист, воевавший против фашизма («Комсомольская правда» за 19 дек. 1987 г.)
Как бы там ни было, мы закончили разговор на примиряющей ноте. Я почти успокоился после него. И даже пожалел, что в горячке спора зацепил самолюбие Толмачева.
– Этому очерку место в «Избранном» или «Собрании сочинений», – сказал я. – Там его можно прокомментировать, осмыслить в историческом, биографическом плане…
– А зачем? – прищурился Толмачев, должно быть решив, что я хитрю, стараюсь оттянуть публикацию на бог знает какой срок.
– Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то носил на шее золотой слиток? Видел, читал о чем-то подробном? А чтобы командир красноармейского отряда по продразверстке, не пряча, у всех на виду носил его на шнурочке? Можешь ты это представить?.. И потом – где, у каких крестьян они, эти золотые слитки, водились, чтобы их отбирать?.. Но ведь и Марина Цветаева, должно быть, не присочиняет?.. Словом, нужен комментарий.
– Ну, допустим…
– Но это частность. Что мы знаем о Марине Цветаевой? Она ненавидела революцию – и восторгалась безоглядно принявшим ее Маяковским. Она бежала из революционной России – и вернулась в нее в разгар сталинского террора. Она романтизирует русскую монархию – и трагически переживает гибель республиканской Испании. Ее муж Эфрон воюет в рядах белогвардейцев-деникинцев с красными – и затем рвется из Парижа в Советский Союз, где по приезде и погибает. Выдерни один-два факта ее биографии, выдерни некоторые строки, стихи – какие открываются возможности для самых разных спекуляций!..
– Что же ты предлагаешь?..
– Разобраться самим, что к чему, и помочь разобраться читателю, который не слишком осведомлен в судьбе Марины Цветаевой – как и мы сами, чего греха таить… И не давать повода превратить ее в союзницу «Памяти» и черносотенцев из «Нашего современника».
– Разве ты не знаешь моего отношения к ним?..
– Знаю. Но и ты меня знаешь. Если «Вольный проезд» будет напечатан без толкового комментария, я уйду из журнала.
Толмачев помолчал.
– Понимаю… – Голос его отмяк, в пристальном взгляде, которым он словно впервые меня рассматривал, я поймал то ли соболезнование, то ли сочувствие…
Я был уверен: все обойдется. Толмачев пришел в редакцию три года назад, все мы приняли тогда его назначение настороженно, иные даже враждебно. За три последних года, однако, журнал напечатал несколько смелых вещей, мало-помалу, благодаря перестройке, в нем воскресали давние, загубленные годами застоя традиции. Время, здравый смысл и эти традиции эпохи «оттепели» – на моей стороне, – думал я.
– Толмачев поймет, уже понимает – нельзя гробить едва поднимающийся с четверенек журнал…
Не он, а мои друзья, честно говоря, смутили меня в тот раз – Морис Симашко и Виктор Мироглов. Смутило их молчание – вместо поддержки… Мерзкое у меня было чувство в душе, когда мы с Виктором (Симашко ушел раньше) после работы бок о бок прошагали по улице несколько кварталов. Небо над городом висело низкое, пасмурное, и между нами вместо привычной ясности горьким дымком клубилась какая-то хмарь. Я что-то говорил, только бы нарушить гнетущее молчание. Виктор посапывал, отводил глаза в сторону.
– Надо прочесть самому, – повторил он произнесенное в редакторском кабинете. – Пока не прочту, ничего не могу сказать.
Что ж, он был прав. Но в тоне его, в тяжеловесной фигуре, в тяжелых, размашистых шагах, в том, как давили, размазывали по земле подошвы его ботинок густую, клейкую грязь, я ощущал едва прикрытую враждебность.
Дома я рассказал о разговоре с Толмачевым, признался, что наговорил, наверное, лишнего…
– Но я выложил все, что думаю, начистоту. Когда говоришь с человеком так, без задних мыслей, начистоту, это не может не подействовать…
Не знаю, что, слушая меня, думала жена, но возражать мне она не стала.
Мы многого еще не знали в то время, но и того, что знали, хватало для некоторых догадок. Да, мы догадывались, как сложна, запутана, искорежена трагическими обстоятельствами была судьба Марины Цветаевой с ее страшным финалом. Но как могли мы предположить, что ее муж Сергей Эфрон, добиваясь разрешения вернуться на Родину, согласился выполнять оперативные задания НКВД в Париже: что он причастен к нашумевшему похищению генерала Миллера, возглавлявшего «Общевоинский союз», и к убийству советского разведчика Игнатия Рейсса, который, подобно Раскольникову, отказался возвращаться домой в 1937 году и выступил публично с разоблачением сталинского режима; что он, Сергей Эфрон, участвовал и в слежке за сыном Троцкого Львом Седовым, умершим весьма загадочно вскоре после отъезда Эфрона в Россию… Об отношениях Марины Цветаевой с эмигрантской средой, скандализованной историей похищения генерала Миллера, о полицейских разоблачениях, о потрясении, пережитом ничего прежде не подозревавшей поэтессой, – обо всем узнали мы только два года спустя[3].
Но то, что «Вольный проезд» – лишь камешек в грандиозной мозаике жизни и творчества Марины Цветаевой, который, будучи выломленным из всей картины, способен не прояснить, а скорее исказить ее облик, – это было нам ясно и тогда.
И было ясно, не возбуждало сомнений – даже будь нам ничего неизвестно о дружбе Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, об отношении к ней и к ее творчеству Ильи Эренбурга и т. д., Марина Цветаева не могла быть антисемиткой. Впоследствии же оказалось, что публикации в «Современных записках» она предпослала следующее стихотворение:
ЕВРЕЯМ
Кто не топтал тебя и кто не плавил, О, купина неопалимых роз! Единое, что по себе оставил Незыблемого на земле Христос:
Израиль! Приближается второе Владычество твое. За все гроши Вы кровью заплатили нам: Герои! Предатели! – Пророки! – Торгаши!
В любом из вас, – хоть в том, что при огарке Считает золотые в узелке, – Христос слышнее говорит, чем в Марке, Матфее, Иоанне и Луке.
По всей земле – от края и до края Распятие и снятие с креста. С последним из сынов твоих, Израиль, Воистину мы погребем Христа.
- Кто не топтал тебя и кто не плавил,
- О, купина неопалимых роз!
- Единое, что по себе оставил
- Незыблемого на земле Христос:
- Израиль! Приближается второе
- Владычество твое. За все гроши
- Вы кровью заплатили нам: Герои!
- Предатели! – Пророки! – Торгаши!
- В любом из вас, – хоть в том, что при огарке
- Считает золотые в узелке, —
- Христос слышнее говорит, чем в Марке,
- Матфее, Иоанне и Луке.
- По всей земле – от края и до края
- Распятие и снятие с креста.
- С последним из сынов твоих, Израиль,
- Воистину мы погребем Христа.
Об этом стихотворении – таком пронзительном, страстном, с характерным цветаевским перехлестом – мы узнали позже, и об этом – особый рассказ… Другое дело, что о нем, несомненно, знала, не могла не знать профессор Л. Козлова, обращаясь в журнал. Знала. И – как оказалось впоследствии – знала не только она…
Однако некоторые слова из тех, что произнес Толмачев, засели в моей памяти, как ржавые гвозди. Например – о золоте, которое в изобилии водится у евреев… В самом деле, есть, как известно, такое мнение – тут вспоминаются и Шейлок у Шекспира, и «презренный жид, почтенный Соломон» у Пушкина, и мало ли что еще… Но вот, добродушно посмеиваясь, об этом же говорит мне Толмачев. У него – отличная квартира в центре города, преподнесенная ему государством (как и те, что имелись у него раньше и которые за свои пятьдесят лет он успел не раз поменять), он ни года не прожил без служебной машины со служебным шофером, он вдоволь попутешествовал по заграницам, пользуясь разного рода льготными путевками, он постоянно где-то «наверху»: то собкор центральной, то редактор областной газеты, то зам. редактора журнала «Партийная жизнь», то есть для него – и спецмагазины, и спецбольница, и спецсанатории… Я живу двадцать пять лет на окраине города, в квартире, купленной за свои, гонорарные деньги, – хрущевского образца, с низким потолком и совмещенным санузлом; у меня нет и не было ни машины, ни дачи; я был и остался работником редакции, моя ставка за двадцать три года выросла со 145 до 190 рублей, я ни разу не был в загранпоездках, раз в год мы с женой в отпуск ездим в писательский Дом творчества по оплаченной нами путевке – и при этом считаем, что нам повезло… Я покупаю мясо на базаре, маюсь, как и все, в обычной больничной палате на шесть, а то и девять коек, и попадаю туда все чаще. Мне пятьдесят семь лет, в будущем у меня не предвидится никаких – в лучшую сторону – перемен… Однако именно мне, и не кто-нибудь, а именно Толмачев толкует о «золоте»…
У моих друзей-евреев его ровно столько же, сколько у моих друзей-русских и друзей-казахов. Но не глупо ли, не унизительно ли – это доказывать?..
Дай-ка я лучше отнесу ему тот рассказ, – подумал я. Кстати, ведь в нем тоже речь о золоте… Еврейском золоте… И я отыскал пожелтевшие странички с бахромой по краям. Рассказ был написан в конце шестидесятых, в один присест. Славное время… Помню, в «самиздате» тогда гуляли стихи Бориса Слуцкого:
- Евреи хлеба не сеют,
- евреи в лавках торгуют,
- евреи раньше лысеют,
- евреи больше воруют.
- Евреи – люди лихие,
- Они солдаты плохие:
- Иван воюет в окопе,
- Абрам торгует в рабкопе…
- Я все это слышал с детства,
- И скоро совсем постарею,
- но мне никуда не деться
- От крика: «Евреи, евреи!»
- Не предававши ни разу,
- Не торговавши ни разу,
- ношу в себе, как заразу,
- эту проклятую фразу!
- Пуля меня миновала,
- чтоб говорилось нелживо:
- «Евреи – не воевали,
- все возвратились живы!»…
Эти давнишние стихи были наконец опубликованы несколько месяцев назад в «Новом мире». Когда-то у нас в Караганде, в среде молодых литераторов, где верхом неприличия считали придавать какое бы то ни было значение «пятому пункту», все их знали наизусть… Обрадованный публикацией, я заглянул в редакторский кабинет со свежим номером журнала и показал Толмачеву стихотворение Слуцкого.
Толмачев посмотрел на меня стеклянными глазами:
– Никогда не слышал, – сказал он.
Утром хозяйка, у которой мы жили, сказала:
– Вставай, тебя бабка зовет.
Я спал на террасе – по ночам здесь было не так душно. Я оделся и пошел в комнату.
Здесь собрались уже соседи и еще какие-то люди, я их не знал. Они расступились, и я увидел кровать, покрытую свежей белой простыней.
Последние два месяца дед болел водянкой, тощее, усохшее тело его вдруг раздуло, как резиновый баллон, а тут, если бы не голова и ступни ног, упертые в железные прутья кровати, могло показаться, что под простыней пусто.
В изголовье, на стуле, в черном платочке, сидела бабушка. Она поднялась мне навстречу и сказала, глядя куда-то ниже моего подбородка:
– Дедушка наш умер. Я это понял сам.
В таких случаях – я знал, слышал или читал об этом – люди плачут, заламывают руки и целуют покойника в лоб. И все смотрели на меня, ожидая, как мне казалось, того же самого. А я стоял не шевелясь и только видел перед собой белую свежую простыню, еще в жестких складках от глажки.
Я не любил деда, почти ненавидел.
За обедом, разливая жидкий суп, бабушка наливала ему полную тарелку, а себе – на донышко. Меня это бесило. Я отливал ей от себя так, чтобы у нас было поровну – дед все съедал сам, не поднимая голодных глаз от тарелки. Получив хлеб по карточкам, я честно приносил его домой, не тронув ни крошки, но дед, повертев горбушку, говорил: «А какой он сегодня?..» – и отъедал ее всю, сосал, чмокал своим редкозубым ртом. И ночью, поднимаясь помочиться, на обратном пути он тихо, стараясь не заскрипеть половицей, крался к шкафчику, где в банке хранился сахар, наш общий сахар, и я начинал громко ворочаться, чтобы его вспугнуть, но он все равно крался, и я слышал, как поддетый его пальцами кусочек шаркал по стеклу, там, у горлышка.
И вот теперь я смотрел на белую простыню и думал, что мы с бабушкой станем все делить поровну, справедливо.
Не знаю, чем со стороны казалось мое молчание и неподвижность. Но бабушка подошла ко мне, мягко погладила по затылку и, сказав: «Ты поплачь, поплачь, легче будет», – отвела в сторонку.
Мне было стыдно ее красных глаз, ее набрякших век, ее скорбного, черного, в белых горошках платочка, но я не мог выжать ни единой слезинки.
Я обрадовался, когда спустя полчаса меня послали за врачихой, лечившей деда: для похорон требовалась справка, что мой дед действительно умер.
На улице было еще прохладно, воздух казался особенно прозрачным и чистым после комнаты с затворенными окнами и тяжелым, сладким запахом смерти. В арыке весело ворковала вода, над низкими заборами вскипала густая жирная листва, в которой просвечивали янтарно-спелые урючины, на каждом углу, примостясь на корточках, женщины в грязных пестрых халатах торговали рисом, курагой и кислым молоком с коричневой пенкой.
Я быстро нашел нужный дом, но сопровождать врачиху мне не пришлось – она просто выписала мне справку на бланке – таких бланков у нее была заготовлена целая стопка, – и я ушел.
Я возвращался не торопясь, довольный, что так хорошо выполнил поручение и тоже чем-то помог в хлопотах. Об этом я как раз и думал, когда заметил впереди раскидистую чинару и сообразил, что надо было свернуть в боковой переулок. Но теперь сворачивать было поздно, потому что там, под чинарой, тоже заметили меня. Каждый день по дороге в школу я проходил мимо этой чинары, и всякий раз мне хотелось свернуть в боковой переулок, но я не сворачивал, а шел мимо, даже убавлял шаг, чтобы там, под чинарой, не подумали, что я струсил.
Я не мог себе позволить, чтобы там так решили в этот день, особенно в этот день.
Они все уже собрались, все сидели там – и Косой, и Дылда, и остальные – все они были в сборе, и среди них, конечно, был и тот. На Костылях, – так я называл их для себя.
– Эй, Абрамчик! – крикнули мне, и я пошел медленнее, не поворачивая головы. Я знал, что это их особенно злило, но я головы не поворачивал и бежать никуда не бежал.
– Эй, Абраша, подь сюда!
Я пошел еще медленнее, по-прежнему притворяясь, что не слышу.
Тогда они поднялись и двинулись мне наперерез.
Я остановился, стиснув справку о смерти деда в потном кулаке.
– Чего вам?
Теперь они стояли против меня полукругом, цепко, настороженно следя за каждым движением. Тот, На Костылях, протолкался вперед, и я видел прямо перед своим его лицо, маленькое, бледное до голубизны на висках, с прищуренными, горячими от злобы глазами.
– Абраша, где твой папаша? – крикнул он, картавя и кривляясь.
Остальные загоготали, как гоготали всегда, хотя всегда повторялось одно и то же. И так же, как всегда, мне хотелось ответить: «Мой отец погиб на фронте, а твой – где?» – ответить и посмотреть, что он на это скажет.
Но я молчал, смутно чувствуя унизительность такого ответа.
– Жид, – сказал он, – жид пархатый! – и придвинулся ко мне.
Теперь мы стояли с ним грудь в грудь.
Он был ниже меня, и на костылях, я мог бы сшибить его одним толчком, ударом. Но именно этого я и боялся. Мне теперь особенно ярко представилось вдруг, как я тем самым кулаком, в котором справка о смерти деда, бью его в ненавистное бледное лицо, в узкий подбородок, и он падает назад, раскорячив костыли, падает – и разбивает череп о булыжник и потом лежит на кровати, под белой простыней, как мой дед.
– Отойди, – сказал я, – мне ведь некогда. И я не жид, я – еврей, понял?
– Жид, – сказал он. – Все евреи – жиды, в чемоданах золото прячут!..
– Дурак, – сказал я.
Мне уже не терпелось, чтобы он скорее ударил меня, и он ударил – своим острым, жестким, хорошо знакомым кулаком в крупных бородавках. Он попал мне куда-то пониже ребер, и на секунду я лишился дыхания. Потом дыхание снова вернулось ко мне, но я не тронулся, не попытался даже убежать. Отец мой был офицер, он погиб на фронте, и я не мог бежать от маленького, ниже меня калеки на костылях. Но и ответить ударом на удар я не мог. И не мог отвернуться, когда он опять ударил меня, на этот раз в лицо, – я не хотел, чтобы подумали, что я боюсь, когда бьют в лицо, – боюсь боли. Я только смотрел ему в посветлевшие, почти белые от злобы глаза.
Поблизости от дома я спустился в арык, смыл кровь и пятно на рубашке.
В нашем дворике, в тени забора и на террасе, сидели и стояли чужие люди, старики в черных жарких пиджаках что-то бормотали друг другу, сбиваясь на крик, им вторили женщины, азартно мешая русские слова с еврейскими, которых я не понимал, и весь наш двор, наполненный голосами, странно напоминал базар, где ничего не продают и ничего не покупают.
Ко мне оборачивались, меня горестно разглядывали, меня гладили по голове, по плечу, но мне были неприятны эти чужие, жалостливые прикосновения, и я, торопясь, протискивался к входной двери. Там стояла наша хозяйка, она схватила меня за руку и повела к себе за перегородку, отделявшую часть террасы. Здесь на столе горкой лежали огурцы, помидоры, в широкой чашке было молоко.
– Поешь, – сказала она в ответ на мои слова о справке, – отдашь еще, успеешь… Тут евреи приходили, которые молятся и все делают, что надо, так они ничего делать не стали, потому что не ваши евреи, а бухарские… Пошли других искать.
– А какая разница, тетя Нюра? – сказал я.
– Не знаю, – она пододвинула мне чашку, но пить молоко я не стал. Я почувствовал, что есть и пить сейчас было бы изменой, предательством, и пошел в дом.
После яркого полдня здесь казалось темно, горели свечи, их живые огни освещали остроносое лицо деда во впадинах щек, и на подбородке чуть заметно шевелились тени, он лежал на столе, но стол был короток, под ноги ему поставили чемоданы, один на другой. Чемоданы с золотом, подумал я.
Бабушка сидела у изголовья – она была крупная, рослая, а тут показалась мне не похожей на себя – маленькой, сгорбленной старушкой, будто что-то у нее внутри сжалось, ссохлось. Я подошел к ней, протянул справку. Она взяла ее каким-то мягким, безвольным движением и опустила руку на колено, не посмотрев на меня.
– Ты иди, – сказала она тихо. – Нюра тебя покормит… Иди…
Тогда я заплакал.
То есть я только потом понял, что плачу, а тогда я просто подумал – и вспомнил – о чем?.. О том, На Костылях, который ежедневно избивал меня под гогот других мальчишек и которого я никогда не смогу ударить, и так будет долго, всегда; о своем отце, как приезжал он к нам в последний раз, молодой, похудевший, и давал мне подержать, погладить свой наган, – он сам, показалось мне тогда, держал его не очень уверенно; я подумал о бухарских евреях, которые пришли и ушли, потому что мы – «не наши», и снова – о чемоданах с золотом и о том, как я ерзал и ворочался, пытаясь вспугнуть деда, крадущегося к сахару; я подумал о том, как он когда-то приносил мне «гостинчик» – петуха на палочке или свисток, и сажал на свои острые колени, и от него так уютно и крепко пахло табаком. Я подумал о том, какой я жестокий, злой, нехороший человек и как я пришел сюда утром и не плакал, и почти радовался, что дед мой умер. Я просто думал обо всем этом, а потом заметил, что стою у бабушки между колен, вжимаясь лицом в ее плечо, и пытаюсь зажать себе рот, и не могу, не могу, и она гладит меня по голове, и вокруг – люди, какие-то совсем чужие, ненужные люди, и дед на столе, и все, как я слышал и читал где-то, и бабушка гладит меня по голове, как маленького, хотя мне уже десять лет, и говорит тихо:
– А ты поплачь, поплачь…
1968 г.
– Между прочим, – сказал я, вручая рассказ Толмачеву, – здесь все, как было, ни слова выдумки…
На другой день он вернул мне мои странички:
– Хороший рассказ. Что ж ты его не напечатал?
Я не стал повторять всего, о чем говорил прошлый раз. Я спросил:
– А теперь ты его напечатаешь?
– Ну, – сказал он, хлопая себя по карманам в поисках не то сигарет, не то зажигалки, – вот если бы ты написал еще два-три рассказа… Вместе с ними… – Не найдя того, что искал, он принялся вытягивать и внимательно, сосредоточенно осматривать каждый ящик стола, за которым сидел.
– То-то же, – счел я нужным поставить над «и» жирную точку. – Я ведь и не предлагаю. Вдруг кому-нибудь придет в голову обидеться?..
Толмачев с готовностью кивал, поглаживая меня благодарными взглядами. А мне припомнился давний случай.
– Как-то, еще в конце шестидесятых или начале семидесятых, когда журнал редактировал наш «старик», а все сотрудники помещались в одной большой комнате, пришел к нам автор… Ты его знаешь, он и теперь изредка заглядывает, но не в имени суть… Так вот, я сидел у себя за столом, в углу, а он рассказывал анекдоты, вокруг него толпились, слушали, смеялись. И был среди его анекдотов один – протухший уже, вонючий анекдот про трусливого еврея, который просит дать ему кривое ружье, чтобы стрелять из-за угла… Думаю, он меньше всего хотел задеть меня, он вообще не замечал меня в те минуты… Но вот прошло столько лет, а я все несу в себе эту тяжесть, этот грех, то есть – стыд за то, что не подошел к нему и не влепил пощечину! Не за себя… У меня до сих пор такое чувство, будто кто-то прилюдно нагадил на могиле моего отца, а я это видел – и не помешал… Понимаешь?
– Да, – сказал Толмачев, – я тебя понимаю.
А через неделю состоялась новая планерка…
Она застала меня врасплох.
За эту неделю я окончательно успокоился. Мы часто перезванивались с Володей Берденниковым, Руфью Тамариной, Морисом Симашко, Галиной Васильевной Черноголовиной, с Надей Черновой. Мы были связаны между собой – и работой, и дружбой на протяжении многих лет. Новые публикации в газетах, в толстых журналах, в «Огоньке» вызывали однотипную реакцию. Все мы дышали перестройкой, все досадовали на ее медлительность, на то, что многое в жизни остается по-старому, однако все перекрывали надежды и радость – поскольку хоть и поздновато для иных из нас, но все-таки сбывается, казалось, главное, о чем столько лет мечтали… Оценки происходящего были сходными. Отношение к очерку Марины Цветаевой – тоже.
Прошел год со времени декабрьских событий в Алма-Ате. И то, что наблюдалось теперь в Прибалтике, еще кое-где, лишь подтверждало: основное сейчас – перестройка в социальном плане, остальные проблемы – экологические, молодежные и т. д. – будут решены лишь в том случае, если на этом главном направлении добиться победы. Т. е. сломить и заменить административный аппарат, демократизировать общество, изменить ситуацию в экономике. Раздувание, выпячивание второстепенных вопросов ослабит, распылит силы перестройки, сыграет на руку ее противникам. Что же до национальных проблем, то они могут для Горбачева стать тем же, чем для Хрущева оказалась Венгрия, для Брежнева – Чехословакия. Кому-то выгодно сейчас накалять атмосферу, будоражить национальные амбиции. Ничего, кроме внутреннего протеста, не вызывала у меня демонстрация в Москве евреев-отказников: добивайтесь разрешения на выезд, это ваше право, но демонстрировать под лозунгом «Отпусти мой народ!»?.. Это потом я узнал, что слова, с которыми кучка бледных, бородатых, отчаявшихся людей двигались по Арбату, были взяты из Библии, а тогда, увидев их на телевизионном экране, я воспринял вычурно звучавшую фразу как нелепость, да еще и с какой-то злобной начинкой. Что значит – «мой народ»? Он ведь и для меня тоже – «мой»! И почему только «мой народ» следует отпустить? Мой – отпусти, а остальные можно не отпускать, так, что ли?.. Но, помимо всего, почему кто-то решает за весь народ? За меня, в частности? Это моя земля, моя страна, я никуда не намерен уезжать, как и сотни тысяч других евреев! Не собирался раньше, тем более не собираюсь теперь, когда в разгаре перестройка!..
Я и потому еще испытывал неприязнь к своим соплеменникам, которые однажды зимним днем прошли по Новому Арбату под прицелами телекамер, в сопровождении разъяренных дружинников, в конце концов их разогнавших, затолкавших в милицейские фургоны, что всегда считал: ни Марк Поповский, ни Александр Галич, ни Наум Коржавин не подались бы за рубеж, если бы годы застоя не кинули каждого из них в диссиденты, не наложили запрет на публикацию произведений, не набросили на горло удавку, не позволявшую не то что говорить или петь – дышать!.. И не уехал бы Виктор Некрасов, не уехал бы Лев Копелев – для них отъезд почти равнялся самоубийству. А уже сейчас никто бы из них не уехал – наверняка!..
Скоро, думалось мне, назовут их не диссидентами, а буревестниками перестройки… Скоро!.. А пока… Пока такие демонстрации не приведут ни к чему хорошему. Те, кому ничего не известно ни о «борьбе с космополитами», ни о «деле врачей», ни о дискриминации евреев при поступлении на работу, в институты и т. д., могут поддаться на агитацию «патриотов» из «Памяти», решить – да, им не дорога Родина, они все продадут за жирный кусок, обещанный им в Америке… И каково придется тем, кому Америка не нужна?.. Вы не верите в перестройку, не хотите в ней участвовать – ваше дело. Но – не мешайте нам, не становитесь поперек!..
И вот в редакции объявили планерку.
– А теперь обсудим вопрос о публикации Марины Цветаевой, – сказал Толмачев.
Почти вся редакция собралась у него в кабинете, отсутствовали двое – Надя Чернова была в отпуску, Нэля Касенова – на бюллетене.
– Есть разные мнения, – продолжал Толмачев. – Послушаем каждого, я тоже выскажу свое мнение, потом послушаем Герта.
Все было для меня неожиданно: и объявленное внезапно обсуждение, и то, что после всех сотрудников выступит главный редактор, а уж потом дадут слово мне… Такое странное выделение моей персоны меня озадачило. С чего бы это?..
– Кто хочет первый? – пригласил Толмачев. Все молчали.
– Тогда по порядку. Кто у нас крайний слева?.. Киктенко?..
– Я за публикацию, – с готовностью откликнулся молодой (хотя и не так чтобы очень уж молодой) поэт Слава Киктенко, сидевший в углу, полузагороженный книжным шкафом. – Кое-где… если надо… можно сделать в тексте купюры, а вообще – я «за».
Мы никогда не испытывали друг к другу особой симпатии. Но как бы там ни было – бесспорно, что он умница и талант, у него вышло несколько сборников стихов, последний – в Москве. Ему лет тридцать пять, он грузноват, жирок смягчает черты его лица, круглит фигуру. У него темные, слегка сонные глаза с маслянистым блеском, но они холодно и внимательно наблюдают за всем происходящим. Он эрудит, прочитал бездну книг – Фихте, Кант, Федоров… Соловьев, Бердяев, Лосев… И т. д. и т. п.
– У русской прессы издавна существовала одна традиция… – солидно поправив очки, добавляет он. (Ну-ка, – думаю я, – что же это за традиция?.. Вступаться за обиженных? Бросать перчатку правительству? Идти под арест за свои убеждения?..) Там, – продолжает Киктенко, – где по цензурным соображениям делался пропуск, принято было ставить квадратные скобки…
Так-так… Вот в чем, оказывается, славные традиции русской прессы…
– Я тоже – «за», – присоединился к Славе Киктенко новичок в журнале Женя Гусляров, до того работавший в партийной газете.
Ну, что же… В конце концов, и того, и другого принимал в редакцию Толмачев…
– Я, правда, еще не прочитал, не успел, но если все за публикацию, так и я, – как все громко, с напором проговорил Юра Рожицын.
Всегда мне нравилась его грубоватая прямота, нравился он сам – крепкий, высокий сибиряк, шестидесяти примерно лет, фронтовик… Я немало способствовал его появлению в редакции, помогал – иной раз переламывая себя – пробиться на страницы журнала некоторым его довольно посредственным «военным повестям», зная, что лет десять назад написал он отличную вещь из времен коллективизации, и это – главное. Прежний редактор, перед которым я пытался ее отстоять, заклеймил меня «прямым троцкистом» (в те времена не имелось клейма более позорного…), но полгода назад усилиями всей редакции ее удалось напечатать – и Рожицын был наконец по достоинству оценен. Мы проработали в отделе прозы лет шесть-семь, отношения между нами всегда сохранялись товарищеские, чтобы не сказать больше… С недавних пор его выбрали в журнале парторгом.
– Я – «за», – коротко произнес Виктор Мироглов, среди собравшихся – мой самый близкий друг… Я не спрашивал – после того разговора – удалось ли ему прочесть Цветаеву и что он думает по ее поводу. Теперь я это знал.
– «За», – с победной ухмылкой простуженным тенорком бросил Карпенко, не так давно вернувшийся из Москвы после литературных курсов и два-три месяца работающий в редакции, в отделе критики.
Естественно… Да от него я ничего другого не ждал.
– Я за то, чтобы печатать Цветаеву всю, целиком и полностью! – четко, чуть не по слогам произнес Валерий Антонов, глядя на меня в упор. Его глаза, налитые сухим огнем, меня поразили – столько было в них злобного восторга, такая радость от возможности наконец-то излить, выплеснуть мне в лицо затаенную, скопленную в душе ненависть… Я чуть не вскинул руку, загораживаясь от режущего, слепящего сияния.
Все, все я мог предположить, но чтобы Антонов… Тот самый Валерий Антонов, с которым столько лет, считал я, связывает меня несокрушимая, взаимная, искренняя приязнь… Чтобы и он…
Ну, нет, – подумал я, – много вы на себя берете, ребятки…
И когда Ростислав Петров, наш ответственный секретарь, с которым, как и с Антоновым, соединяли меня долгие годы работы и совместно пережитого, когда он, замыкая круг, в своей обычной, раздумчивой манере, не отрывая опущенных глаз от разложенных на столу бумаг, сказал, что тоже полагает – надо, надо печатать… Только, возможно, придется произвести некоторые сокращения… – кроткий, укоризненный взгляд в мою сторону… – тут я не стал дожидаться, пока он кончит журчать и начнет высказываться Толмачев.
– Нет уж, – сказал я, – уж вы простите меня, Геннадий Иванович, но к чему нарушать привычный порядок…
Он оказался как бы отстраненным на время мною от дирижирования послушным оркестром.
– Я против публикации в любом виде, – сказал я, отчетливо сознавая в тот момент, что не проблема публикации здесь обсуждается, а нечто другое, мало связанное с Мариной Цветаевой. – Мое мнение – вещь эта антисемитская. Публикация ее в массовом журнале сейчас, когда национальные вопросы так обострены и болезненны, противоречит духу перестройки. Апелляция к черносотенству не вяжется с позицией, которую до сих пор занимал журнал. Из этого следует, что если все – за публикацию, а я один – против, то дальше работать в редакции я не могу. Не могу и не хочу. Но учтите: эта публикация будет на руку «Памяти»…