Избранное (сборник) Нагибин Юрий
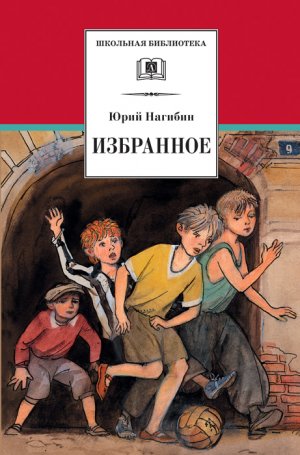
Рассказ о себе[1]
Я родился 3 апреля 1920 года в Москве, возле Чистых прудов, в семье служащего. Когда мне было восемь лет, мои родители расстались, и моя мать вышла замуж за писателя Я. С. Рыкачева.
Я обязан матери не только прямо унаследованными чертами характера, но основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности, вложенными в меня в раннем детстве и укрепленными всем последующим воспитанием. Эти качества: уметь ощущать драгоценность каждой минуты жизни, любовь к людям, животным и растениям.
В литературном обучении я всем обязан отчиму. Он научил меня читать только хорошие книги и думать о прочитанном.
Мы жили в коренной части Москвы, в окружении дубовых, кленовых, вязовых садов и старинных церквей. Я гордился своим большим домом, выходившим сразу в три переулка: Армянский, Сверчков и Телеграфный.
И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века: инженер или ученый в точных науках, и усиленно пичкали меня книгами по химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их собственного успокоения я завел пробирки, колбу, какие-то химикалии, но вся моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил гуталин ужасного качества. Я не ведал своего пути и мучился этим.
Зато все уверенней чувствовал себя на футбольном поле. Тогдашний тренер «Локомотива» француз Жюль Лимбек предсказывал мне большое будущее. Он обещал ввести меня к восемнадцати годам в дубль мастеров. Но моя мать не хотела смириться с этим. Видимо, под ее нажимом отчим все чаще убеждал меня что-нибудь написать. Да, вот так искусственно, не по собственному неотвратимому позыву, а под давлением извне началась моя литературная жизнь.
Я написал рассказ о лыжной прогулке, которую мы предприняли всем классом в один из выходных дней. Отчим прочел и грустно сказал: «Играй в футбол». Конечно, рассказ был плох, и все же я с полным основанием считаю, что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не придумывать, а идти впрямую от жизни – или текущей, или минувшей.
Я отлично понял отчима и не пытался оспорить уничтожающую оценку, скрывавшуюся за его хмурой шуткой. Но писание захватило меня. С глубоким удивлением обнаружил я, как от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня и черты хорошо знакомых людей странно углубились и расширились все связанные с немудреной прогулкой переживания и наблюдения. Я по-новому увидел моих школьных товарищей и нежданно сложный, тонкий и запутанный узор их отношений. Оказывается, писание – это постижение жизни.
И я продолжал писать, упорно, с мрачным ожесточением, и моя футбольная звезда сразу закатилась. Отчим доводил меня до отчаяния своей требовательностью. Порой я начинал ненавидеть слова, но оторвать меня от бумаги было делом мудреным.
Все же, когда я закончил школу, мощная домашняя давильня снова пришла в действие, и вместо литфака я оказался в 1-м Московском медицинском институте. Сопротивлялся я долго, но не мог устоять перед соблазнительным примером Чехова, Вересаева, Булгакова – врачей по образованию.
По инерции я продолжал старательно учиться, а учеба в медвузе – труднейшая. Ни о каком писании теперь и речи быть не могло. Я с трудом дотянул до первой сессии, и вдруг посреди учебного года открылся прием на сценарный факультет киноинститута. Я рванулся туда.
ВГИК я так и не кончил. Через несколько месяцев после начала войны, когда последний вагон с институтским имуществом и студентами ушел в Алма-Ату, я подался в противоположную сторону. Довольно порядочное знание немецкого языка решило мою военную судьбу. Политическое управление Красной армии направило меня в седьмой отдел Политического управления Волховского фронта. Седьмой отдел – это контрпропаганда.
Но прежде чем говорить о войне, расскажу о двух своих литературных дебютах. Первый, устный, совпал по времени с моим переходом из медицинского во ВГИК.
Я выступил с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе писателей.
А через год в журнале «Огонек» появился мой рассказ «Двойная ошибка»; характерно, что он был посвящен судьбе начинающего писателя. Мартовскими, грязно заквашенными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и спрашивал: нет ли последнего рассказа Нагибина?
Первая публикация светится в памяти ярче, чем первая любовь.
…На Волховском фронте мне пришлось не только выполнять свои прямые обязанности контрпропагандиста, но и сбрасывать листовки на немецкие гарнизоны, и выбираться из окружения под печально знаменитым Мясным бором, и брать (так и не взяв) «господствующую высоту». На протяжении всего боя с основательной артиллерийской подготовкой, танковой атакой и контратакой, стрельбой из личного оружия я тщетно силился разглядеть эту высоту, из-за которой гибло столько людей. Мне кажется, что после этого боя я стал взрослым.
Впечатлений хватало, жизненный опыт скапливался не по крупицам. Каждую свободную минуту я кропал коротенькие рассказы, и сам не заметил, как их набралось на книжку.
Тоненький сборник «Человек с фронта» вышел в 1943 году в издательстве «Советский писатель». Но еще до этого меня заочно приняли в Союз писателей. Произошло это с идиллической простотой. На заседании, посвященном приему в Союз писателей, Леонид Соловьев прочел вслух мой военный рассказ, а А. А. Фадеев сказал: «Он же писатель, давайте примем его в наш Союз…»
В ноябре 1942 года уже на Воронежском фронте мне крупно не повезло: дважды подряд меня засыпало землей. В первый раз во время рупорной передачи из ничьей земли, второй раз по пути в госпиталь, на базаре маленького городка Анны, когда я покупал варенец. Откуда-то вывернулся самолет, скинул одну-единственную бомбу, и я не попробовал варенца.
Из рук врачей я вышел с белым билетом – путь на фронт был заказан даже в качестве военного корреспондента. Мать сказала, чтобы я не оформлял инвалидности. «Попробуй жить, как здоровый человек». И я попробовал…
На мое счастье, газета «Труд» получила право держать трех штатских военкоров. Я работал в «Труде» до конца войны. Мне довелось побывать в Сталинграде в самые последние дни битвы, когда «дочищали» Тракторозаводской поселок, под Ленинградом и в самом городе, затем при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и на других участках войны. Ездил я и в тыл, видел начало восстановительных работ в Сталинграде и как там собрали первый трактор, как осушали шахты Донбасса и рубили обушком уголек, как трудились волжские портовые грузчики и как вкалывали, сжав зубы, ивановские ткачихи…
Все виденное и пережитое тогда неоднократно возвращалось ко мне много лет спустя в ином образе, и я опять писал о Волге и Донбассе военной поры, о Волховском и Воронежском фронтах и, наверное, никогда не рассчитаюсь до конца с этим материалом.
После войны я занимался в основном журналистикой, много ездил по стране, предпочитая сельские местности.
К середине 1950-х я разделался с журналистикой и целиком отдался чисто литературной работе. Выходят рассказы, добро замеченные читателями, – «Зимний дуб», «Комаров», «Четунов сын Четунова», «Ночной гость», «Слезай, приехали». В критических статьях появились высказывания, что я наконец-то приблизился к художнической зрелости.
В последующую четверть века у меня вышло много сборников рассказов: «Рассказы», «Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога», «Последний штурм», «Перед праздником», «Ранней весной», «Друзья мои, люди», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Чужое сердце», «Переулки моего детства», «Ты будешь жить», «Остров любви», «Берендеев лес» – перечень далеко не полный. Обратился я и к более крупному жанру. Кроме повести «Трудное счастье», в основе которой лежит рассказ «Трубка», я написал повести: «Павлик», «Далеко от войны», «Страницы жизни Трубникова», «На кордоне», «Перекур», «Встань и иди» и другие.
Один из ближайших моих друзей взял меня однажды на утиную охоту. С тех пор в мою жизнь прочно вошла Мещера, мещерская тема и мещерский житель, инвалид Отечественной войны, егерь Анатолий Иванович Макаров. Я написал о нем книгу рассказов и сценарий художественного фильма «Погоня», но, помимо всего, я просто очень люблю этого своеобычного, гордого человека и ценю его дружбу.
Ныне мещерская тема, а правильнее сказать, тема «природа и человек» осталась у меня лишь в публицистике – не устаю надсаживать горло, взывая о снисхождении к изнемогающему миру природы.
О своем Чистопрудном детстве, о большом доме с двумя дворами и винными подвалами, о незабвенной коммунальной квартире и ее населении я рассказал в циклах «Чистые пруды», «Переулки моего детства», «Лето», «Школа». Последние три цикла составили «Книгу детства».
Мои рассказы и повести – это и есть моя настоящая автобиография.
В 1980–1981 годах были подведены предварительные итоги моей работы новеллиста: издательство «Художественная литература» выпустило четырехтомник, составленный только из рассказов и нескольких маленьких повестей. Вслед за тем я собрал под одной обложкой свои критические статьи, размышления о литературе, о любимом жанре, о товарищах по оружию, о том, что строило мою личность, а строили ее люди, время, книги, живопись и музыка. Название сборника – «Не чужое ремесло». Ну а дальше я продолжал писать о современности и о прошлом, о своей стране и чужих землях – сборники «Наука дальних странствий», «Река Гераклита», «Поездка на острова».
Вначале я был рабски предан Его Величеству Факту, затем пробудилась фантазия, и я перестал цепляться за зримую очевидность явлений, теперь оставалось отбросить сковывающие рамки времени. Протопоп Аввакум, Марло, Тредиаковский, Бах, Гёте, Пушкин, Тютчев, Дельвиг, Аполлон Григорьев, Лесков, Фет, Анненский, Бунин, Рахманинов, Чайковский, Хемингуэй – вот новые герои. Чем объясняется подобный, довольно пестрый подбор имен? Стремлением воздать Богу Богово. В жизни многим недодается по заслугам, особенно же творцам: поэтам, писателям, композиторам, живописцам. Их убивают не только на дуэлях, как Марло, Пушкина, Лермонтова, но и более медленным и мучительным способом – непониманием, холодом, слепотой и глухотой. Художники в долгу перед обществом – это общеизвестно, но и общество в долгу перед теми, кто доверчиво несет ему свое сердце. Антон Рубинштейн говорил: «Творцу нужна похвала, похвала и похвала». Но как мало похвал выпало при жизни на долю большинства из названных мною творцов!
Конечно, далеко не всегда мною движет желание компенсировать ушедшего творца за недополученное при жизни. Порой совсем иные мотивы заставляют меня обращаться к великим теням. Пушкин, скажем, уж никак не нуждается в чьем-либо заступничестве. Просто однажды я крепко усомнился в пресловутом легкомыслии Пушкина-лицеиста, в безотчетности его молодого стихотворчества. Я всем нутром ощутил, что Пушкин рано постиг свое избранничество и принял на себя непосильную для других ношу. А когда я писал о Тютчеве, мне хотелось разгадать тайну создания одного из самых личных и горестных его стихотворений…
Вот уже долгие годы я много времени отдаю кино. Начал я с самоэкранизаций, это был период учебы, так и не завершенной в киноинституте, освоение нового жанра, затем стал работать над самостоятель ными сценариями, к ним относятся: дилогия «Председатель», «Директор», «Красная палатка», «Бабье царство», «Ярослав Домбровский», «Чайковский» (в соавторстве), «Блистательная и горестная жизнь Имре Кальмана» и другие. К этой работе я пришел не случайно. Все мои рассказы и повести – локальны, а мне захотелось пошире охватить жизнь, чтобы зашумели на моих страницах ветры истории и народные массы, чтобы переворачивались пласты времени и совершались большие протяженные судьбы.
Конечно, я работал не только для «крупномасштабного» кино. Я рад своему участию в таких фильмах, как «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Девочка и эхо», «Дерсу Узала» (премия «Оскар»), «Поздняя встреча»…
Ныне я открыл для себя еще одну интересную область работы: учебное телевидение. Я сделал для него ряд передач, которые сам же и вел, – о Лермонтове, Лескове, С. Т. Аксакове, Иннокентии Анненском, А. Голубкиной, И.-С. Бахе.
Так что же главное в моей литературной работе: рассказы, драматургия, публицистика, критика? Конечно, рассказы. Я и впредь основное внимание намерен отдавать малой прозе.
1986
Ю. М. Нагибин
Рассказы
Зимний дуб
Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.
До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.
Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи, и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе – всюду ее знают, ценят и называют уважительно: Анна Васильевна.
Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета, сосны правобережного леса легли рядком по скосу левого берега, ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.
Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» – с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминешься, а шагни в сторону – мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской учительнице.
Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.
– С добрым утром, Анна Васильевна! – Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой.
– Да будет вам! Сейчас же наденьте – такой морозище!..
Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани; полушубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.
– Как Леша-то мой, не балует? – почтительно спросил Фролов.
– Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, – в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.
Фролов усмехнулся:
– Лешка у меня смирный, весь в отца!
Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей дорогой.
Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе, за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребятишки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.
– Здравствуйте, Анна Васильевна! – звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.
Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.
– Сегодня мы продолжим разбор частей речи…
Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины.
Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи… существительным называется часть речи…» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..
Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:
– Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это или что это? Например: «Кто это?» – «Ученик». Или: «Что это?» – «Книга».
– Можно?
В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.
– Ты опять опоздал, Савушкин? – Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.
Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, – наверно: «Что она объясняет?..»
Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладица, омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась – то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» – вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», – самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор…
– Вам все понятно? – обратилась Анна Васильевна к классу.
– Понятно!.. Понятно!.. – хором ответили дети.
– Хорошо. Тогда назовите примеры.
На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:
– Кошка…
– Правильно, – сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка».
И тут прорвало:
– Окно!.. Стол!.. Дом!.. Дорога!..
– Правильно, – говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры.
Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо, трактор, колодец, скворечник…
А с задней парты, где сидел толстый Васята, тоненько и настойчиво неслось:
– Гвоздик… гвоздик… гвоздик…
Но вот кто-то робко произнес:
– Город…
– Город – хорошо! – одобрила Анна Васильевна.
И тут полетело:
– Улица… Метро… Трамвай… Кинокартина…
– Довольно, – сказала Анна Васильевна. – Я вижу, вы поняли.
Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васята все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:
– Зимний дуб!
Ребята засмеялись.
– Тише! – Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.
– Зимний дуб! – повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы.
Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:
– Почему зимний? Просто дуб.
– Просто дуб – что! Зимний дуб – вот это существительное!
– Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать! «Дуб» – имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.
– Вот тебе и «зимний дуб»! – хихикнул кто-то на задней парте.
Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы.
«Трудный мальчик», – подумала Анна Васильевна.
Урок продолжался…
– Садись, – сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.
Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.
– Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?
– Просто не знаю, Анна Васильевна. – Он по-взрослому развел руками. – Я за целый час выхожу.
Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.
– Ты живешь в Кузьминках?
– Нет, при санатории.
– И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса.
– А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, – сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.
– Напрямик, а не напрямки, – привычно поправила Анна Васильевна.
Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитростное. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы всё и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»
– Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.
– А у меня, Анна Васильевна, только мама, – улыбнулся Савушкин.
Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила кроме Коли еще троих детей.
Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же она должна увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже неприятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе.
– Придется мне сходить к твоей матери.
– Приходите, Анна Васильевна. Вот мама обрадуется!
– К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает?
– Нет, она во второй смене, с трех…
– Ну и прекрасно! Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.
…Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они ступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, очарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.
Кругом белым-бело, деревья до самого малого, чуть приметного сучочка убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.
Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, поднимаясь над ручьем, вилась по отвесной круче.
Иногда деревья расступались, открывая солнечные, веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.
– Сохатый прошел! – словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. – Только вы не бойтесь, – добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса, – лось – он смирный.
– А ты его видел? – азартно спросила Анна Васильевна.
– Самого?.. Живого?.. – Савушкин вздохнул. – Нет, не привелось. Вот орешки его видел.
– Что?
– Катышки, – застенчиво пояснил Савушкин.
Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрым глазком живая вода.
– А почему он не весь замерз? – спросила Анна Васильевна.
– В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?
Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.
– Тут этих ключей страсть как много, – с увлечением говорил Савушкин. – Ручей-то и под снегом живой…
Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.
Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив – сразу огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.
– Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!
– Что вы, Анна Васильевна! Это я сук раскачал, вот и бегает тень…
Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.
Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.
А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.
Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.
Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.
– Так вот он, зимний дуб!
Он весь блестел мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на нее с каждой ветки. И дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в глубоком своем зимнем сне источал он вешний аромат цветения.
Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.
– Анна Васильевна, поглядите!..
Он с усилием отвалил глыбу снега, облепленную понизу землей с остатками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.
– Вон как укутался! – Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом.
Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона; ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.
– Притворяется, – засмеялся Савушкин, – будто мертвая! А дай солнышку поиграть, заскачет ой-ой как!
Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:
– Ой, мы уже не застанем маму!
Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет – четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:
– Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.
Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.
«Боже мой! – вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. – Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.
И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от Кощеева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.
– Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку! Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.
– Вам спасибо, Анна Васильевна!
Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку:
– Я провожу вас…
– Не нужно, Савушкин, я одна дойду.
Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне:
– Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь – с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.
– Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.
Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежке, сын погибшего за Родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.
Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.
Старая черепаха
Вася втянул воздух, округлив ноздри, и до самой глубины его проняло крепким, душным запахом зверя. Он поднял глаза. Над дверью висела небольшая вывеска, на ней пожухлыми от южного солнца красками было выведено: «Зоомагазин». За пыльным стеклом витрины мальчик с трудом разглядел пыльное чучело длинноногой клювастой птицы.
Как плохо мы знаем улицы, по которым ходим изо дня в день! Сколько раз ходил Вася на пляж этой самой улицей, знал там каждый дом, фонарь, каштан, витрину, каждую выщерблину тротуара и выбоину мостовой, и вдруг обнаружилось, что самого главного на этой улице он не приметил.
Но думать об этом не стоит, скорее туда, в этот чудесный, таинственный полумрак…
Мать с привычной покорностью последовала за сыном. Тесный, темный магазин был необитаем, но, словно покинутая берлога, хранил живой, теплый дух недавних жильцов. На прилавке лежала горка сухого рыбьего корма, под потолком висели пустые птичьи клетки, а посреди помещения стоял подсвеченный тусклой электрической лампочкой аквариум, устланный ракушками; длинные, извилистые водоросли, слегка подрагивая, обвивали осклизлый каменный грот. Все это подводное царство было отдано в безраздельное владение жалкому, похожему на кровеносный сосудик мотылю, который тихонько извивался, приклеившись к ребристой поверхности ракушки.
Вася долго стоял у аквариума, словно надеясь, что мертвое великолепие водяного царства вдруг оживет, затем понуро направился в темную глубь магазина. И тут раздался его ликующий вопль:
– Мама, смотри!
Мать сразу все поняла: такой же самозабвенный вскрик предшествовал появлению в доме аквариума с причудливыми рыбками, клеток с певчими птицами, коллекции бабочек, двухколесного велосипеда, ящика со столярными инструментами…
Она подошла к сыну. В углу магазина, на дне выстланного соломой ящика, шевелились две крошечные черепашки. Они были не больше Васиного кулака, удивительно новенькие и чистенькие. Черепашки бесстрашно карабкались по стенам ящика, оскальзывались, падали на дно и снова, проворно двигая светлыми лапками с твердыми коготками, лезли наверх.
– Мама! – проникновенно сказал Вася, он даже не добавил грубого слова «купи».
– Хватит нам возни с Машкой, – устало отозвалась мать.
– Мама, да ты посмотри, какие у них мордочки!
Вася никогда ни в чем не знал отказа, ему все давалось по щучьему велению. Это хорошо в сказке, по для Васи сказка слишком затянулась. Осенью он пойдет в школу. Каково придется ему, когда он откроет, что заклинание утратило всякую силу и жизнь надо брать трудом и терпением? Мать отрицательно покачала головой:
– Нет, три черепахи в доме – это слишком!
– Хорошо, – сказал Вася с вызывающей покорностью. – Если так, давай отдадим Машку, она все равно очень старая.
– Ты же знаешь, это пустые разговоры.
Мальчик обиженно отвернулся от матери и тихо произнес:
– Тебе просто жалко денег…
«Конечно, он маленький и не повинен ни в дурном, ни в хорошем, – думала мать, – надо только объяснить ему, что он не прав». Но вместо спокойных, мудрых слов поучения она сказала резко:
– Довольно! Сейчас же идем отсюда!
Для Васи это было странное утро. На пляже каждый камень представлялся ему маленькой золотистой черепашкой. Морские медузы и водоросли, касавшиеся его ног, когда он плавал у берега, также были черепашками, которые ластились к нему, Васе, и словно напрашивались на дружбу. В своей рассеянности мальчик даже не ощутил обычной радости купания, равнодушно вышел из воды по первому зову матери и медленно побрел за ней следом. По дороге мать купила его любимый розовый виноград и протянула тяжелую гроздь, но Вася оторвал одну только ягоду и ту позабыл съесть. У него не было никаких желаний и мыслей, кроме одной, неотвязной, как наваждение, и, когда они пришли домой, Вася твердо знал, что ему делать.
Днем старая черепаха всегда хоронилась в укромных местах: под платяным шкафом, под диваном, уползала в темный, захламленный чулан. Но сейчас Васе повезло: он сразу обнаружил Машку под своей кроватью.
– Машка! Машка! – позвал он ее, стоя на четвереньках, но темный круглый булыжник долго не подавал никаких признаков жизни.
Наконец в щели между щитками что-то зашевелилось, затем оттуда высунулся словно бы птичий клюв и вслед за ним вся голая, приплюснутая голова с подернутыми роговой пленкой глазами мертвой птицы. По сторонам булыжника отросли куцые лапы. И вот одна передняя лапа медленно, будто раздумывая, поднялась, слегка вывернулась и со слабым стуком опустилась на пол. За ней, столь же медленно, раздумчиво и неуклюже заработала вторая, и минуты через три Машка выползла из-под кровати.
Вася положил на пол кусочек абрикоса. Машка вытянула далеко вперед морщинистую, жилистую шею, обнажив тонкие, также изморщиненные перепонки, какими она прикреплялась к своему панцирю, по-птичьи клюнула дольку абрикоса и разом сглотнула. От второй дольки, предложенной Васей, Машка отвернулась и поползла прочь. В редкие минуты, когда Машке приходила охота двигаться, ее вытаращенные глаза не замечали препятствий, сонным и упрямым шагом, мерно переваливаясь, шла она все вперед и вперед, стремясь в какую-то, ей одной ведомую даль.
Не было на свете более ненужного существа, чем Машка, но и она на что-то годилась: на ней можно было сидеть и даже стоять. Вася потянулся к Машке и прижал ее рукой; под его ладонью она продолжала скрести пол своими раскоряченными лапами. Ее панцирь, состоящий из неровных квадратиков и ромбов, весь словно расшился от старости, на месте швов пролегли глубокие бороздки, и Вася почему-то раздумал на нее садиться. Он поднял Машку с пола и выглянул в окно. Мать лежала в гамаке, ее легкая голова даже не примяла подушки, книга, которую она читала, выпала из ее опущенной вниз руки. Мать спала. Вася спрятал Машку под рубаху и быстро вышел на улицу.
Над поредевшим, полусонным от жары базаром высоко и печально звучал детский голос:
– Черепаха! Продается черепаха!
Васе казалось, что он стоит так уже много-много часов; прямые, жестокие лучи солнца пекли его бедную неприкрытую голову, пот стекал со лба и туманил зрение, каменно-тяжелая Машка больно оттягивала руки. Во всем теле ощущал он томительную, ломящую слабость, его так и тянуло присесть на пыльную землю.
– Черепаха! Продается черепаха!
Вася произносил эти слова все глуше, он словно и боялся и хотел быть услышанным. Но люди, занятые своим делом, равнодушно проходили мимо него; они не видели ничего необычного в том, что для Васи было едва ли не самым трудным испытанием за всю его маленькую жизнь. Если бы вновь очутиться в родном, покинутом мире, где ему так хорошо жилось под верной маминой защитой!
Но едва только Вася допускал себя до этой мысли, как родной дом сразу утрачивал для него всю прелесть, становился немилым и скучным, ведь тогда пришлось бы навсегда отказаться от веселых золотистых черепашек.
– Ого, черепаха! Вот это-то мне и надо!






