Темная харизма Адольфа Гитлера. Ведущий миллионы в пропасть Рис Лоуренс
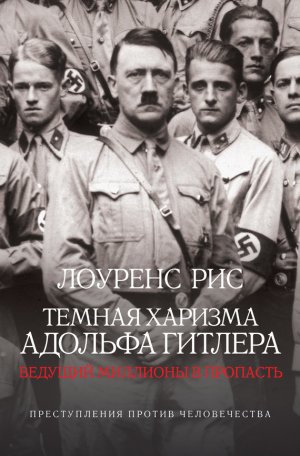
Однако неконтролируемые эмоциональные всплески Гитлера все больше убеждали европейских политиков — как в свое время Далеруса — в том, что он «страдает психической неуравновешенностью». К этому времени Невил Гендерсон, английский посол в Берлине, уже окончательно проникся мыслью, что Гитлер «не в себе» и уже «перешел грань, отделяющую его от безумия»‹79›. Однако, несмотря на это, Гитлер оставался неоспоримым лидером страны. Даже Геринг с невозмутимым спокойствием выслушал тираду, которой Гитлер разразился перед Далерусом.
Чтобы понять причины, по которым Геринг — как и множество других немцев — продолжал поддерживать Гитлера в это судьбоносное время, полезно проанализировать его опыт общения с Гитлером в качестве лидера. Прежде всего Геринг много лет слушал страстные речи Гитлера. И если иностранцам могло показаться, что тот «выжил из ума», Геринг и другие члены нацистской элиты зачастую были не способны заметить, где именно пролегает черта, отделяющая страсть от опасной неуравновешенности. Манфред фон Шредер, к примеру, был в то время молодым немецким дипломатом и членом нацистской партии и мог наблюдать поведение Гитлера в рейхсканцелярии непосредственно после того, как президента Гаху заставили передать в руки Германии чешские земли. Гитлер «не замолкал ни на минуту, диктуя двум секретарям одновременно»‹80›. В то время Шредер счел подобное гиперактивное поведение неотъемлемой чертой «гения в работе», но теперь, «оглядываясь назад, я четко вижу, как он садился, вскакивал и снова садился, — и думаю, что он вел себя как отъявленный психопат». Харизматичный «гений» и «отъявленный психопат» — так охарактеризовал Гитлера один и тот же человек, и лишь время и опыт заставили его изменить мнение.
Еще одним расхожим мнением, которое могло утешить сторонников Гитлера в минуты сомнений и тревог, было то, что Гитлер слишком восприимчив к советам своих агрессивных и необузданных советников. Как в свое время, во время Бамбергской партийной конференции в 1926 году, Геббельс решил, что Гитлер раскритиковал планы Грегора Штрассера, попав под влияние нацистских лидеров Баварии, так и сейчас немало людей обвиняло Риббентропа, воинственного министра иностранных дел, в том, что Германия на всех парах несется к войне.
По словам Манфреда фон Шредера, в Министерстве иностранных дел Германии теперь задавались следующим вопросом: «Как нам избавиться от Риббентропа и получить прямой доступ к Гитлеру?» Удивительно, как мысль о подверженности Гитлера постороннему влиянию могла уживаться с непоколебимой верой, что Гитлер — в конечном итоге — лучше всех знает, что нужно Германии. И опять-таки эта вера в лидера опиралась на непоколебимую уверенность фюрера в себе, которую Гитлер постоянно демонстрировал, а также на том, что все его недавние внешнеполитические авантюры завершились очень удачно для Германии. «Самоуверенность Гитлера сокрушала любые мои сомнения, — писал Альберт Шпеер. — В те дни он виделся мне эдаким античным мифическим героем, который без колебаний с полным осознанием своей силы брался за любые, даже самые невообразимые предприятия и неизменно выходил из них победителем»‹81›.
Невил Гендерсон также подозревал, что ключ к успеху Адольфа Гитлера кроется в его безграничной самоуверенности, подкрепляемой интуитивным пониманием того, что следует делать дальше. Гендерсон, как и Далерус, никогда не считал Гитлера харизматичной личностью, и все время своего пребывания в Берлине недоумевал: «…в чем же заключается величие Гитлера, каким образом удается ему преуспеть в роли бесспорного лидера великого народа и в чем заключается скрытый — для меня — источник его влияния на последователей и их безграничного повиновения ему?»‹82› Одним из возможных объяснений, как обнаружил Гендерсон, была вера последователей Гитлера в его интуицию. «Я не уставал спрашивать у приближенных Гитлера — в чем его главное сила? И все в один голос отвечали: главное в нем — чутье (Fingerspitzengefuehl — способность ощущать кончиками пальцев)»‹83›.
Этой вере в лидера сопутствовало убеждение многих, что Гитлеру «суждено» — предопределено свыше — повести Германию туда, куда он считает нужным. «Во благо это или во зло, но судьба Германии — в руках этого человека, Гитлера», — писал Вернер фон Фрич после того, как его вынудили уйти в отставку с поста главнокомандующего сухопутными войсками. Фрич нисколько не сомневался, куда именно ведет Гитлер Германию, и предупреждал, что он «затащит нас всех» в «пропасть»‹84›.
Несмотря на это, летом 1939 года многие немцы все еще полагали, что Гитлер сможет не допустить перерастания войны с Польшей в глобальный конфликт. «Мы уже видели немало примеров того, как западные державы закрывают глаза на действия Гитлера — и Мюнхен, и оккупация Праги»‹85›, — так говорил Ульрих де Мезьер, тогда молодой армейский офицер. И когда стало известно о подписании германо-советского пакта о ненападении 24 августа 1939 года, казалось, Гитлер, вновь, из ничего, добился невероятного внешнеполитического успеха. Теперь казалось, что Германия — что бы ни случилось — не окажется втянутой в войну на два фронта, зажатая в тиски между Великобританией и Францией на западе и Россией на востоке, как это случилось за двадцать пять лет до того.
Силы вермахта вторглись в Польшу 1 сентября 1939 года, а спустя два дня Великобритания и Франция объявили Германии войну. Единственное, что смог сказать по этому поводу Ульрих де Мезьер: «С точностью предсказать [что теперь произойдет] было никак невозможно»‹86›.
Часть третья
РИСК И НАГРАДА
Глава 12
Великая авантюра
Несмотря на десятилетия исторических исследований, в массовом сознании по-прежнему сохранились мифы о Гитлере и нацизме. Один из наиболее распространенных — убеждение в том, что победа Германии над Францией в 1940-м стала возможной благодаря лучшей вооруженности немецких войск — в частности, благодаря тому, что вермахт располагал большим числом танков, которые мог бросить в прорыв согласно примененной немцами стратегии блицкрига. Однако дело обстояло иначе. В действительности же Германия располагала меньшим количеством танков, чем силы союзников на Западном фронте, и изучение судьбоносного отрезка времени от начала войны до поражения французов, между сентябрем 1939 года и летом 1940-го, выявило намного более сложный комплекс взаимосвязанных причин, обеспечивших успех Гитлеру, в котором отнюдь не последнюю роль сыграла его личная харизма. Проницательность Гитлера, его уверенность, его ораторское мастерство, его способность выпустить на волю безграничные амбиции своих приверженцев и создать атмосферу невероятного воодушевления из-за возможности собственноручно «писать» историю — все эти факторы способствовали победе Германии.
Прежде всего то было время великой авантюры. И здесь мы снова сталкиваемся с еще одним популярным мифом, согласно которому самым рискованным шагом, на который когда-либо пошел Гитлер, было его решение напасть на Советский Союз. Однако на деле его решение вторгнуться во Францию было куда более рискованным — настолько рискованным, что немецкое наступление на Западном фронте весной 1940 года считается величайшей военной авантюрой в истории. Всем казалось, что это нападение должно обернуться неудачей‹1›. Мало того что Гитлеру пришлось убеждать своих генералов послушать его и наступать на западе, ему приходилось еще и решать, какой характер будет носить война против Польши, и какие формы приобретет немецкая оккупация.
Однако в военном разгроме Польши, на который Германии понадобилось всего несколько недель, нет ничего удивительного. Хоть Варшава и пала только 28 сентября, судьба Польши стала очевидной еще за 11 дней до этого, когда Красная Армия, после консультации с немцами, вошла в Восточную Польшу, чтобы успеть захватить свою долю польской территории. Оказавшись между Гитлером и Сталиным, которые в соответствии с секретным протоколом к советско-германскому договору о ненападении сообща принимали участие в расчленении Польши, поляки не имели никаких шансов выстоять.
Однако если военные действия носили откровенный характер, то о политике нацистов на землях оккупированной Польши этого сказать нельзя. Такой немецкий генерал, как Йоханнес Бласковиц, во время допроса в 1947 году все еще сохранял те же чувства, которые он испытывал во время польской кампании, что «война, которая должна была нивелировать политические и экономические потери, последовавшие за созданием Данцигского коридора, и уменьшить угрозу, которой подвергалась изолированная от Германии Восточная Пруссия, окруженная Польшей и Литвой, считалась священным долгом, хоть и печальной необходимостью»‹2›. Фактически он заявлял, что сражался за то, чтобы восстановить справедливость, «растоптанную Версальским договором».
Война за такие цели пользовалась искренней поддержкой этнических немцев, которые в конце Первой мировой войны остались проживать на землях, что поколениями принадлежали немцам, а по итогам войны отошли Польше. «Для нас, тех, кто там жил, Версальский договор оказался нелегким испытанием. Он означал, что мы фактически были отрезаны от рейха», — рассказывает Карл Бликер-Кользат, происходивший из видной немецкой семьи, проживавшей на территории Западной Польши. Он надеялся, что Гитлер создаст новую Германию, в состав которой вольются все этнические немцы. «Когда по радио шли прямые трансляции выступлений Гитлера, все бросали свои дела и внимали его словам. Слушая его речи, мы верили, что он творит чудо; и мы считали, что он вознесет рейх к новым высотам, и были полны восторга от его достижений…Все были завороженные, пока не заглянешь, что творится за кулисами — а простые люди обычно за кулисы не заглядывают — вот и думаешь, бог ты мой, этот человек действительно чего-то добивается — вот это настоящий немец»‹3›.
Таким образом, для немцев, таких как Бласковиц, Кользат, и миллионов других это была не «идеологическая» война, а часть обещания Гитлера вернуть немецкие земли и честь после всех унижений Версаля. Поскольку все они пребывали под воздействием харизмы Гитлера, их поддержка во многом строилась на общности цели. Однако вскоре стало понятно, что они ошибались. Это была отнюдь не обычная война, направленная на возврат утерянных территорий. По словам профессора Мэри Фулбрук, которая специально занималась изучением этого исторического периода: «Вторжение в Польшу в сентябре 1939 года уже в самые первые недели войны сопровождалось массовыми зверствами по отношению к гражданскому населению, к еврейским женщинам, детям и старикам… Только в первую неделю войны в Восточной Верхней Силезии уже сжигались синагоги с людьми в синагогах. Кровавым расправам подверглись мужчины, женщины, дети, старики во всех домах вокруг синагоги в Бендзине (8 сентября 1939-го). Это было массовое зверство… речь идет о сотнях мирных граждан, которых сожгли заживо или пристрелили, когда они пытались бежать или прыгали в реку, чтобы потушить огонь, — и тогда в них стреляли, стоило им только высунуть из воды голову, чтобы глотнуть воздуха»‹4›. Хотя подобные действия и уступали в своих масштабах массовым убийствам, которыми сопровождалось немецкое вторжение в Советский Союз летом 1941 года, они, по словам Фулбрук, были «тем не менее проявлениями насилия, которые не являются нормальными приемами ведения войны, и не похожи отчасти на те злодеяния, которые наблюдались во время Первой мировой войны, где встречались случаи жестокости, которым находилось некое оправдание с военной точки зрения. Сейчас насилие было проявлением расовой ненависти».
Немецкие солдаты, такие как Вильгельм Мозес, служивший в транспортном подразделении вермахта, увиденным были потрясены. Он стал свидетелем того, как солдаты дивизии СС «Германия» повесили семерых или восьмерых поляков прямо на городской площади под музыку духового оркестра. От этого и других ужасов, которые он видел, он постоянно испытывал чувство стыда. «Мне было стыдно за все…я больше не чувствовал себя немцем…я дошел до того, что стал думать: „Если бы в меня попала пуля, то мне не пришлось бы стыдиться, что я немец, потом, после войны“»‹5›.
В следующем, 1940 году Карл Бликер-Кользат тоже пережил событие, которое открыло ему глаза на истинную природу нацистской оккупации Польши: «Как-то в воскресенье мы сидели на балконе и завтракали. Вдруг во двор въехала телега… Я взглянул вниз, увидел лошадей и узнал крестьянина… Мама сказала мне: „Побеги, спроси, что ему нужно“. Я выбежал во двор и подошел к телеге. Рядом с крестьянином-поляком сидел его работник, которого я тоже знал в лицо. А рядом сидел еще один человек, которого я не знал. Это был молодой парень. Я на него взглянул, а он разговаривает сам с собой. Он был как будто чем-то потрясен, ошарашен, и все время бубнил себе под нос.
Я подошел еще чуть ближе и заметил, что у него связаны ноги. А он бубнил себе под нос: „Я хорошо работать, умею ездить на лошадь“. Я спросил крестьянина, кто это. Он ответил: „Это — еврей“.
Я побежал назад в дом. Мне казалось, что это важно, потому, что я раньше никогда не видел еврея, а мама сказала: „Пойди вниз, скажи кухарке, пусть даст ему чего-нибудь поесть“. Я пошел вниз, нашел кухарку. Она сказала: „У меня почти ничего не осталось, только вот это“ — и дала мне голубую кастрюльку с ручкой с остатками молочного супа — кисловатый суп с кусочками картошки.
Мне пришлось рассказать кухарке, для кого это, а потом минутку подождать, пока еда разогреется. Выходя из дому через боковую дверь, я услышал наверху голоса. Я оглянулся. На лестничной площадке наверху стояла моя бабушка, а внизу — двое полицейских. Они спросили: „Где еврей?“ На что бабушка ответила: „Мой внук пошел отнести ему чего-нибудь поесть“. Тогда один полицейский взял в руку дубинку и сказал: „Сначала он отведает вот этого. Потом мы ему еще добавим, но для начала пусть попробует этого“. Тут моя бабушка с вызовом уперла руки в боки и говорит: „Скажите, неужели вам совсем не стыдно?“ Полицейский только пожал плечами и сказал: „Еще чего, это же еврей!“ Потом они этого еврея увели. Наверное, его в тот же день и повесили, я не знаю».
Семья Бликер-Кользат пыталась как-то понять ужасные вещи, которым стала свидетелем в Польше, — происходившие под руководством человека, которого они считали «настоящим немцем». Они пытались убедить себя, что поляки, терпящие страдания от рук оккупационных войск, наверняка в чем-то провинились. Не мог же человек, от которого они так ждали помощи и спасения, организовывать убийства ни в чем не повинных людей? Как говорит Кользат: «Все то и дело повторяли: „Боже праведный, великий Адольф Гитлер наверняка ничего не знает о том, что здесь творят, — он бы этого не позволил!“ Нам было очень стыдно за поведение некоторых немцев, стыдно за то, как они ведут себя на улице, как чувствуют себя хозяевами и представителями высшей расы, как они кичатся своей формой, как всячески дают понять, что поляки — люди второго сорта. От всего этого нам было очень стыдно, это нас угнетало. Мы над ними, правда, смеялись, но мы их не обижали, мы просто дразнили их за глаза, говорили что-нибудь вроде: „Вы только посмотрите, ну что за дурачки“. Но это же не причина их обижать, да еще так жестоко. Мы бы никогда не стали этого делать. Так не годится, это неправильно. Надо же уметь себя вести, правда же? Настоящий немец так не поступает, верно же? Но вот сюда пришли немцы — и стали вести себя именно так!»
Еще до сентябрьского вторжения нацисты готовили планы относительно определенных категорий польского населения. В июле 1939 года было принято решение о формировании пяти (позже это число увеличили до шести) особых целевых групп — Einsatzgruppen, — которые будут действовать в тылу перед линией фронта и уничтожать польский правящий класс‹6›. 7 сентября Рейнхард Гейдрих заявил главам службы безопасности, что руководство Польши должно быть «обезврежено»‹7›.
Что же касается двух миллионов польских евреев, им угрожала смертельная опасность. Тысячи из них были убиты уже в первые месяцы войны, остальных согнали в гетто. Первое большое гетто, где содержались 230 000 евреев, было создано в Лодзи в конце апреля 1940 года. Все это санкционировал сам Адольф Гитлер, который, по словам Геббельса, находил поляков «скорее животными, чем людьми» и считал, что «они просто невероятно нечистоплотны». Как говорил Геббельс, у Гитлера для поляков был только один приговор: «уничтожить»‹8›.
И нельзя сказать, что отвратительные зверства в Польше творили только члены нацистского партийного аппарата — части СС и Einsatzgruppen — карательные группы специального назначения СД, созданные и используемые в целях массовых казней гражданских лиц на захваченных Третьим рейхом территориях. Солдаты и офицеры немецкой армии тоже совершали преступления. «Несмотря на успех польской кампании, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что некоторым нашим офицерам недостает самоуважения», — писал Браухич в приказе всем немецким офицерам в октябре 1939 года. «Настораживает количество подсудных дел, таких как незаконные конфискации, противоправные аресты, незаконное личное обогащение, присвоение чужого имущества и кражи, оскорбление и притеснение подчиненных, частично вызванных нервным возбуждением, а частично бессмысленным пьянством, неповиновение с серьезными последствиями для подчиненных войсковых формирований, изнасилования замужних женщин и т. п. — все это рисует типичную картину поведения наемника, которого нельзя судить слишком строго»‹9›.
Но при этом следует учитывать, что некоторые немецкие офицеры — как, например, генерал Йоханнес Бласковиц — пришли в ужас от систематических бесчинств, творимых нацистскими функционерами. Как и Бек до него, Бласковиц никогда не поддавался харизме Адольфа Гитлера. Но он был частью той значительной группы армейских офицеров, которые находились под воздействием последствий Версальского договора. Бласковица особенно возмущал «Данцигский коридор», который отделял Восточную Пруссию, его родину, от остальной территории Германии.
Бласковиц был сыном протестантского пастора и набожным христианином. Это был очень достойный, интеллигентный человек с огромным самообладанием и безупречными манерами. Гитлер его не терпел и до войны считал робким, нерешительным генералом. Тем не менее Бласковиц возглавил 8-ю немецкую армию, которая отличилась в битве на Бзуре, к западу от Варшавы, в самом крупном сражении польской войны. Более 150 000 польских солдат сдались в плен, попав в окружение. Но, несмотря на этот успех, Бласковиц все-таки не произвел впечатления на Гитлера, когда они встретились 13 сентября в Польше. Гитлер заметил позже, что Бласковиц, как ему показалось, «не вполне понимает возложенные на него задачи». Это загадочное высказывание, скорее всего, означало, что Бласковиц принадлежал к «старой школе» — и однозначно не подходил на роль полководца будущего. «Мне нужны люди жесткие, суровые», — сказал Гитлер своему адъютанту в тот день. «Мне нужны фанатичные национал-социалисты»‹10›. Зная, что Гитлер хочет снять Бласковица, и считая, что обвинения в его адрес несправедливы, генерал Гальдер, начальник Генерального штаба сухопутных войск, поддержал Бласковица в донесении, в котором было описано, как грамотно и успешно он действовал в период наступления‹11›. Гитлер вновь отреагировал прохладно, но Бласковиц в Польше остался.
Вероятность конфликта между некоторыми офицерами старой школы и «жесткими людьми» из национал-социалистов по поводу отношения к полякам была очень высока. Самым первым симптомом этого конфликта стала запись генерала Гальдера в дневнике от 19 сентября 1939 года, где говорилось, что Рейнхард Гейдрих, который возглавлял Главное управление имперской безопасности, заявил, что теперь начнется «зачистка» Польши от «евреев, интеллигенции, духовенства и аристократии». Однако Гальдер писал, что «армия настаивает, чтобы такую „зачистку“ отсрочили до тех пор, пока армия не уйдет и страна не вернется к гражданскому правлению»‹12›. («Зачистка», конечно, была очередным эвфемизмом, который нацисты использовали во время войны для описания своих зверств. И, как мы уже видели, эту «зачистку», конечно, никто не «отложил» до декабря. На самом деле к концу 1939 года немцы уничтожили более 50 000 поляков‹13›.)
Генерал Эдуард Вагнер проинформировал Гальдера после встречи с Гитлером, что Польша должна стать страной «дешевых рабов»‹14›, а армия должна сосредоточиться на «сугубо военных вопросах». Ставилась цель добиться в Польше «полной дезорганизации». В своем дневнике Гальдер назвал этот план «дьявольским». Весьма примечательно, что 17 октября 1939 года, за день до того, как Гальдер сделал эту запись в своем дневнике, Гитлер отдал приказ, согласно которому СС и другие неармейские подразделения службы безопасности выводились из подчинения армии. И теперь, если в Польше армейское начальство было недовольно какими-либо действиями СС, оно не имело никаких законных оснований принимать к ним меры.
Оккупированная нацистами Западная Польша — не стоит забывать, что Восточная Польша была в руках Советского Союза, который проводил в жизнь свой собственный «дьявольский план» этнической реорганизации, — должна была разделиться на две части. Одна часть, Генерал-губернаторство с центром в Кракове, под управлением непоколебимого нациста Ганса Франка, должна была стать чем-то вроде свалки, на которой проживали бы те, кому не было места в рейхе, тогда как другая часть должна была войти в состав собственно Германии. Эта часть, в свою очередь, подразделялась на несколько новых округов, или Gaue. Двумя самыми крупными округами были Данциг — Западная Пруссия, под управлением Альберта Форстера, и Вартегау, которой руководил Артур Грайзер. Эти два гауляйтера, или руководителя административных округов, плюс подчиненные им старшие чины СС отвечали за расовую реорганизацию Польши и проводили ее с невообразимой жестокостью. Генерал Йоханнес Бласковиц, главнокомандующий вооруженными силами на востоке, был оттеснен на второй план.
Тем не менее Ганс Франк по-прежнему питал ненависть к Бласковицу, и его не устраивало, что тот командует войсками вермахта в Польше. Когда 2 ноября 1939 года Геббельс посетил Франка, нацистский гауляйтер пожаловался, что немецкая армия не проявляет достаточной «расовой сознательности»‹15› и препятствует его работе. Неприязнь была взаимной. Гельмут Штиф, офицер Генерального штаба, когда приехал в Варшаву в ноябре 1939 года, был потрясен результатами управления гауляйтера Франка в Генерал-губернаторстве. «Почти все многомиллионное население города влачит жалкое существование — живут где-нибудь и как-нибудь, — писал он своей жене. — Неизвестно, за счет чего они живут. Здесь разворачивается неописуемая трагедия. И неизвестно, сколько это еще продлится… Город и его население обречены… Сидишь в прекрасном гостиничном номере, ешь жареного гуся и видишь, как женщины, которые всего три месяца назад занимали солидное положение в обществе, продают себя нашим солдатам за буханку хлеба, чтобы как-то протянуть…Истреблять целые поколения женщин и детей могут только нелюди, которые более не заслуживают права называться немцами. Мне стыдно, что я немец»‹16›.
В конце своего письма Штиф упоминает, что он встречал генерала Бласковица, который «излил мне душу и рассказал о своих бедах и тревогах». Но кажется маловероятным, чтобы на этом этапе Бласковиц открыто обвинял Гитлера в преступлениях, которые совершались в Польше на глазах генерала. Скорее, он двигался в своих рассуждениях в том же направлении, что и генерал Бек до него. Во всяком случае, вначале им обоим — и Беку, и Бласковицу — было легче, дабы избежать жгучих угрызений совести, вести себя так, словно вина за все зверства лежала на СС и партийных фанатиках, а не на главе государства. Даже если в глубине души они понимали, что это не так.
Всю осень 1939 года Бласковиц собирал доказательства преступлений, которые совершали СС на территории Польши, и наконец 16 ноября он представил докладную записку главнокомандующему сухопутными войсками Браухичу. Этот документ затем попал к военному адъютанту Гитлера, майору Герхарду Энгелю, который показал его Гитлеру. Копий докладной записки Бласковица не сохранилось, но известна реакция Гитлера, так как Энгель описал его ответ. «Сначала он воспринял эту записку спокойно, но потом разозлился и стал обвинять руководство армии в „инфантильности“. Невозможно вести войну методами Армии спасения. Его долго скрываемая антипатия нашла свое подтверждение. Он никогда не доверял генералу Бласковицу. Он, Гитлер, был против его назначения командующим армией и считает, что будет правильным снять его как несоответствующего занимаемой должности»‹17›.
И все же Бласковица не отстранили от командования. Гальдер и Браухич просто проигнорировали точку зрения Гитлера. Бласковиц смог остаться на своем посту в Польше, невзирая на резкую критику со стороны человека, который являлся не только главой государства, но и главнокомандующим вооруженными силами Германии. Перед самой войной Гитлер еще не смог добиться такого контроля над назначениями в армии, какого добился Сталин.
Докладная записка Бласковица появилась в самый сложный период во взаимоотношениях Гитлера с его генералами. Разногласия возникли в ходе совещания, которое Гитлер проводил со старшими офицерами около трех месяцев назад, 27 сентября 1939 года. Это была столь же значительная встреча, как и та, что проходила в ноябре 1937 года, когда Гитлер объявил, что война неизбежна. Потому что на сей раз Гитлер заявил, что хочет получить «конкретные планы»‹18› нападения на Францию. Эта новость ошеломила командование. Всего несколько недель назад они надеялись, что Великобритания и Франция останутся далеко в стороне от военного конфликта, и все еще опасались нападения с запада. В тот момент Германия была крайне уязвима, учитывая, что большая часть немецких вооруженных сил по-прежнему находилась в Восточной Европе. А теперь вместо того, чтобы провести перегруппировку войск, а потом добиться какого-то мирного урегулирования с Великобританией и Францией, Гитлер говорит им, что они должны в кратчайшие сроки подготовиться к вторжению во Францию.
Сегодня трудно себе представить, какой дикой, должно быть, показалась генералам эта идея Гитлера. Поскольку мы знаем результат — ошеломляющую победу Германии весной 1940 года, — появилась тенденция читать историю задом наперед и думать, что в то время были какие-то причины считать оккупацию Франции разумным решением для Германии. Но она не казалась разумным решением. У французов и англичан не просто было больше танков, чем у Германии, их танки были лучше. Французский танк Char B1 с 75 мм пушкой и 60 мм броней превосходил любую боевую технику, которой обладала немецкая армия на тот момент. Вдобавок, как говорит профессор Адам Туз, внимательное изучение германской военной программы того времени показывает, что представления Гитлера были все еще чрезвычайно старомодными. «Если мы внимательно рассмотрим первые месяцы войны, то заметим удивительную вещь: программы, которым Гитлер отдавал приоритетное значение в начале войны, фактически предполагали не быстрое наращивание производства танков, а производство огромного количества боеприпасов, чтобы избежать перебоев в снабжении боеприпасами — что послужило причиной срыва немецкого наступления осенью 1914 года. То есть он, как пехотинец времен Первой мировой, хорошо помнит перебои в поставках боеприпасов, которые якобы тормозили германскую армию на первом этапе Первой мировой войны. И вот теперь, в декабре 1939 года, фюрер ставит задачу не наращивать производство танков, а утроить выпуск боеприпасов в ближайшие шесть месяцев. Значит, даже в тот момент война, которую рисовал в своем воображении Гитлер, — это „долгая и жестокая битва за каждую пядь земли“ до самого Ла-Манша»‹19›.
Поэтому генералы германского Генерального штаба, почти каждый из которых уже имел печальный опыт «долгих и жестоких боев за каждую пядь земли до Ла-Манша», просто поверить не могли, что Гитлер всерьез рассматривает стремительный захват Франции. Высшие армейские чины между собой соглашались, что это просто невозможно — самый ранний срок, когда, по их оценкам, такая операция возможна, — 1942 год‹20›.
В этом их мнение полностью совпадало с мнением их противников. Французы, в частности, были абсолютно уверены в победе над немцами, некоторые даже полагали, что нацистский режим скоро рухнет и не потребуется никакого вмешательства извне. В одном из докладов военной разведки того времени эксперты Deuxime Bureau (французская внешняя военная разведка) утверждали: «По данным из надежных источников, гитлеровский режим продержится у власти до весны 1940 года, а потом сменится коммунистическим»‹21›.
Кризис еще больше углубился, когда Гитлер, взбешенный отсутствием энтузиазма у своих генералов по поводу нападения на Францию, 10 октября снова обратился к ним с пламенной речью. Точно так же, как на печально известном собрании в ноябре 1937 года, он читал с листа заранее заготовленный текст. И снова продемонстрировал выдающийся стиль руководства: он заранее и абсолютно единолично решил, что лучше для Германии, а роль генералов сводилась лишь к тому, чтобы выполнять его решения. Причем он не проводил никаких предварительных консультаций с военными специалистами, не осуществлял никакого логического анализа, чтобы убедиться, что его цель вообще достижима.
В каком-то отношении такой стиль работы был эффективен. Каждый сразу видел, что фюрер свято верит в свою «гениальность», что он уникальный в своем роде харизматичный лидер, которому не нужны чужие советы. Это лишало уверенности его оппонентов — им приходилось постоянно реагировать на его высказывания, вместо того чтобы участвовать в принятии политических решений. Однако это было довольно рискованно. На этом этапе войны для контроля над Генеральным штабом Гитлер в значительной степени полагался на свою силу убеждения. Но если он не мог убедить аудиторию в своей правоте, то испытывал трудности, с которыми другой, менее харизматичный диктатор никогда не столкнулся бы.
Теперь, когда Гитлер не сумел убедить своих генералов в целесообразности нападения на Францию, он столкнулся с растущей оппозицией. Понять умонастроения генерала Гальдера можно по записи в его дневнике от 14 октября 1939 года. После встречи с Браухичем он пишет: «…есть три пути: нападать, ждать и менять»‹22›. Под «менять» Гальдер и Браухич подразумевают смену руководства — смещение, если не полное устранение, Адольфа Гитлера. Прецедент подобного рода имел место совсем недавно. Во время Первой мировой войны два высших чина германской армии — Людендорф и Гиндербург — взяли в свои руки контроль над всеми стратегическими решениями, оставив кайзера Вильгельма II на периферии власти. И потом был еще один генерал — Вильгельм Гренер, который сообщил кайзеру в ноябре 1918 года, что тот должен отречься. Но Гальдер и Браухич также осознавали, что ни один из имеющихся трех вариантов не идеален — особенно вариант со «сменой», поскольку «это вариант в высшей степени негативный и он ставит нас под удар»‹23›.
Гальдер и Браухвич не считали, что вторжение во Францию неприемлемо по соображениям морали или законности. Они просто полагали, что немецкая армия в ближайшем будущем не готова к выполнению такой задачи. Таким образом, они возражали не против агрессии, не против развязывания войны на Западе, а против поражения в этой войне. И они были в этом неодиноки. 3 ноября Гальдер записал: «Никто в Генштабе не верит, что наступление, которое готовится по приказу ОКВ (Верховное главнокомандование вермахта, которое работало непосредственно с Гитлером) имеет хоть какие-то шансы на успех»‹24›. Теперь Браухич и Гальдер, хоть и нехотя, рассматривали возможность государственного переворота с целью сместить Гитлера.
Между тем многие хорошо известные лица из числа участников несостоявшегося год назад заговора, включая Людвига Бека, также замышляли остановить Гитлера, втягивающего Германию в губительную войну против Франции. По одному из сценариев, после того как начнется наступление на Западе, части, верные заговорщикам, должны были захватить ставку Гитлера и арестовать его самого. Гитлера бы сместили, а Бек стал бы новым главой Германского государства‹25›.
Когда 5 ноября Браухич встретился с Гитлером, то попытался убедить того, что армия еще не готова к нападению на Францию, и добавил, что оккупация Польши выявила проблемы с дисциплиной. Он даже сравнил настрой в вермахте в 1939 году с настроем германской армии в конце Первой мировой войны. Гитлер вполне предсказуемо вышел из себя. Он пригрозил, что немедленно отправится на фронт и сам выяснит, что там происходит. Еще больше Браухича беспокоило заявление Гитлера, что в армии недостает боевого духа, чтобы идти в бой, как он того хотел. Гитлер говорил о «духе Цоссена»‹26› (в военное время близ деревушки Цоссен, к югу от Берлина, располагался секретный штабной комплекс сухопутных войск Германии) и добавил, что он уничтожит эти пораженческие настроения. Раздавленный нападками Гитлера, Браухич сказал после этой встречи, что не будет принимать активного участия ни в каких заговорах. Гальдер, обеспокоенный тем, что Гитлер подозревал командный состав в организации заговора, тоже оставил идею возглавить такой заговор против фюрера.
Момент был весьма показательным. На совещании у Гитлера 5 ноября Браухич не услышал ничего успокоительного относительно наступления на Запад. На самом деле к вечеру того дня ситуация для Гальдера и Браухича ухудшилась, поскольку сразу после совещания Гитлер подписал приказ о наступлении на Францию, которое должно было начаться 12 ноября. Однако даже теперь, зная, что Гитлер назначил дату начала войны, которую Германия, по их мнению, неминуемо проиграет, они так и не решились действовать.
Они очень сильно заблуждались, рассчитывая, что Гитлера можно вывести из игры и устранить, как это произошло двадцать один год назад с кайзером. Ведь в отличие от кайзера Гитлер по-прежнему считался лидером, которому вверили свои судьбы миллионы немцев. Германия продолжала воевать с англичанами и французами, и, несмотря на то что исход этой войны в то время не был предрешен, фюрер стремительным ударом нанес поражение полякам и вновь присоединил к рейху Данциг и «Польский коридор», а также все территории, отошедшие к Польше после подписания Версальского договора. Потому многие, подобно Вальтеру Мауту (ему на тот момент было шестнадцать лет), пришли к выводу, что «после того, как Польшу разбли за три недели, мы решили, что мы непобедимы»‹27›.
В ноябре Гитлеру вновь представилась возможность показать, какой широкой поддержкой он пользуется у немецкого населения. Спустя три дня после столь разочаровавшей его встречи с Браухичем фюрер прибыл в Мюнхен на празднование шестнадцатой годовщины Пивного путча. Он выступил с речью в знаменитом пивном зале «Бюргербройкеллер» и уехал на мюнхенский вокзал, откуда должен был отправиться в Берлин.
Не прошло и десяти минут после его отъезда, как в зале взорвалась бомба, заложенная в колонне. На протяжении нескольких месяцев Георг Эльзер, плотник, втайне от всех работал в подвале «Бюргербройкеллера» и сумел вмонтировать взрывное устройство в колонну, перед которой обычно устанавливали трибуну для фюрера. Эльзер, состоявший прежде в Коммунистической партии Германии, ненавидел войну, а потому решил, что единственный способ спасти Германское государство — это уничтожить Гитлера и других нацистских вождей.
Эльзер действовал в одиночку, без сообщников. Гитлеру посчастливилось уцелеть — и свое спасение он вновь списал на собственную дальновидность. Однако особого внимания в этой истории заслуживает реакция немецкого общества на известие о покушении на жизнь фюрера. Согласно одному из отчетов, составленных СД, службой безопасности СС, «покушение на убийство в Мюнхене лишь укрепило чувство единства германского населения» и «немецкий народ стал еще сильнее почитать своего фюрера»‹28›. В другом отчете, датированном декабрем 1939 года, говорится о том, что «с тех пор, как началась война, а в особенности после посягательства на жизнь фюрера в Мюнхене, многие владельцы магазинов стали выставлять в витринах портреты Гитлера. В отдельных случаях эта дань уважения фюреру принимает уродливые формы. Так, например, поступили сведения о том, что витрину одного магазина в Киле украшает портрет фюрера, установленный среди бутылок спиртного, и лозунг: „Мы никогда не сдадимся!“»‹29›
С одной стороны, такая преданность германского народа своему лидеру вполне понятна. Более шести лет усилиями министра пропаганды Геббельса формировался полумистический образ Гитлера, от которого всецело зависело будущее Германии, ее судьба и безопасность. Этот фактор, а также многочисленные успехи в сфере внешней политики незадолго до начала войны, несомненно, оказали значительное влияние на отношение германского народа к своему политическому лидеру. Не исключено, что многие немцы, почитая Гитлера, все же испытывали тревогу за последствия войны и экономических мер — например вышедшего недавно указа «О военной экономике», — которые сильно ударили их по карману.
Остается загадкой, однако, почему все разнообразные группки заговорщиков с самого начала не смогли понять, что Гитлер, в отличие от кайзера, по-прежнему пользуется безграничным уважением и доверием своего народа. Власть, основанная на харизме, должна постоянно подкрепляться новыми достижениями — а Гитлер тогда не знал поражений. Генералу Вильгельму Риттеру фон Леебу довелось убедиться в этом на собственном опыте, когда он попытался заручиться поддержкой генералов и организовать переворот против Гитлера сразу после разгромной встречи Браухича с фюрером 5 ноября. Изначально Гитлер запланировал вторжение во Францию на 12 ноября, но дату перенесли, получив разведданные о погодных условиях и передвижении французских и английских войск — фюреру приходилось не раз менять свои планы и переносить вторжение на более поздний срок, пока, наконец, он не остановился на окончательной дате — 10 мая 1940 года.
Однако в конце 1939 года казалось, что конфликт с Францией начнется со дня на день. В своем дневнике фон Лееб назвал запланированное наступление на Западе «безумием»‹30›. Кроме того, он был крайне возмущен зверствами немцев в Польше. Он заявил Гальдеру, что карательные операции, подобные польской, «недостойны цивилизованной нации»‹31›. В ходе подготовки переворота фон Лееб попытался заручиться поддержкой других генералов, Бока и Рундштедта, однако все его усилия пошли прахом. В конце концов один из приближенных к фон Леебу офицеров, командир корпуса генерал Гейр фон Швеппенбург‹32›, вынужден был признать, что, вполне возможно, рядовые солдаты и младший офицерский состав попросту откажутся выступить против Гитлера. То же подтверждает еще один генерал вермахта, служивший на Западном фронте, Вальтер Неринг, который после войны заявил, что «бесполезно» было отдавать приказ повернуть оружие против режима, потому что «авторитет Гитлера у молодых солдат слишком глубоко укоренился»‹33›.
Двадцать третьего ноября Гитлер выступил в рейхсканцелярии перед двумя сотнями старших офицеров — одна из последних попыток поднять боевой дух своих генералов накануне грядущей войны на Западе. Он понимал, что на этом совещании ему предстоит не просто рассказать о своем видении войны, но и убедить людей, без которых эта война не могла состояться. Фюрер понимал, что эту битву он должен выиграть.
И снова Гитлер пустил в ход красноречие и уже знакомые методы убеждения. Суть его речи сводилась к одному — все держится на личности фюрера. «Судьба рейха зависит только от меня»‹34›, — объявил он, представ в образе харизматичного полководца, которого само Провидение послало Германии, чтобы спасти ее. Как и в прошлый раз, он заявил, что пришел сюда, чтобы сообщить генералам о своих решениях.
Речь фюрера была уроком истории — он напомнил о том, как в прошлом одерживал победы даже тогда, когда другие не верили в него, — а также вкратце изложил генералам основы своей бесчеловечной философии: «Судьбу всего сущего я вижу в борьбе. Уклониться от борьбы не может никто, если не хочет погибнуть». Он сказал, что его миссия ясна — завоевать Lebensraum — «жизненное пространство» для народа, который отчаянно нуждается в нем.
В статье «The Mind of Adolf Hitler» Хью Тревор-Роупер пишет, что для Гитлера «цель жизни» заключалась всего лишь в том, чтобы сделать «германский народ властелином мира», и что фюрер хотел лишь обеспечить «пироги и пышки для немцев, а синяки и шишки для не-немцев»‹35›. Но этот британский историк явно недооценивает роль этого обращения Гитлера к своим генералам. Он не просто поставил перед ними практическую задачу — расширить территорию рейха — но также подвел под нее философскую базу: жизнь есть вечная борьба, а люди по природе своей животные, которые должны драться или умереть.
Фюрер призывал освободить хищного зверя, притаившегося внутри каждого из нас. В его речи на каждом шагу встречается слово «уничтожить» — он бесконечно повторяет, что «уничтожит каждого, кто станет на пути… Я хочу уничтожить врага». Задолго до объявления «войны на уничтожение» Советскому Союзу, он предстал перед своими генералами апологетом «уничтожения» противника на Западе. В тот день фюрер снова прибег к упрощающей логике «или — или». «У меня есть только один выбор: победа или наша гибель, — заявил он. — Я выбираю победу!» Ставить перед выбором «или — или» — это был излюбленный прием Гитлера, он даже обещал покончить с собой, если история обернется против него: «Поражения моего народа я не переживу».
Фюрер наверняка понимал, что его длинная речь недостаточна, чтобы побудить к действию Браухича и Гальдера, потому после совещания он пригласил их к себе в кабинет, где выказал им свое неудовольствие по поводу позиции командования вермахта, вновь упомянув «дух Цоссена»‹36›. Браухич объявил, что «готов уйти в отставку»‹37›, но Гитлер приказал ему оставаться на посту и выполнять свой «долг».
Тем временем Гальдер вместе с коллегами без особого рвения планировал вторжение на Запад, так как совершенно не верил в успех этого предприятия — и его опасения были не напрасны. Если бы немцы начали вторжение, руководствуясь планами в том виде, в каком они существовали в начале ноября, то либо сразу потерпели бы поражение, либо оказались бы в патовой ситуации, как в Первую мировую на Западном фронте. Однако постепенно планы стали меняться. Больше ресурсов выделялось группе армий «А» генерала фон Рундштедта, которая должна была прикрывать южный фланг группы армий «В» в ходе захвата Голландии и Бельгии. И все же на момент выступления Гитлера на памятном совещании 23 ноября «план Гельб» (Fall Gelb) — как назывался план вторжения — по-прежнему оставался весьма расплывчатым и было непонятно, какая группа армий будет играть главную роль.
Генерал Эрих фон Манштейн настаивал на том, что единственный способ сокрушить войска союзников во Франции и не завести дело в тупик затяжных боев — это нанести главный удар в наступательной операции силами группы армий «А». Он считал, что группа армий «В» фон Бока должна вторгнуться на территорию Бельгии, чтобы создать у союзников впечатление, что именно она является основной ударной группой. Тем временем как расположенные южнее бронетанковые соединения группы «А» стремительно преодолеют Арденнский лес, форсируют Маас и совершат бросок в направлении побережья Ла-Манша, в том месте, где Сомма впадает в море. Таким образом, большое количество английских и французских войск окажутся в так называемых «клещах» двойного охвата группами армий «А» и «В». Однако, по словам профессора Адама Туза, «эта операция с точки зрения материально-технического обеспечения была беспрецедентно рискованной и при условии тщательно продуманной организации предоставляла противникам Германии — Великобритании, Франции, Бельгии и Голландии — возможность нанести сокрушительный контрудар по рейху и по „клешне“, продвигающейся по северу Франции. Так что немцы в полной мере осознавали, что если этот план не сработает, то они неизбежно проиграют войну… Эта авантюра может завершиться блистательной победой… а может — катастрофическим поражением. И они это прекрасно понимают»‹38›.
Несмотря на всю свою безрассудность — а может, и благодаря ей, — этот план понравился Гитлеру, и, лично обсудив все детали с Манштейном, фюрер утвердил его в качестве основы будущей наступательной операции. Еще двумя годами ранее генерал Гудериан в своей книге «Achtung Panzer!» («Внимание, танки!») разработал идею стремительных прорывов танковых соединений в глубь обороны противника; и Гальдер на тот момент уже успел оценить в ходе боевых действий в Польше, как важно, чтобы наступательную операцию начинали танковые корпуса. Таким образом, к созданию «плана Гельб» приложило руку множество людей — а также случай, так как союзникам удалось заполучить копию первого варианта плана наступления после крушения немецкого самолета на территории Бельгии в январе 1940 года. Немцы тогда проявили осторожность и сочли за благо внести серьезные изменения в стратегию грядущей операции.
И все же революционная стратегия вторжения во Францию получила право на существование исключительно благодаря тому, что так пожелал сам Адольф Гитлер. Фюрер всегда лишь ставил задачи — в данном случае, «начать наступление на Запад», а затем требовал от других разработки конкретных идей по достижению той или иной цели. Но предложенная стратегия полностью соответствовала его авантюрной философии «или — или», «пан или пропал» — в этой наступательной операции немцы должны были получить все или ничего. Оккупация Рейнской области, Аншлюс, Мюнхенский сговор — Гитлер каждый раз ставил на карту судьбу всего рейха. В таких рискованных мероприятиях он видел очередное проявление собственного величия и презирал каждого, кто склонялся к более взвешенным и безопасным вариантам. «Мюнхенские главари[5] не возьмут на себя риск развязать войну»‹39›, — сказал он в августе 1939-го. Таких офицеров старой закалки, как Людвиг Бек, именно и тревожило пристрастие фюрера к риску. Однако многие считали, что именно это качество делает Гитлера столь открытым для новых идей.
После грандиозной победы Германии всем стала очевидна еще одна характерная черта гитлеровского стиля руководства, которая лежала в основе всех дискуссий перед вторжением во Францию. Фюрер обещал немцам не только привести государство к расцвету и изменить ход истории — он пропагандировал идею сиюминутности, необходимости действовать здесь и сейчас. Гитлер часто говорил, что на достижение всех своих целей у него есть лишь одна, короткая жизнь; он боялся, что не доживет до старости, а потому вечно спешил, пытаясь заразить этой спешкой всех остальных. Его чувство безысходности лишь обострялось тем, что фюрер не верил в загробную жизнь. Через все речи Гитлера, с которыми он выступал в тот период, красной нитью проходит мысль, что все мы живем только раз и никому не удастся избежать смерти и забвения, независимо от того, рисковал ли ты при жизни, пытался ли изменить весь мир или тихо служил простым клерком. Вам решать, говорил он. Унылое существование или захватывающая жизнь, полная приключений, — и то и другое закончится вечностью небытия. Ни для кого не секрет, какой путь выбрал для себя Гитлер. 23 ноября он заявил своим генералам, что «решил прожить жизнь так, чтобы не было стыдно встретить смерть».
Более того, новый «план Гельб» привлекал фюрера еще и тем, что позволял застать противника врасплох. «Фактор внезапности — залог успеха битвы‹40›, — скажет позднее Гитлер. — Ни в коем случае нельзя без конца повторять одну и ту же операцию лишь потому, что однажды она оказалась успешной». Еще в октябре 1939 года, то есть задолго до того, как фюрер узнал о плане Манштейна, он подметил, что противники Германского рейха на Западе очень уязвимы перед лицом внезапных, неожиданных действий. «Фюрер подчеркнул, что нельзя повторять тактику линейных боев [Первой] мировой войны, — написал генерал фон Бок в своем дневнике 25 октября, — и что мы должны прорвать линию обороны противника быстрыми, молниеносными ударами и стремительными прорывами моторизированных и танковых частей, чего от нас не ждут стандартно мыслящие французы и неповоротливые англичане»‹41›.
Именно эта находка Гитлера сыграла решающую роль в грядущей битве. Однако в ходе последующей отработки плана Манштейна в центре управления войсками в Цоссене выяснилось, что вся операция сводится к одному вопросу: как скоро союзники поймут, что главный удар планируется не в Бельгии, а в Арденнах? Если немцы не успеют переправиться через реку Маас в Восточной Франции за четыре дня, то у англичан и французов появится фора во времени, они поймут, что происходит на самом деле, и перебросят войска в Арденны. Уже на этом этапе стало ясно, что в этой битве появляется новый стратегически важный пункт — город Седан, расположенный на реке Маас. Стоит быстро взять Седан и переправиться через реку — и на пути группы армий «А» больше не остается серьезных естественных препятствий до самой дельты Соммы. (Говоря о принятии германским командованием столь радикальной версии «плана Гельб», не стоит забывать и об историческом контексте — вермахт до сих пор нес на себе мрачную печать поражения в Первой мировой, а план Манштейна позволял отомстить французам, не просто сокрушив их, но и унизив.)
В конечном счете Гитлер надеялся, что превосходство союзников в количестве танков не сыграет существенной роли, если танки окажутся не там, где надо. И этот авантюрный расчет окупился с лихвой. Союзники были абсолютно убеждены, что им известно все о предстоящем вторжении, и просто излучали самоуверенность. Так, генерал Морис Гамелен, главнокомандующий французской армией, самонадеянно заявил своим старшим офицерам в сентябре 1939 года, что если немцы решатся напасть весной 1940 года, то Францию ждет блистательная победа‹42›.
Но Адольф Гитлер столь же истово верил в победу. В процессе подготовки вторжения во Францию он рассматривал множество вариантов тактики, стратегии и направлений главного удара — неизменным все это время оставалось лишь одно — непоколебимая уверенность фюрера, что все будет хорошо. Генерал Гальдер отметил в своем дневнике 17 марта, что Гитлер «явно уверен в успехе»‹43›, несмотря на глубокую обеспокоенность среди некоторых немецких старших командиров. Немногим ранее, 14 февраля, Гальдер написал, что «Гудериану и Виттерсгейму явно не хватает уверенности в успехе»‹44› операции. А 25 февраля после встречи с Федором фон Боком, который должен был возглавить в предстоящем вторжении группу армий «В», в его дневнике появилась запись о том, что фон Бока «беспокоит»‹45› ряд спорных вопросов.
Еще до начала осуществления «плана Гельб» Гитлер преподнес союзникам еще один сюрприз — вторгся в Данию и Норвегию. Он понимал, насколько необходимо обеспечить безопасность путей поставок железной руды из нейтральной Швеции через норвежский порт Нарвик. Долгое время ходили слухи о том, что союзники собираются совершить нападение на Скандинавию, — и, как оказалось, начавшееся 9 апреля германское вторжение практически совпало с попыткой англичан заминировать норвежские воды.
На суше немцы захватили Данию за несколько часов и немедленно начали вторжение в Норвегию. На море дела шли не так гладко — Кригсмарине потеряли более дюжины кораблей. Тем не менее союзные войска не смогли выбить немцев из Норвегии, и споры о причинах этого провала привели к отставке Чемберлена и назначению Уинстона Черчилля на пост премьер-министра Великобритании 10 мая 1940-го. Так совпало, что в этот же день немцы начали вторжение во Францию и Нидерланды.
Вермахт атаковал союзников силами 112 дивизий, но лишь десятая их часть имела в своем составе бронетехнику. Англичане и французы считали, что сумели полностью разгадать стратегию немцев. Вступление группы армий «B» под командованием генерала фон Бока на территорию нейтральной Бельгии подтвердило предположение генерала Гамелена, что вторжение будет начато на северном направлении. Один французский офицер вспоминает, что в тот день Гамелен расхаживал с выражением триумфа на лице, напевая что-то себе под нос‹46›. Французам и британцам казалось логичным, что немцы одновременно нападут на Бельгию и Голландию, чтобы захватить военно-воздушные базы для последующих ударов по Великобритании.
Как и планировалось, союзные войска вступили в Бельгию, надеясь завязать бои и связать силы противника. К исходу 14 мая казалось, что французские войска весьма неплохо показывают себя в боях с немцами. Однако уже тогда появились подозрения, что вермахт может начать вторжение на других направлениях. 12 мая союзники стали получать информацию о передвижениях группы армий «A» в Арденнском лесу, однако сочли это фланговым маневром в рамках основных боевых действий в Бельгии. Однако вскоре стало очевидным, что немцы собираются форсировать реку Маас и атаковать французский город Седан. 13 мая Гамелен узнал, что некоторые германские части уже пересекли Маас к северу от Седана. К 14 мая немцы форсировали Маас уже в нескольких местах. Для Франции это было потрясением. Один из офицеров стал свидетелем того, как командующий войсками Северо-Западной Франции генерал Альфонс Жозеф Жорж заплакал и сказал, что в Седане они «потерпели ряд неудач»‹47›. На следующий день премьер-министр Франции Поль Рейно позвонил Уинстону Черчиллю в 7.30 утра. Черчилль поднял трубку телефона, стоявшего рядом с его кроватью, и услышал «совершенно убитый» голос Рейно: «Мы проиграли… Это разгром… Битва проиграна»‹48›.
Это был беспрецедентный момент в мировой военной истории. Впоследствии Поль-Эмиль Катон назовет свою книгу о битве за Францию «Une Guerre Perdu en 4 Jours» («Война, проигранная за 4 дня»)‹49›. Невозможно переоценить влияние, которое этот быстрый триумф произвел на немцев. Эрвин Роммель, которого Гитлер по его просьбе назначил командовать 7-й танковой дивизией во французской кампании, назвал происшедшее «немыслимым». Его танки, стоявшие на острие удара группы армий «A», «просто прорвались в глубь вражеской территории. И это был не сон, не прекрасная мечта. Это была реальность»‹50›.
«Прекрасная мечта» стала явью не только потому, что Гитлер настоял на принятии рискованного плана Манштейна, и из-за массы ошибок, совершенных союзниками, но и по той причине, что в германской армии стал применяться инновационный метод командования — смесь метода, применявшегося в прусской армии, и стиля руководства самого фюрера. По словам профессора Роберта Читино, прусская армия выработала «своеобразную культуру ведения войны», основанную на «прусской географии, традициях, положении страны среди других европейских государств и относительной нехватки ресурсов. Пруссия всегда пыталась проводить войны „быстро и весело“ — термин, изобретенный в XVIII веке Фридрихом Великим. „Быстрая и веселая“ война означала серию быстрых побед над основными силами врага за шесть-восемь недель… Думаю, что основным отличием немцев от их соседей было то, что Германия — это государство, расположенное в относительно неудобном районе Центральной Европы, обладающее относительно малой ресурсной базой и несомненно меньшим населением, чем у коалиции его потенциальных врагов»‹51›.
С другой стороны, «быстрая и веселая» война означала, что на поле боя командиры не могли полагаться на проверенные оборонительные тактики. Как говорит Читино: «Еще в XVIII веке Фридрих Великий сформулировал прусскую военную доктрину весьма лаконично: прусская армия всегда атакует. Его приказ кавалерии был неизменным — она всегда должна была наносить удар первой, а не ждать пока ударит противник. Такая бульдожья агрессивность накладывалась на давнюю немецкую традицию быстрого маневрирования войсками.
Вместе с этим „бульдожьим“ подходом к войне германская армия также выработала концепцию Auftragstaktik — „командования по директивам“[6]. Немцы в гораздо большей мере, чем их противники, прибегали к делегированию полномочий. Полевым командирам отдавали приказы, но дальше они пользовались неслыханной для английской или французской армии свободой действий. Действия того же Роммеля были прекрасным примером немецких методов ведения войны. Подразделения 7-й танковой дивизии Роммеля первыми пересекли реку Маас неподалеку от деревеньки У (Houx). Это было полной неожиданностью для союзников, поскольку в окрестностях У Маас течет в глубокой теснине, что делает это место идеальной позицией для обороны. Солдаты французской Девятой армии окопались на противоположном берегу, готовые к бою. Однако серия решений, принятых Роммелем и его людьми непосредственно на месте — от поджога нескольких домов для создания дымовой завесы до организации веревочно-блочной переправы, — позволила форсировать Маас именно в этом месте. И прежде всего потому, что Роммель следовал прусской доктрине быстрых и внезапных действий. Французские командиры считали, что после подрыва мостов через Маас у них будет несколько дней на подготовку. Но, благодаря стремительным действиям Роммеля, у них остались на это считаные часы.
Роммель был чрезвычайно талантливым генералом, однако его действия были вполне типичными для немецких командиров любого уровня — вплоть до унтер-офицерского. Как написал после войны генерал Манштейн, „Германский метод ведения войны коренится глубоко в немецком национальном характере, который — вопреки всей чуши, которую несут про „слепое повиновение“, — подразумевает большую степень самостоятельности и склонность к совершению рискованных действий, что, вероятно, объясняется нашим германским культурным наследием“‹52›.
Хотя изначальная рискованность стратегии Гитлера во многих случаях повергала германских генералов в шок — примерами могут служить совещание Хоссбаха в 1937-м[7] и решение о начале вторжения во Францию, — но, как бы парадоксально это не звучало, в войсках ценили возможность, предоставленную немецким командирам, лично анализировать риски и принимать самостоятельные оперативно-тактические решения. Принцип самостоятельности работал. Более того, этот принцип стал основным методом управления и во внутренней политике гитлеровской Германии. Сам Гитлер однажды сказал: „Я никогда не обсуждал с Шахтом (министр экономики Германии в 1930-е), какие средства имеются в нашем распоряжении. Я лишь говорил ему: „Вот мои требования, и они должны быть выполнены““. Ключевой составляющей харизматического правления Гитлера было желание, чтобы при выполнении великой задачи его подчиненные действовали по своему усмотрению. А это и есть суть военной доктрины Auftragstaktik — командования по директивам.
Эти методы представляли собой полную противоположность стилю управления в армиях союзников. Эдвард Оутс, служивший в британском Королевском инженерном корпусе, на себе ощутил, как недоставало самостоятельности во время отступления из Франции: „Я вспоминаю бельгийцев, их медные шлемы… Многие из них говорили: „Нам нужен офицер. Если у нас будет офицер, мы будем сражаться. Но офицера нет — и мы не знаем, что нам делать…“ Я был [также] немного удивлен тем, как быстро сдалась французская армия, но об этом я тогда даже и не думал. Мы были просто солдаты и делали то, что нам говорят. Не было у нас никакой стратегии, даже мысли не было, где мы сражаемся и что происходит, — мы просто были там, где были“‹54›.
Хотя на глобальном стратегическом уровне Гитлер был склонен идти на риск и охотно использовал фактор внезапности, однако, если события принимали не такой оборот, как он ожидал, он мог иногда проявить робость и нерешительность. Как мы уже отмечали, Геббельс был одним из первых нацистских вождей, который подметил эту особенность Гитлера еще до войны‹55›. Теперь и другие генералы стали свидетелями подобных проявлений. Во время норвежской операции, например, генерал Вальтер Варлимонт заметил, что Гитлер проявляет „просто ужасающую слабость характера“‹56›, если операция пошла не по плану. 17 мая, когда Гитлер заявил, что группа армий „А“ уязвима для флангового удара, Гальдер записал в дневнике: „Фюрер ужасно нервничает. Он напуган своим собственным успехом и теперь боится рискнуть — и, наоборот, придерживает поводья“‹57›. Утром следующего дня Гитлер разбушевался, накричал на Гальдера и приказал остановить наступление, но к шести вечера передумал. „Так что в конце концов принимаются правильные решения, — написал Гальдер — хотя неприятный осадок остается…“»‹58›
На первый взгляд эти два качества Гитлера — с одной стороны, готовность идти на риск, а с другой — нерешительность вкупе с явной робостью — вступают в противоречие друг с другом. Такого мнения придерживался Гальдер. 6 июня 1940 года, когда французская кампания уже приближалась к завершению, он записал в дневнике, что Гитлер считает планы командования слишком рискованными и предпочитает действовать «наверняка». Гальдер с трудом понимал, как подобный подход может уживаться в нем с азартом игрока, идущего ва-банк, столь знакомого Гальдеру по прежним годам. «…Я просто не вижу в нем той искры, которая заставляет игрока поставить на кон все, что у него есть»‹59›, но Гальдер ошибался. Эти проявления Гитлера не были полярно противоположными чертами его личности, а проявлениями его способа принятия решения. Как мы видели, Гитлер принимал политические решения таким необычным способом, который сегодня многие власть предержащие предают анафеме. Вместо того, чтобы посоветоваться с заинтересованными сторонами, проанализировать варианты и затем прийти к взвешенному решению, Гитлер в полном одиночестве запирался в своей комнате и ждал вдохновения. «Решительность вовсе не означает действие любой ценой, — говорил он. — Решительность заключается в том, чтобы не колебаться, когда внутренний голос требует действовать»‹60›. Когда его «внутренний голос» говорил ему, что именно надо делать, тогда Гитлер использовал всю силу убеждения, чтобы довести до понимания окружающих, что его решения правильны и логичны. Но такой способ принятия решений не лишен недостатков — он плохо вписывается в систему ежедневных плановых совещаний, на каждом из которых надо принимать сотни мелких решений. Как можно сидеть и ждать внутреннего голоса, если надо планировать конкретные действия одной конкретной дивизии немецкой армии? Выход, естественно, заключался в том, чтобы предоставить Гальдеру и другим командующим принимать эти решения самостоятельно, а самому же сосредоточиться на общей картине и принимать глобальные решения, полагаясь на «внутренний голос». Но он не мог себе этого позволить. Почему? Нетрудно догадаться. Просто не верил в их способность принимать правильные решения. Достаточно вспомнить, кто именно руководил военной кампанией на высшем уровне: в основном Гальдер, Браухич и еще горстка людей. Разве не они с самого начала выступали против вторжения во Францию?
На этом фоне решение, ставшее самым знаменитым примером его робости в эту кампанию, — решение остановить продвижение немецких войск перед Дюнкерком 24 мая — по иронии судьбы принял вовсе не Гитлер. Как пишет профессор сэр Ян Кершоу, Гитлер «фактически согласился с предложением командующего германскими войсками Западного фронта генерала (а вскоре и фельдмаршала) фон Рунштедта, который считал необходимым сохранить танки для более важной, по его мнению, задачи, которая заключалась в том, чтобы разгромить французские войска, обойдя их с юга. Геринг обещал Гитлеру, что с воздуха разнесет британские части на клочки. Вот и получилось, что Гитлер согласился с этим решением ровно на 24 часа, затем понял, что это ошибка, и отменил его — но было уже поздно, потому что эвакуация британцев из Дюнкерка уже шла полным ходом. Однако в данном случае Гитлер фактически последовал совету своих генералов, а вовсе не наоборот, навязал им свое решение, что он стал проделывать все чаще по ходу войны»‹61›.
В результате задержки немецкого продвижения на Дюнкерк более 800 гражданских судов — рыбацких шхун, прогулочных катеров, буксиров — бросились на помощь британскому флоту, чтобы переправить британцев через Ла-Манш назад в Англию. Было спасено 330 000 солдат союзных войск — это притом что первоначально британское правительство рассчитывало спасти не более 40 000 солдат. Но все равно, ситуация складывалась крайне неблагоприятно для союзников. Мало того, что Франция пала за каких-то шесть недель и подписала перемирие с Германией 22 июня, но теперь и англичане вынуждены были бежать, бросив под Дюнкерком всю технику. «Они все бросили на побережье, — пишет военный историк профессор Джеффри Вовроу, — большую часть полевой артиллерии, противотанковые орудия, боеприпасы, запасы топлива. Все досталось немцам. Теперь требовалась куча времени, чтобы все это восстановить, а тем, кто будет воевать в Западной Сахаре, придется довольствоваться старой допотопной техникой, потому что все самое лучшее осталось под Дюнкерком»‹62›.
В июне 1940 года Гитлер достиг пика успехов. Были покорены французы, норвежцы, датчане, бельгийцы и голландцы — и этот невероятный успех достигнут в считаные недели. Более 1,2 миллиона солдат захвачены в плен, немецкие же потери составили менее 50 тысяч‹63›. После этого триумфа Кейтель назовет Гитлера Grsster Feldherr aller Zeiten — «величайшим полководцем всех времен». У Гитлера теперь оставалась одна нерешенная проблема — британцы. Их отказ подчиниться воле фюрера станет вызовом его харизматическому лидерству — вызовом, с каким ему еще не приходилось сталкиваться.
Глава 13
Харизма и самоуверенность
Став свидетелем капитуляции Франции, 6 июля 1940 года Гитлер вернулся в Берлин, где его ожидали сцены всеобщего ликования, граничащие с истерией. Сотни тысяч берлинцев заполонили улицы, чтобы поприветствовать его. Школьники взбирались на фонарные столбы, чтобы видеть своего «вождя». Дорога, по которой двигался его автомобиль, была устлана цветами. Он ехал сквозь море флагов с изображением фашистской свастики. Все это возбуждение, весь этот экстаз были устремлены на этого худощавого человека. Если раньше Гитлер не допускал мысли, что является идеальным человеком, которого послало само Провидение, чтобы завоевать славу для Германии, то в эту минуту он наверняка уже верил в это.
Мы можем проникнуть в умонастроения Гитлера после падения Франции, вспомнив, что он говорил за две недели до этого события, во время утренней прогулки по Парижу. Посетив самые известные достопримечательности — включая Пантеон, Opra и гробницу Наполеона, — Гитлер сказал Альберту Шпееру, что «часто раздумывал, не разрушить ли Париж», так как этот красивый город мог составить конкуренцию Берлину. Но теперь он решилне разрушать французскую столицу, потому что Берлину предстояло «затмить» Париж своим величием.
Эти слова свидетельствовали, что в Гитлере «уживается несколько личностей, от человека, глубоко осознающего свою ответственность за судьбу нации, до жестокого человеконенавистника и нигилиста»‹1›. Но еще более вероятно, что он просто упивался своим личным могуществом. Он — и только он один — решал теперь судьбу одного из самых прекрасных городов на планете.
Самоуверенность и самонадеянность Гитлера просто не знали границ. Вплоть до того, что однажды на совещании с военачальниками в конце июля 1940 года он заявил, что положение Великобритании является «безнадежным» и, следовательно, «война нами выиграна»‹2›. Этот пример наглядно отражает преимущества и недостатки харизматического стиля руководства. Потому что те самые качества, которые позволили Гитлеру сыграть главную роль при завоевании Франции, теперь могли привести Германию к поражению. На протяжении следующих месяцев Гитлер наглядно продемонстрировал, куда эта самоуверенность, порожденная верой в свою харизму, может привести.
Великобритания не считала, что война ею проиграна, и теперь это стало главной проблемой для Германии. В своей речи в Рейхстаге 9 июля Гитлер обратился к Англии (он имел в виду Великобританию) с «призывом к благоразумию», утверждая, что не видит никакой «убедительной причины»‹3› с ее стороны продолжать войну. Но это был «призыв», который британцам суждено было отвергнуть. Во время серии заседаний военного кабинета (правительства военного времени), проведенных за несколько недель до этого события, когда положение Великобритании казалось безнадежным, так как считалось, что эвакуироваться и спастись, покинув территорию Франции, удастся лишь незначительному количеству британских солдат, Черчилль обсуждал со своими коллегами, какую позицию должна занять Великобритания, и провел решение продолжить вооруженную борьбу против Германии. Логика Черчилля была убедительной и заключалась в том, что любой мирный договор, подписанный сразу же после поражения Франции, требовал бы полного разоружения Британской армии, в результате чего страна оказалась бы полностью во власти Гитлера. «Следовательно, — сказал Черчилль, — наше положение не ухудшится, если мы продолжим борьбу, и пусть даже мы потерпим поражение — это все равно будет лучше, чем то, что нам предлагается сегодня»‹4›.
Теперь Гитлер обсуждал с гросс-адмиралом Редером‹5› возможность вторжения на территорию Великобритании с моря, со стороны южного побережья, но есть свидетельства, что оба сомневались в эффективности такой операции. И эти их сомнения были небезосновательными. По словам профессора Адама Туза, до мая 1938 года немцы не планировали начинать войну с Великобританией, не говоря уже о военном вторжении на ее территорию. Осуществление программы перевооружения флота началось только в январе 1939 года. На протяжении последних пяти лет Великобритания превосходила Германию по уровню расходов на военно-морской флот, и это отставание не сокращалось, а, наоборот, из года в год увеличивалось. Если же теперь они потерпят фиаско в Норвежском море и потеряют большую часть своих современных военных кораблей — что с точки зрения немецкого военно-морского командования явилось бы катастрофой, — у них практически не останется надводных судов, чтобы прикрывать вторжение в Великобританию летом 1940 года‹6›.
На этом фоне директива Гитлера № 16, призывающая к подготовке Unternehmen Seelwe (операции «Морской лев») — вторжению в Великобританию, — выглядит абсолютно абсурдной идеей, порожденной беспочвенным оптимизмом. Она предполагала почти полное уничтожение военно-воздушных сил Великобритании еще до вторжения на территорию Великобритании, что исключило бы любое серьезное сопротивление вторжению, а также полное минирование пролива Па-де-Кале, которое должно было предотвратить удары со стороны военно-морского флота Великобритании по немецким кораблям при попытке форсировать пролив. Но, как утверждает Эндрю Робертс, «даже если бы удалось нейтрализовать королевские ВВС Великобритании… я не думаю, что Германии удалось бы успешно осуществить захват Британии в 1940 году. Полагаю, что на тот момент просто не существовало конкретных планов переброски сухопутных сил через Па-де-Кале. У Германского флота не было достаточного количества плоскодонных судов, а те, что были, не отличались слишком хорошими судоходными качествами, и если бы ВМФ Великобритании добрались до них — началась бы настоящая бойня»‹7›. Все вышесказанное никоим образом не преследует цели принизить подвиг участников Битвы за Англию летом и осенью того года, а лишь отметить, что Гитлер и гросс-адмирал Редер отдавали себе отчет, что вторжение в Англию вряд ли возможно. В подтверждение 22 июля 1940 года Гитлер ясно дал понять фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу, что форсирование пролива Па-де-Кале — это «очень опасное» предприятие, к которому следует прибегнуть лишь в том случае, если не найдется других способов воздействия на Великобританию‹8›.
Все это привело к невероятно парадоксальной ситуации. В июле 1940 года Гитлер находился в зените славы, и немцы воспринимали его как харизматичного полководца. Вальтер Маут, которому тогда было 17 лет, вспоминает: «Во всех странах, куда мы вошли, война продолжалась не более двух-трех недель, и все шло, как по маслу. Никто не мог остановить немцев. И потому, по правде говоря, все были в эйфории — даже противники нацистского режима были сейчас на стороне Гитлера. Все шло так гладко, что все мы в одночасье превратились в националистов. Где ступила нога немецкого солдата — там не было места никому другому. И это — правда, так оно и было»‹9›.
Но с другой стороны, харизматичный полководец, который привел Германию к таким славным военным победам, не мог завершить войну с Великобританией, как ему того хотелось. С Великобританией! — чья слабая, небоеспособная армия была, по мнению Гитлера, разгромлена и вынуждена бежать с пляжей Дюнкерка.
Почему же Великобритания не хочет признать поражение? Фюрер был искренне озадачен неуступчивостью британцев. 13 июля генерал-полковник Франц Гальдер записал в своем дневнике, что Гитлер был невероятно озадачен «настойчивым нежеланием»‹10› Англии заключить мир. Может быть, Гитлер и был встречен берлинцами с восторгом 6 июля, может быть, он и привел Германию «к величайшей и самой славной победе за всю историю существования Германского государства». Но он не мог заставить Великобританию выйти из войны. Не говоря уже о заявлении лорда Галифакса в радиообращении 22 июля, где тот четко разъяснил, почему Великобритания отвергает немецкий «призыв к примирению». Галифакс сказал: «Гитлер заявил, что у него не было намерения разрушать Британскую империю, но в своей речи он ни разу не упоминул, что мир должен быть основан на законе и справедливости, он не сказал ни слова о праве других государств на самоопределение, которого он так часто требовал по отношению к немцам. Он аппелировал только к низменному инстинкту — инстинкту страха, и его единственными аргументами были угрозы… Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, что если Гитлер одержит победу, то многие, включая нас, потеряют все, ради чего стоит жить, т. е жизнь потеряет всякий смысл. Мы понимаем, что борьба может нам дорого обойтись, но те ценности, которые мы защищаем, дороже жизни, а защищать их — высокая честь для нас»‹11›.
На протяжении всей Второй мировой войны Гитлер неоднократно задавался вопросом, почему Великобритания отказалась от подписания мирного договора в этот ключевой момент. Он так и не смог понять, что британцы искренне верили — то, что они защищают, «дороже жизни». Это тем более странно, что самому Гитлеру был весьма близок тот же принцип — «все или ничего», «победа или смерть», — которому теперь следовала Великобритания. Словно поступать, как велит честь и принципы, считал своей привилегией, оставляя другим возможность исходить из низменных прагматических соображений.
Действия Гитлера летом 1940 года продемонстрировали также огромную лабость его стиля руководства в практической работе. Полагаясь на свою внутреннюю убежденность, фюрер совершенно не обращал внимания на изменения во взглядах своих противников. Он не понимал, что корни упрямства британцев произрастают из полного краха иллюзий на его личный счет — слову германского лидера просто невозможно было верить! Именно на этом Черчилль, тогда еще Первый лорд Адмиралтейства, и выстроил свою речь в марте 1940-го: «Некоторые невежды, дилетанты и слепцы спрашивают нас: „За что сражаются Британия и Франция?“ И я отвечаю им: „Если мы перестанем сражаться, вы очень скоро почувствуете это на своей собственной шкуре“»‹12›.
До Гитлера также доходила тревожная информация относительно возможности того, что в дальнейшем Великобританию поддержат США. «Это не просто война, — сказал президент Рузвельт 19 июля 1940 года во время общенационального съезда Демократической партии. — Это революция, навязанная силой оружия и повергающая в ужас людей во всем мире. Революция, нацеленная не на освобождение, но на порабощение людей в интересах диктатуры, которая уже продемонстрировала и свою природу, и степень выгоды, которую она намерена извлечь из этой революции. Именно это должно занимать мысли всех и каждого из нас. И если мы не ответим на этот вызов, ни один из нас не смеет даже надеяться сохранить свободу, к которой мы привыкли в мирное время».
Контраст между бесконечной верой в Гитлера немцев и его неспособностью убедить британцев и их американских друзей в том, что он уже выиграл войну, был разителен. И в результате Гитлер оказался под тяжелейшим давлением обстоятельств. Ему пришлось единолично решать, как выйти из сложившейся ситуации. Германское высшее командование грелось в лучах славы после победы над Францией: фюрер недавно наградил восьмерых генералов за их роль в этой кампании, возведя их в ранг фельдмаршалов, но теперь нужно было отдавать им новые приказы.
Решением было вторжение в Британию. Однако подобный шаг был не только чрезвычайно рискованным, Гитлер не был уверен в целесообразности разрушения Британской империи, поскольку считал ее хорошим противовесом американскому и азиатскому владычеству на море. Оккупация Британии также могла превратиться в проблему: эта страна, как и Германия, была относительно перенаселена и не могла обойтись без импорта продовольствия. Другим вариантом было запереть британский флот в Средиземном море, захватив Гибралтар и Суэцкий канал. Продолжая в то же самое время атаки на атлантические конвои из Америки, можно было бы довести Британию до того уровня нехватки продовольствия, при котором она согласилась бы на переговоры. Наконец, был еще один вариант, на первый взгляд совершенно безумный: нарушить Пакт о ненападении и направить свои войска против Сталина. Профессор Ян Кершоу говорит по этому поводу следующее: «Сегодня это кажется нам полнейшим безумием, но Гитлер всерьез вынашивал планы „победы над Лондоном посредством победы над Москвой“. Он собирался победить Советский Союз молниеносно — путем „блицкрига“, всего за пять месяцев. Великобритания, следовательно, останется без своего единственно возможного союзника в Европе, а американцы, впечатленные его успехом, предпочтут держаться в пределах своего полушария. Таким образом, война с Британией будет выиграна с помощью победы на противоположном фронте»‹13›.
Именно последний вариант в итоге и выбрали немцы, когда в воскресенье 22 июня 1941 года напали на Советский Союз, начав крупнейшее военное вторжение в истории. Именно это вторжение часто считают наибольшей ошибкой Гитлера как лидера харизматического типа. Историки до сих пор спорят о том, как Гитлер сумел убедить своих генералов совершить такое безумие — объявить войну Сталину? Достаточно вспомнить знаменитую фразу Бернарда Монтгомери. «Первое правило ведения войны, — сказал британский фельдмаршал, — никогда не нападать на Москву»‹14›. Ему вторит и германский генерал Франц Гальдер, рассказавший после войны о своей встрече с фельдмаршалом Браухичем в июле 1940-го, во время которой он назвал Гитлера дураком‹15› за его желание начать войну с Советским Союзом. Впрочем, высказывание Гальдера никак не отражает настроений, царивших в Германии в тот период. Какие бы опасения Гальдер ни испытывал в 1940 году, публично он никогда не выступал против вторжения в СССР, как он делал это годом ранее, перед нападением на Францию. Всего через несколько дней после окончания французской кампании он начал размышлять о том, какую славу ему может принести участие в такой авантюре, как война с Советским Союзом‹16›. К тому же нет никаких оснований утверждать, что немцы были согласны с утверждением Монтгомери. Они вполне могли считать его взгляды поверхностными. Русская кампания Наполеона действительно обернулась катастрофой, но история знала примеры и успешных вторжений в Россию. Например, хан Тохтамыш, наследник кумира Гитлера Чингисхана, вошел в Москву в 1392-м, истребив более 20 000 москвичей. К тому же генералы фюрера на своем веку сталкивались с примерами того, как можно уладить дела с СССР. В результате подписания Брест-Литовского мирного договора между Германией и только что возникшим Советским государством в марте 1918 года немцы получили под свой контроль обширные территории на востоке, включавшие запад Белоруссии и Украины, а также балтийские республики. И хотя по окончании Первой мировой Германия потеряла и эти, и многие другие территории, память о Брест-Литовском договоре сохранялась в умах многих немцев. Как писал немецкий историк Голо Манн, «Брест-Литовский мир называли всеми забытым миром, но немцы не забывают о нем. Они помнят, что победили Россию, и смотрят на это (пусть и невознагражденное) военное достижение как на реальное с гордостью»‹17›.
И все-таки германскому военному командованию идея Гитлера о вторжении в Советский Союз казалась более разумной, чем другие варианты. Фюрер обсуждал с генералами эту идею 31 июля 1940-го в Бергхофе‹18›. Первая половина конференции была занята длинным и мрачным докладом гросс-адмирала Редера относительно перспектив вторжения в Великобританию. Редер осмелился прямо предложить Гитлеру перенести любое вторжение на следующий год, причем сделал это еще до того, как стало известно о результатах массированной бомбардировки самолетами люфтваффе английской территории. И фюрер, которого всегда приводило в ярость отсутствие воодушевления у его командующих, на этот раз тоже выразил свой скептицизм относительно осуществимости вторжения. После этого он заявил, что раз уж они решили не вторгаться в Британию, то «нужно сконцентрироваться на устранении всех факторов, которые могли бы дать Великобритании надежду на то, что ситуация изменится». А это, в свою очередь, означало, что Россия (Гитлер упорно называл Советский Союз Россией, хотя в его состав входило еще более дюжины республик) должна быть «повержена». С этого момента подготовка вторжения в Советский Союз шла параллельно с проходившей без особого энтузиазма разработкой операции «Морской лев», которая в итоге в сентябре 1940-го была отложена на неопределенное время.
Идея вторжения в Советский Союз имела практический смысл для многих гитлеровцев. И не в последнюю очередь потому, что очевидным было ослабление Красной Армии в результате чисток 1930-х, примером чего стала относительно неудачная финская кампания предыдущей зимой. Как известно, сам Гитлер никогда не проводил в своей армии широкомасштабных чисток, направленных против офицеров, не являвшихся ярыми сторонниками нацистской идеологии. И действительно, по словам Геббельса, Гитлер считал, что Сталин «вероятно, психически ненормальный»‹19›, раз решил расстреливать и другими путями убирать из армии наиболее опытных офицеров по малейшему подозрению в политической неблагонадежности.
Для германских офицеров, таких как Петер фон дер Гребен, все это означало не только определенную уверенность в исходе любого конфликта с Советским Союзом, но и разумность идеи нападения в принципе. «С моей точки зрения, вторжение в Советский Союз было в каком-то — и в первую очередь военном — смысле почти неизбежным. Какова была ситуация? Франция повержена. Попытка навязать Англии войну на суше посредством пресловутой операции „Морской лев“ провалились из-за невозможности достичь превосходства в воздухе: мы лишь продолжали терять самолеты в боях с английскими ВВС. Было ясно, что в обозримом будущем — максимум через два года — Америка вступит в войну на стороне наших противников. Всем известно, что Рузвельт планировал вступить в войну с самого начала. В результате стал вопрос: что мы можем сделать для того, чтобы противостоять этой угрозе? А с противоположной стороны находится абсолютно непредсказуемая Россия, и аппетиты ее все растут… в результате, на мой взгляд, было абсолютно необходимо устранить русскую угрозу до того, как американцы вступят в войну. … Многие, включая военное командование, считали, что будет относительно просто уничтожить русскую армию одним мощным и стремительным ударом. В свете информации о РККА, которой мы располагали, я тоже считал, что победа над ней не составит большого труда»‹20›.
Помимо этого, вторжение в Советский Союз должно было дать Гитлеру возможность достичь главной цели концепции «расширения жизненного пространства на востоке» — Lebensraum — сформулированной на страницах «Майн кампф» за 16 лет до этого. И, наконец, Гитлер получал возможность повести немцев против тех, кого называл «центром иудейско-большевистского заговора»‹21›. Неудивительно, что идея конфликта с Советским Союзом была с готовностью принята верившими в нацистскую пропаганду эсэсовцами, подобными Вальтеру Трапхенеру. «Понимаете, мы хотели не дать большевикам захватить власть над миром… Мы были полны решимости не пустить большевизм дальше в Европу»‹22›.
Но и в практических, и в идеологических причинах вторжения в Советский Союз, объявленных Гитлером и его сторонниками, был серьезный логический изъян. 31 июля Гитлер заявил, что «Россия — это тот фактор, на который Великобритания полагается в наибольшей мере». Однако это было не так. Ключевые фигуры в британском правительстве всегда относились к Советскому Союзу с подозрением и уж точно не полагались на Сталина. Чемберлен, лорд Галифакс и Черчилль неоднократно говорили о коммунистах с открытой неприязнью. Совсем недавно, 31 марта 1940-го, Черчилль публично назвал события в Финляндии демонстрацией «уродств», которые коммунизм — эта «смертельная психическая и моральная болезнь» — вызывает на теле любого народа и государства‹23›. Да и Сталин не собирался вступать в войну, рассчитывая на то, что Германия и страны Запада истощат друг друга в войне. И хотя отношения между нацистами и Сталиным становились натянутыми (и не в последнюю очередь из-за оккупации Советским Союзом государств Прибалтики летом 1940-го), никаких признаков того, что он намеревается начать войну против Германии, не было.
Не на помощь России рассчитывала Британия, а на поддержку Америки. 20 мая 1940 года, в один из наиболее трагических дней битвы за Францию, Черчилль написал в письме президенту Рузвельту: «Если Соединенные Штаты оставят Великобританию на произвол судьбы, ни у кого не будет потом права обвинить нас в чем бы то ни было за согласие пойти на условия, гарантирующие выживание нашим гражданам»‹24›. Как напоминает профессор Дэвид Рейнольдс, Черчилль «всегда рассчитывал на Соединенные Штаты. Он был наполовину американцем со стороны матери и всегда настаивал на том, что Великобритания должна создать альянс с США и втянуть Америку в европейские дела. У Черчилля, в отличие от Галифакса или Чемберлена, стремление к союзу с Америкой было инстинктивным. Однако после драматического поворота в войне, произошедшего летом 1940-го, руководство Британии стало смотреть на США как на единственный источник серьезной поддержки»‹25›.
Еще задолго до вступления в войну в декабре 1941-го, после нападения на Перл-Харбор, Америка предоставляла Великобритании военную помощь. Более того, в декабре 1940-го, после своего переизбрания на пост президента, Рузвельт объявил о начале программы ленд-лиза, в рамках которой Соединенные Штаты брали на себя обязательство поставлять Британии оружие и военную технику, не требуя при этом немедленных платежей. И в июле 1940-го Черчилль знал, что за последующие полтора года Америка планирует поставить Британии более 10 000 самолетов‹26›. Это плюс те 15 000 самолетов, которые англичане сами произвели за этот период, определило, что численность Королевских ВВС росла быстрее, чем численность люфтваффе.
Единственным практически реализуемым способом остановить поток грузов из Америки было потопление торговых суден в Атлантике. И здесь немцы столкнулись с проблемой. Программа строительства подлодок пребывала в забвении несколько лет, поскольку основным приоритетом немцев было создание гигантской надводной армады. К началу войны на вооружении Германии состояло менее сорока субмарин, способных атаковать конвои в водах Северной Атлантики. А к моменту падения Франции в июне 1940-го их количество возросло лишь на 20 единиц‹27›.
План избавления от американской угрозы, предложенный Гитлером своим генералам, был нелепым даже на фоне других его идей. Он заявил, что победа над Россией позволит Японии в большей мере сконцентрироваться на своих завоеваниях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приведет к ее конфликту с Америкой. Вследствие этого американцы оказались бы заняты защитой своих собственных интересов на другом конце земного шара. Кроме того, рассуждал фюрер, даже если бы американцы и решили вмешаться в войну в Европе, им бы понадобилось несколько лет на подготовку. Немцы бы за это время захватили весь материк, и ресурсы их новой империи на Востоке сделали бы их неуязвимыми для любого нападения‹28›.
Вся стратегия Гитлера была построена на надеждах. Он надеялся, что американцы не смогут оказать военную помощь Великобритании, если окажутся втянуты в конфликт с Японией в Тихом океане. Надеялся на то, что британцы будут вынуждены подписать с ним мир в случае поражения Советского Союза. Одна надежда строилась на другой. Но даже Гитлер не мог скрыть того факта, что он не в силах воплотить ни одну из них. Он не мог переправить германские войска через Атлантику, чтобы победить Америку, как оказалось, он не сумел даже переправить их через Ла-Манш для победы над Британией. К тому же, будучи по происхождению и образу мыслей уроженцем Центральной Европы, он никогда не испытывал особого восторга относительно перспектив морских сражений. Он считал, что Германии следует сосредоточиться на завоевании материка.
Тем не менее летом 1940-го никто всерьез не оспаривал идеи фюрера. Его харизматическая аура усилилась: все вокруг знали о его недавних успехах. Гитлер сказал, что Германия сможет победить Францию, и все, кто сомневался в нем, были посрамлены. Теперь он заявлял, что Британию и Америку можно победить, напав на Советский Союз. В соответствии с докладом СД, которая отслеживала и анализировала общественное мнение внутри страны, в конце 1940 года широкие массы населения, не знавшие об истинных планах фюрера, выражали ему полную поддержку. Мнение жителя северогерманского города Шверин, заявившего, что «когда говорит фюрер, все сомнения исчезают сами собой»‹29›, было названо СД «типичным». В другом докладе, датированном летом 1940 года, утверждалось, что речь Гитлера после его возвращения из Франции «была воспринята с огромным подъемом (Ergriffenheit) и энтузиазмом». Здесь в качестве примера преобладающих настроений приводится фраза о том, что «речь фюрера была подобна всеочищающей грозе»‹30›.
Другой причиной подобного отношения было чувство превосходства, вбивавшееся в головы немцам, в особенности после победы над Францией. «Нас учили, что лишь немцы являются достойными представителями человеческой расы», вспоминает человек, бывший в те времена студентом. «Были буклеты, называвшиеся „Немецкие изобретатели“, „Немецкие поэты“, „Немецкие музыканты“. Больше не существовало никого. И мы глотали их, мы были полностью убеждены, что являемся величайшей нацией. Мы слушали новостные сводки, мы были невероятно горды и взволнованны, некоторые даже плакали от гордости. Я и сам не могу понять этого сегодня, но все действительно было так, поверьте мне… даже мой всегда скептически настроенный отец вдруг начал говорить „мы“. А ведь раньше, рассказывая истории о войне или о чем-нибудь еще, он всегда говорил „я“. А теперь — „мы“. Да „мы“ — просто шикарные ребята!»‹31›
Решение Гитлера напасть на Советский Союз основывалось на объединении исторической памяти, практических соображений и романтики — мощного сочетания, манипулировать которым фюрер прекрасно умел. После завоевания тевтонцами в XIII веке земель в Прибалтике все немецкие рыцарские истории повествовали о завоевании «Востока». Если же говорить о недавних конфликтах, то немцы, воевавшие на территории России во время Первой мировой, а также в прибалтийских фрайкорах сразу после войны, сформировали об этих обширных землях свое собственное мнение, противоположное старым мифам. «Дремучая Россия без проблеска центральноевропейской культуры, Азия, степь, болота, глубочайшее дно, — вспоминал один немецкий солдат, — отвратительная, захолустная пустошь»‹32›. Другой видел немцев цивилизирующей силой на этой дикой земле, «пионерами культуры», в результате чего «немецкий солдат, сознательно или нет, превращался в просветителя на вражеской земле»‹33›. Более того, немецкие стратеги прекрасно понимали степень зависимости от советского импорта, в особенности нефти и зерна, без которого они просто не смогли бы продолжать войну. Что, если Сталин станет угрожать прекращением поставок важнейших ресурсов? Почему бы вместо этого раз и навсегда не заполучить постоянный и гарантированный доступ к ресурсам, просто завоевав их?
Прибытие 12 ноября 1940 года в Берлин советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова лишь убедило Гитлера в правильности его планов. Молотова пригласили для обсуждения советско-германских отношений через 15 месяцев после подписания пакта о ненападении. Управленческие методы советского министра были полной противоположностью методам фюрера. Он был настолько привычен к бесконечным заседаниям, что получил прозвище «каменный зад». Он был практичен, всегда уделял внимание текущим делам и с подозрением относился к амбициозным фантазиям. Прямая противоположность образу харизматика, он был последним человеком, которого впечатлили бы воздушные замки германского лидера. И это подтвердилось уже во время встреч в рейхсканцелярии 12 и 13 ноября.
Гитлер начал с заявления о том, что он хочет прямо поговорить о советско-германских отношениях. Он желал опустить «мелкие повседневные вопросы». Затем он поднял «проблему Америки», заявив, что американский план помощи Британии был лишь циничной уловкой, направленной на «ускорение их собственного перевооружения и усиления мощи путем приобретения новых военных баз»‹34›. Но при этом фюрер заявил, что Америка сможет представлять «серьезную угрозу» для других стран не раньше 1970–1980-х, после чего предложил СССР присоединиться к Тройственному пакту, подписанному Германией, Италией и Японией незадолго до этого.
Но Молотов продемонстрировал заинтересованность именно в «мелких повседневных вопросах». Он проигнорировал желание Гитлера поговорить на отвлеченные темы и предложил сосредоточиться на безотлагательных практических вопросах, таких как намерения Германии относительно Финляндии. Гитлер быстро ответил на этот вопрос («Финляндия остается в сфере интересов России») и перенесся в мир будущего — во времена «после завоевания Англии», когда «Британская империя будет разделена, как обанкротившееся имение, раскинувшееся на 40 миллионах квадратных километров. И в этом обанкротившемся имении Россия получит доступ к океану, который всегда будет свободен ото льда и судоходен». Однако трудно было представить себе человека, который был бы менее заинтересован, чем Молотов, в разделе имущества страны, которую еще только предстояло завоевать, причем и победа совсем не гарантирована. Во время следующей встречи, уже с Риббентропом, Молотов вполне ясно сказал, что ему хорошо известны германские планы на будущее, которые основаны на одном лишь предположении, что война с Великобританией «фактически уже выиграна».
Граничившее с открытой издевкой отрицание Молотовым харизмы Гитлера было отражением не только его собственных взглядов, но и презрительного отношения Сталина к подобному стилю руководства. В борьбе за политическое наследие Ленина Сталин сумел сокрушить как минимум двух харизматичных противников — Зиновьева и Троцкого. Он победил их посредством хитрости и грубой силы. Гитлер уповал на риторику, которая привлекала его сторонников, в то время как Сталин использовал совершенно иные методы. «Не стоит доверять словам, — говорил он. — Дела важнее слов»‹35›. Так что провал переговоров с Молотовым был предсказуем, и вскоре после них, 18 декабря 1940-го, Гитлер отдал официальную директиву о начале разработки плана «Барбаросса» (Unternehmen Barbarossa) — плана вторжения в Советский Союз.
Между тем события в Польше продолжали демонстрировать, как отношения между Гитлером и его сторонниками могут порождать как огромную энергию, так разрушительность системы. Как это было и до войны, неспособность Гитлера ставить четкие задачи определяла образ действий его идеологических соратников. Как утверждает профессор Норберт Фрай, «важнее всего было быть расплывчатым в рассуждениях, ведь ты все равно не имел ясной картины, даже будучи на вершине иерархии»‹36›. Как сказал Йозеф Геббельс во время закрытого брифинга для немецкой прессы 5 апреля 1940 года: «Если сегодня кто-то спросит нас, как воспринимать новую Европу, мы вынуждены будем признать, что сами этого не понимаем. Ну, у нас конечно же есть соображения на этот счет. Но если мы их озвучим, это немедленно создаст нам новых врагов и породит противодействие… Сегодня мы говорим Lebensraum (борьба за жизненное пространство), и пусть каждый воображает себе все, что хочет. А мы узнаем, чего мы хотим, когда придет время»‹37›.
Примером могут служить новые правители Польши, чьи действия привели к ошеломляющему уровню насилия и беспорядка. Так, Артур Грайзер, возглавлявший Вартегау (название Западной Польши после ее аннексии Третьим рейхом, ставшее одним из рейсгау нацистского государства) в Польше, и Артур Форстер, гауляйтер рейхсгау Данциг — Западная Пруссия, обладали огромной личной властью и не были напрямую никому подотчетны. Оба были гауляйтерами, то есть окружными лидерами (рейх разделялся на «Gau» — округа, каждым из которых и управлял гауляйтер). Гауляйтеры назначались Гитлером напрямую и отчитывались непосредственно перед ним. Многие были его соратниками с самого возникновения нацистского движения. Альберт Форстер, например, поступил на службу в СА в 1923-м в возрасте 21 года. Гитлер сказал и Форстеру, и Грайзеру, что «у них есть десять лет на германизацию их провинций, и его не интересует, какие методы они будут использовать»‹38›. В результате этой свободы действий, каждый использовал свои собственные методы: Грайзер, близкий соратник Гиммлера, использовал проверенные нацистские методы определения «немецкости», Форстер, не менее жестокий, но куда более предпочитавший laissez-faire[8] в своих методах, считал, что будет проще и быстрее определять «немецкость» целых деревень и «онемечивать» население в массовом порядке. В обоих случаях последствия для тех, кто оказывался «не-немцем» были катастрофическими: их депортировали на территорию Генерал-губернаторства[9] навстречу практически неизбежной голодной смерти.
Еще больший хаос в Польше спровоцировало прибытие нескольких сотен этнических немцев, которые, по соглашению со Сталиным, эмигрировали на территорию рейха из вошедших в состав СССР балтийских государств. Для многих из них было шоком узнать, что рейх, в котором им пообещали дом, располагался не в довоенных границах Германии, а на вновь присоединенных территориях, еще недавно бывших Польшей. Некоторым из этих новых иммигрантов просто отдали квартиры и магазины, принадлежавшие депортированным полякам или отправленным в гетто евреям. А большинство этнических немцев и вовсе не получили никаких домов, оставшись в лагерях временного содержания дожидаться, пока нацистские власти разберутся с возрастающим ворохом проблем.
Руководил всеми этими издевательствами над людьми Генрих Гиммлер. Ему, как и Форстеру, Грайзеру и другим нацистским руководителям Польши, Гитлер предоставил огромную свободу действий в деле расовой реорганизации Польши. И Гиммлер знал, что фюрер поддержит любую жестокость и любые крайности для достижения этих целей. К тому же Гиммлер, несмотря на то что в 1940 году ему было всего 39 лет, был ветераном нацистского движения. Он принимал участие в Пивном путче в 1923-м, а затем, в 1934 году, пошел против своего старого патрона Эрнста Рема во время «Ночи длинных ножей».
Более того, Гиммлер был ярым приверженцем теории о ключевой роли «расы» в истории человечества. «Мы должны четко понимать одну вещь, — сказал он во время встречи нацистских гауляйтеров в феврале 1940 года, — мы должны быть убеждены — и я верю в это так же, как я верю в Бога, — что нордическая кровь — это лучшая кровь на Земле… И через тысячи лет она будет лучшей. Другой такой крови нет. Мы выше, чем что бы то ни было и кто бы то ни был. И как только мы освободимся от комплексов и ограничений, не будет никого, кто сравнится с нами в качестве и силе»‹39›.
В целях поиска «лучшей крови» Гитлер в октябре 1939 года назначил Гиммлера на пост рейхскомиссара по вопросам консолидации германского народа, отвечавшего за реализацию расовой переселенческой и поселенческой политики нацистского режима, и на этой должности Гиммлер попытался провести одну из наиболее масштабных этнических реорганизаций в истории. Как Геббельс написал в своем дневнике в январе 1940-го, «Гиммлер сейчас занимается перемещением населения. С переменным успехом»‹40›.
Причина, по которой Гиммлер смог развязать насилие на Востоке в таких масштабах, была очевидной — Гитлер верил в его безграничную преданность и убежденность в «харизматическом гении» фюрера. Еще в 1923-м, до личного знакомства с Гитлером, Гиммлер написал о нем: «Воистину это великий человек и, что еще важнее, человек настоящий и чистый»‹41›. Но, несмотря на все доверие со стороны фюрера, руководитель СС вынужден был отстаивать свои инициативы в борьбе с другими властными структурами на территории Польши. Так, когда Гиммлер выразил недовольство тем, как вяло проводится политика расового отбора Альбертом Форстером в Данциге — Западной Пруссии, то столкнулся с практически непреодолимыми препятствиями, поскольку Форстер, как гаулейтер региона, имел прямой доступ к Гитлеру. У Гиммлера тогда же начался конфликт и с Герингом. Геринг получил возмущенное письмо от Ганса Франка, нацистского правителя Генерал-губернаторства Польши, который писал к Герингу как ответственному за реализацию «четырехлетнего плана» с просьбой обратить внимание на последствия массовых депортаций во вверенные ему районы Польши в рамках программы Гиммлера по расовой реорганизации.
Но Гиммлер был мастером маневрировать в условиях конфликта интересов честолюбивых руководителей. Он знал, что Гитлер не любит вникать в бюрократическую переписку и предпочитает, чтобы подчиненные угадывали его желания непосредственно по речам. Вот почему Гиммлер понял, что требуется от него лично и от СС в целом для удара по Рему и руководству СА в целом. Но он также понимал, что иногда — хоть и не часто — полезно представлять фюреру свои предложения в письменном виде. Впрочем, письменные петиции следовало подавать только в случае экстренной необходимости и только тогда, когда Гитлер пребывал в подходящем расположении духа. В мае 1940 года, по мнению Гиммлера, ситуация отвечала обоим этим условиям, поэтому он направил фюреру длинный меморандум под названием «Об обращении с инородцами на Востоке». Гиммлер крайне нуждался в помощи Гитлера в вопросах проведения расовой политики в Польше и направил ему этот документ с таким расчетом, чтобы фюрер получил его в тот момент, когда немцы успешно сражались во Франции.
Гиммлер никогда не обращался к Гитлеру за решением проблем. Напротив, он сам предлагал решения, которые, как он полагал, вписывались в видение фюрером стратегии на Востоке. Он предлагал, чтобы к «негерманскому» населению «восточных территорий» относились как к неграмотным рабам и учили лишь следующему: «простому счету не более чем до 500, написанию собственного имени, доктрине, в соответствии с которой подчинение немцам было священной обязанностью, а также честности, трудолюбию и добродетельности. Учить их читать, думаю, необязательно»‹42›. Задачей же немцев должен быть поиск на этих территориях детей «нашей крови», чтобы отбирать их у родителей и отправлять на воспитание в Германию.
Столь радикальный и расистский план был точно рассчитан на то, чтобы затронуть чувства Гитлера — и он их затронул. Гитлер сказал Гиммлеру, что план «хороший и правильный» (gut und richtig). Как говорит профессор Кристофер Браунинг, «решения принимались именно таким образом». «Гитлер не занимался тщательной разработкой плана с последующей подписью и отправкой по инстанции. Он лишь выразил Гиммлеру одобрение и предложил ему убедить остальных в своей правоте, апеллируя к авторитету фюрера, если те будут с ним не согласны. Вот только не было никаких гарантий, что Гитлер не отзовет свое одобрение впоследствии. Иными словами, Гитлер выражал Гиммлеру одобрение за то, что тот разгадал его долговременную стратегию, однако сохранял возможность дистанцироваться от его решений в случае необходимости»‹43›.
Подобная система «взгляда свыше», при которой проработкой и реализацией стратегии приходилось заниматься подчиненным, привела к тому, что эти подчиненные стали все чаще давать невыполнимые обещания. В отличие от генералов, высказывавших обоснованные возражения относительно планов вторжения во Францию, приверженцы харизмы фюрера, такие как Гиммлер и Геринг, пытались любым способом угодить ему, давая практически — или даже абсолютно — невыполнимые обещания. К лету 1940 года Геринг продемонстрировал подобную тягу уже много раз. В экономическом плане это вылилось в создание нереализуемого «четырехлетнего плана», а в военном — в заверениях, что люфтваффе уничтожит войска союзников, скопившиеся на песчаных берегах Дюнкерка. Гиммлер также продемонстрировал неспособность реализовать амбициозные планы расовой реорганизации. Результатом попыток данной реорганизации стал не только административный и экономический хаос, вызванный массовым переселением поляков из одних регионов Польши в другие, но и то, что многие этнические немцы, прибывшие на территорию Нового рейха в поисках лучшей жизни, оказались вынуждены жить в транзитных лагерях, поскольку им некуда было податься. Однако в меморандуме Гиммлера об этом не было ни слова, он лишь призывал к дальнейшему расширению программы расовой реорганизации Востока. Как и Геринг, Гиммлер знал, что больше всего на свете Гитлер любит планы, излучающие оптимизм и радикализм одновременно.
Еще одним следствием харизматического стиля руководства стало то, что ближайшие подчиненные Гитлера начали подражать его манере игнорировать практические проблемы, препятствующие достижению цели. Гиммлер продемонстрировал это качество бесчисленное количество раз, но особенно ярким примером стал его первый визит в концлагерь Аушвиц весной 1941 года. На том этапе своего развития Аушвиц был призван наводить ужас на польское население Верхней Силезии. Когда лагерь открылся в июне 1940-го, его первыми узниками стали польские политзаключенные. Многие из них умерли в результате жестокого обращения, однако лагерь в тот период еще не был местом систематического истребления. Гиммлер решил посетить Аушвиц в связи с тем, что химический гигант IG Farben заинтересовался в открытии нового промышленного предприятия неподалеку от лагеря. Гиммлер рассчитывал, что часть заключенных Аушвица можно будет использовать как рабочих на комплексе по производству синтетического каучука «Буна».
Первого марта 1941-го Гиммлер встретился с комендантом Аушвица Рудольфом Хессом, а также другими местными нацистскими бонзами, включая гауляйтера Верхней Силезии Фрица Брахта. Гиммлер заявил, что лагерь будет увеличен в три раза, и отверг все возражения, включая проблемы с нечистотами, произнеся следующую фразу: «Господа, лагерь будет расширен. Мои причины гораздо важнее ваших возражений»‹44›. Эта фраза вполне могла быть цитатой из Гитлера, и, если задуматься, была совершенно абсурдной — ведь практические возражения по плану Гиммлера никуда не девались оттого, что он их проигнорировал. Рудольф Хесс попытался еще раз объяснить Гиммлеру всю серьезность проблем, с которыми он столкнется при попытке увеличить вместимость лагеря с 10 000 до 30 000 заключенных. «Я больше не желаю слышать ничего о трудностях! — ответил Гиммлер. — Для офицера СС не существует понятия трудности! Когда они возникают, его задача — избавиться от них. Как это сделать — это ваша проблема, а не моя!»
Вместе с тем, несмотря на всю нелепость этой управленческой системы, она смогла просуществовать дольше, чем можно было предположить, — на что были скрытые причины. Годами Гитлер подчеркивал, что цели в первую очередь достигаются с помощью силы воли и веры в победу, — и в доказательство приводил захват власти нацистами и разгром Франции. Но еще важнее было то, что судьбы людей, которые могли пострадать в результате подобных действий, не волновали нацистов — они были даже рады их страданиям. В случае поляков, тысячи которых погибли в поездах на пути в Генерал-губернаторство или умерли от голода и холода по прибытии туда, нацистам было наплевать, так как это была всего лишь «неорганизованная рабочая сила».
Наиболее ярко эта тенденция ставить нелепые цели и игнорировать страдания людей, когда они оказывались невыполнимыми, проявилась в действиях нацистов по отношению к евреям. Под контролем нацистов к сентябрю 1939-го оказалось значительное число польских евреев — почти два миллиона. Изначально Гитлер планировал продолжить по отношению к ним довоенную политику преследования и выселения. Несколько тысяч польских евреев были расстреляны специальными карательными подразделениями — айнзацгруппами, но гораздо большая часть была отправлена в гетто дожидаться депортации. Но еще на раннем этапе разработки плана в него включили возможность для командиров этих групп действовать по своему усмотрению. Рейнхард Гейдрих писал в своих инструкциях айнзацгруппам: «Вполне очевидно, что все детали будущих задач не могут быть определены из Центра. Все изложенные ниже инструкции и рекомендации должны служить лишь общим руководством и способствовать командирам айнзацгрупп в принятии самостоятельных решений»‹45›.
Двадцать девятого сентября Гитлер заявил, что он хочет, чтобы евреи были перемещены в юго-восточную часть нацистской империи, отдаленный регион, расположенный между Бугом и Вислой‹46› у самой границы с польскими территориями, занятыми Советским Союзом, где их заставят работать в трудовых лагерях. Адольф Эйхман, 33-летний капитан (гаупштурмфюрер) СС, особенно проявивший себя во время депортации австрийских евреев после аншлюса, попытался воплотить эту идею, как только услышал о ней. Нет никаких свидетельств, что Эйхману приказали это сделать. Скорее всего, он по собственной инициативе попытался организовать депортацию, поскольку считал, что это понравится начальству. 6 октября Эйхман встретился с шефом гестапо Генрихом Мюллером, который желал провести несколько пробных депортаций в целях проверки системы. За несколько дней Эйхман перевыполнил эту задачу и начал разрабатывать план по депортации евреев из Вены. Просто невероятно, как это удалось в столь краткие сроки, но первый поезд с тысячей евреев отбыл с территории Юго-Западной Польши из города Острава, находящегося сегодня на территории Чешской Республики, 18 октября. А ведь Гитлер объявил о своих планах всего за три недели до этого‹47›. 20 октября поезд примерно с тем же числом евреев отправился уже из Вены.
Стремясь депортировать евреев из Вены, Эйхман также пытался решить проблему, которую нацисты создали сами для себя в результате аншлюса и начатой еще до войны масштабной программы ариизации. Закрывая или экспроприируя принадлежащие евреям предприятия, нацисты лишали их возможности зарабатывать себе на жизнь. Если евреи не могли эмигрировать, то становились «обузой» для нацистского государства. Еще до войны Вальтер Рафельсбергер‹48›, один из нацистских функционеров, занятых в сфере экономического планирования, предложил, чтобы оставшихся евреев отправляли в лагеря, где их задействовали бы на строительных работах. Теперь, в условиях войны, подобные идеи казались вполне осуществимыми.
Впрочем, неудивительно, что план Эйхмана привел к полному хаосу и причинил страшные страдания евреям, доставленным в окрестности городка Ниско-на-Сане, расположенного неподалеку от польского Люблина. Жить было негде, им приказали строить себе бараки. Некоторых просто отвезли к границе советской части Польши и приказали уходить и никогда не возвращаться. В ноябре 1939-го последующие перевозки евреев запретили, и проект был заброшен, однако многие евреи продолжали жить в ужасных условиях временного лагеря под Ниско до мая 1940 года.
План Эйхмана был отменен никем иным, как Гиммлером — но отнюдь не потому, что его волновали страдания евреев. Причиной было то, что у Гиммлера в тот момент появился новый приоритет — организация переселения этнических немцев, прибывающих с территории Советского Союза, а проект Эйхмана в Ниско оттягивал на себя ресурсы. К тому же у Гиммлера были свои планы по депортации польских евреев в глубь территории Генерал-губернаторства. Столь непроработанная схема привела к огромным административным проблемам, вызвавшим жалобы со стороны Геринга, что, в свою очередь, и стало причиной возникновения меморандума, который Гиммлер направил Гитлеру в мае 1940 года.
Тем не менее, несмотря на свой недолгий век, схема, применявшаяся в Ниско, является ярким примером того, как работала нацистская система руководства — особенно в отношении евреев. Гитлер почти не принимал в ней участия — но его санкция имела ключевое значение. Таков был стиль руководства, что любого намека на то, что фюреру что-то нравится, было достаточно, чтобы подчиненные, даже такого невысокого ранга, как Адольф Эйхман, хватались за дело, невзирая ни на какие практические трудности. Как показала эволюция антисемитской политики нацистов, сила убеждения Гитлера была настолько сильна, что самые безумные мечты казались абсолютно осуществимыми, причем фюреру даже не приходилось воплощать их самому — другие, угадывая его желания, делали это за него. Гитлер создал атмосферу, в которой, как Гиммлер сказал в своей речи в феврале 1940 года, нацисты «были свободны от ограничений и запретов».
К лету 1940-го стала очевидной неосуществимость не только плана Эйхмана в Ниско, но и идеи Гиммлера по переселению польских евреев на территорию Генерал-губернаторства. Тем временем польских евреев продолжали заключать в гетто, расположенные в крупных городах, таких как Варшава, Лодзь и Краков, где многие уже умирали от голода и болезней. Эстера Френкель, оказавшаяся вместе со своей семьей в Лодзинском гетто весной 1940 года, говорила, что условия были настолько плохими, что «единственной мыслью было пережить сегодняшний день»‹49›. Гетто, изначально созданные лишь в качестве мест временного содержания евреев, ожидавших депортации, стали постоянными тюрьмами. Люди страшно страдали. Один поляк, увидевший в каких условиях живут евреи в Варшавском гетто в 1941 году, написал в своем дневнике: «Большинство из них имели кошмарный вид, они превратились в тени, просто привидения… На улицах кричали умирающие от голода дети — их никто не слушал. Они рыдали, молили, плакали, стонали. Эти скелеты тряслись от холода — на них не было ни белья, ни одежды, ни обуви — лишь тряпье, мешковина и какие-то обрывки, обмотки. Дети, опухшие от голода, бесформенные, в полубессознательном состоянии. В пятилетнем возрасте уже абсолютно взрослые, мрачные и уставшие от жизни»‹50›.
Нацистские руководители, такие как Генрих Гиммлер и Ганс Франк, были не просто безразличны к страданиям людей, они были очень довольны тем, что происходило. «С евреями нужно расправиться быстро. Какая радость — наконец-то уничтожить еврейскую расу физически. Чем больше их умрет — тем лучше»‹51›, — так выразился Франк в ноябре 1939 года при обсуждении обреченного на неудачу плана выселения евреев к востоку от Вислы.
В поисках способов реализации программы по выселению евреев предлагались и совсем уж странные в своем радикализме варианты. Так, чиновник германского Министерства иностранных дел Франц Радемахер предложил летом 1940 года отправлять евреев во французскую колонию Мадагаскар, остров у юго-восточного побережья Африки. Хотя идея выселить евреев куда-нибудь подальше от Европы была не нова. Первым, кто предложил выселять евреев на Мадагаскар, был Пауль де Лагард, немецкий антисемит, живший в XIX веке‹52›, и предложил он это отнюдь не для их блага — он был согласен истребить их любым способом‹53›. (К слову, Лагард высказал вообще много идей, принятых впоследствии нацистами, — таких, как ненависть к либерализму и желание расширить границы Германии.) Позднее в своем меморандуме в мае 1940 года Гиммлер выразил надежду на то, что понятие «„евреи“ полностью выйдет из употребления благодаря полному их переселению в Африку либо другие колонии».
Но именно Радемахер вынес идею с Мадагаскаром на всеобщее обсуждение. Этот человек был не просто карьерным дипломатом, но и убежденным нацистом, только что назначенным главой Департамента по делам евреев (Judenreferat) германского Министерства иностранных дел. Он полагал, что победа над Францией и капитуляция Великобритании — которая, по его мнению, была неминуема — означали бы прекращение войны в Европе и открывали совершенно новые перспективы в будущем.
Одной из них была бы «отправка западных евреев из Европы, к примеру, на Мадагаскар»‹54›. Меморандум Радемахера по этому вопросу был направлен его непосредственному начальнику, заместителю министра Мартину Лютеру, и датировался 3 июня 1940 года. Но всего через три недели Рейнхард Гейдрих, узнавший о попытке Радемахера вовлечь Министерство иностранных дел в то, что он считал своей компетенцией, заявил министру иностранных дел Риббентропу о своем желании участвовать в решении этого вопроса. В результате, еще шесть недель спустя, Эйхман представил обширные предложения по отправке четырех миллионов евреев на верную смерть на Мадагаскар. План составлялся под надзором СС.
Нет никаких сомнений, что этот план был одобрен Гитлером. Тем летом он сообщил о нем Муссолини, и Геббельс после встречи с Гитлером 17 августа записал в своем дневнике: «Впоследствии мы хотим отправить евреев на Мадагаскар»‹55›. Эти новости даже достигли узников Лодзинского гетто. «Люди говорили о Мадагаскаре, — рассказывает Эстера Френкель, работавшая в 1940 году секретарем администрации гетто. — Впервые я услышала об этом, когда гестаповец Рихтер сказал Румковскому (еврейскому главе гетто): „Мы отправим вас всех на Мадагаскар, там ты сможешь стать еврейским царем или президентом…“»‹56› В действительности, переселение евреев на Мадагаскар стало бы для них катастрофой — в соответствии с оценкой, проведенной еще до войны комиссией Лепецкого, на Мадагаскаре могли бы разместиться не более 10 000 семей‹57› — а нацисты планировали отправить туда четыре миллиона евреев.
Мадагаскарский проект просуществовал немногим дольше, чем потерпевший фиаско план Эйхмана с резервацией в Ниско. Проект Радемахера зависел от мира с Великобританией, ведь евреев невозможно было бы перевезти в Африку при отсутствии безопасности на море. Но его короткая история показывает, насколько экстремистским было отношение идеологических последователей Гитлера к евреям.
Планирование войны с Советским Союзом шло параллельно с разработкой все более радикальных планов в отношении евреев в частности и населения Польши в целом. Сливаясь воедино, они оформлялись в картину настоящего геноцида. Новаторские исследования немецких ученых за предыдущие 20 лет продемонстрировали, как нацистские «статс-секретари» (аналог постоянного заместителя министра в британской модели управления) изобретали все более и более безумные планы переселения и умерщвления голодом миллионов людей. Отчасти, ими двигало мнение, что эта часть мира чрезвычайно перенаселена. Вернер Конзе, впоследствии ставший профессором Позенского рейхсуниверситета, писал незадолго до войны: «Во многих районах восточной части Центральной Европы перенаселение сельской местности является одной из серьезнейших социально-политических проблем сегодняшнего дня»‹58›. Под влиянием теорий обществоведов, подобных демографу Паулю Момберту, разработчики нацистских планов считали, что для любой территории может быть рассчитана «оптимальная численность населения».
По их мнению, население уже оккупированных ими восточных территорий, а также районов Советского Союза, которые они планировали захватить, избыточно. Вне всяких сомнений, нацисты знали и о значительном сокращении населения, уже имевшем место в одном из регионов, захват которых они планировали. С 1932-го по 1933 год во время голода, инспирированного Сталиным в Украине, умерло не менее шести миллионов человек‹59›. Ученые до сих пор спорят, спровоцировал ли Сталин этот голод искусственно в целях модернизации страны, или же он стал результатом его неудачной политики, однако очевидно одно — нацисты получили яркий пример того, как можно с помощью голода значительно сократить население Восточной Европы в кратчайшие сроки.
Для нацистских стратегов война воистину была освобождением. Как писал в своем дневнике в апреле 1940 года Дитрих Трошке, молодой экономист, работавший на территории Генерал-губернаторства, «Те, кто служит на востоке, находятся в уникальном положении. Каждый из них обретает невероятные возможности. Никто и помыслить не мог о назначении, которое сулит такие интересные задачи, требует такой ответственности и открывает такие возможности для инициативы. За всю жизнь они бы не сделали большего»‹60›.
Как считает профессор Кристофер Браунинг, нацистские стратеги были просто «опьянены возможностью войти в историю… Люди становятся безумцами от осознания того, что могут зайти дальше, чем кто-либо до них, того, что они могут войти в историю невероятным, беспрецедентным способом. В результате появляется странная смесь людей технократического склада ума, людей с управленческим опытом, которые предаются утопическим теориям. И утопии опьяняют таких людей чрезвычайно сильно. Именно эта смесь сделала нацизм столь разрушительным, или, по крайней мере, породила столь разрушительные планы»‹61›.
Как видим, для Гитлера война носила идеологический характер с самого момента вступления немецких солдат на территорию Польши в сентябре 1939-го, но стала носить гораздо больший идеологической характер после нападения на Советский Союз. Гитлер прямо заявил о своем отношении к ней в печально известном обращении к высшим немецким офицерам 10 марта 1941-го, назвав предстоящую войну с СССР «войной на уничтожение»‹62›. В особенности он призывал к «уничтожению большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции».
Один младший офицер германской армии, который знал о приказе убивать советских политруков (комиссаров) еще до вторжения в Советский Союз и был вполне согласен с этим приказом, вспоминал потом: «Разница [между войной в Советском Союзе и на Западном фронте] заключалась в том, что русские или красноармейцы считались людьми второго сорта, а также в том, что их было гораздо больше. И с этой силой, этим количественным превосходством, нужно было что-то делать… Они [нацистские лидеры] говорили, что нет времени, что нужно сражаться, наступать — и не страшно, если погибнет чуть больше русских. Они люди второго сорта… И этим нам отчасти давали право уничтожать их, чтобы они не представляли для нас угрозы… Большевика всегда изображали с окровавленным ножом в зубах, он всегда только разрушает, расстреливает людей, избивает их до смерти, пытает и отправляет в Сибирь в лагеря… Большевики были для нас людьми, способными на любую жестокость и насилие, и мы ни за что не должны были допустить, чтобы они пришли к власти»‹63›.
На этом фоне — на фоне решимости начать «войну на уничтожение» против «людей второго сорта» — Гитлер встретился с группой государственных чиновников уровня заместителей министра, армейских офицеров и прочих служащих 2 мая 1941-го. Точка зрения, которую они сформировали в результате этой встречи, была выражена в их итоговом меморандуме: «1. Война сможет продолжаться только в том случае, если к третьему ее году весь Вермахт будет получать продовольствие с русских территорий. 2. В результате изъятия нами упомянутого продовольствия X миллионов человек неминуемо умрет от голода»‹64›. Под «третьим годом войны» участники встречи имели в виду период с сентября 1941-го по август 1942-го. Под цифрой «X» миллионов, как впоследствии станет известно, подразумевалось «30 миллионов»‹65›.
Этот невероятный документ, содержавший план истребления голодом, или Великого голодомора, — не получивший в связи со всеобщим вниманием к ужасам Холокоста должной известности — возник во время этой встречи отнюдь не случайно. Он исходил непосредственно от Гитлера. Единственный присутствовавший на этой встрече правительственный чиновник самого высокого ранга, Альфред Розенберг, в тот же день, как и планировалось, обсудил с Гитлером «восточные вопросы в деталях»66, желая, вне всяких сомнений, представить конкретные предложения, которые пришлись бы по душе фюреру. Структурным последствием нежелания Гитлера предоставлять ключевым министрам возможность обсуждать проблемы коллективно — в последний раз встреча всех членов кабинета состоялась в 1938-м — стало то, что ключевыми стали именно встречи на уровне замов‹67›. (Не случайно одна из наиболее печально известных встреч времен войны — Ванзейская конференция, на которой обсуждалась судьба евреев, как и встреча 2 мая, где обсуждался план Великого голодомора, прошла на уровне заместителей.) Важно отметить также и то, каким образом правление Гитлера — как внешняя, так и содержательная его часть — повлияло на тех, кто 2 мая согласился обречь миллионы людей на голодную смерть. Гитлер не просто объявил о том, что война будет вестись «на уничтожение». Он уже множество раз продемонстрировал, что хочет решать проблемы радикально.
Поэтому есть все основания полагать, что участники конференции 2 мая 1941 года действительно верили, что голодная смерть 30 миллионов человек послужит на благо как их лидеру, так и стране. Они помнили о том, как союзники взяли Германию в блокаду во время Первой мировой войны, стремясь голодом поставить страну на колени. Это привело к тому, считает профессор Адам Туз, что «в риторике 1940–42 годов проявилась своеобразная инверсия — „кто-то будет голодать, но на этот раз не мы“». И в отличие от Холокоста, по отношению к которому обычно употреблялись эвфемизмы (убийство, например, называлось Sonderbehandlung — («особое обращение»), план голода был «четко задокументирован и разослан в оккупационные войска. В результате у комендантов гарнизонов в тылу были четкие инструкции, где говорилось, что, раздавая еду голодающим русским, они и их подчиненные должны помнить, что на кону не что иное, как выживание рейха и продолжение войны во второй, третий, четвертый год»‹68›.
Подобная логика, безусловно, отражает личный взгляд Гитлера, который мыслил в терминах «или — или», «или мы уничтожим врага, или он уничтожит нас». Этот примитивный способ эмоционально сводить сложные вопросы в плоскость абсолютных альтернатив был краеугольным камнем харизматического стиля Гитлера со времен его первых выступлений в пивных. Потому нет ничего удивительного, что всего за несколько дней до вторжения в Советский Союз Гитлер в разговоре с Геббельсом заявил: «Фюрер говорит, что мы должны одержать победу независимо от того, правы мы или нет. Так или иначе, мы за столько всего в ответе, что победу надо одержать любой ценой — иначе весь наш народ… просто сотрут с лица земли»‹69›.
План Великого голодомора, как и множество других планов, которые нацисты строили раньше, оказался абсолютно неосуществимым в том масштабе, который намечался изначально: Германия не обладала достаточными ресурсами для того, чтобы миллионы людей по всем городам Советского Союза упрятать в тюрьмы и держать их там, пока они все не поумирают от голода. Но сама идея, заложенная в основу этого плана, осуществлялась во многих местах. Так, например, немецкая армия замкнула кольцо блокады вокруг Ленинграда (в настоящее время — Санкт-Петербург), и за период с сентября 1941 года по январь 1944-го в городе вымерло более 600 000 жителей — в основном от голода. То же твердое решение «не тратить ценные продукты» на своих врагов послужило основной причиной гибели в немецком плену более трех миллионов советских солдат. В отдельных городах оккупированной Украины — как, например. в Харькове — немецкие оккупационные власти активно осуществляли политику Голодомора.
По количеству населения Харьков был самым большим городом, захваченным немцами во время войны. С того момента, когда в октябре 1941 года они вступили в город, до августа 1943-го‹70›, когда Красная Армия его освободила, было ясно, что максимальное изъятие продуктов питания у мирного населения планировалось с самого начала. Инна Гаврильченко, украинская школьница, которой в то время было пятнадцать лет, рассказывает: «К нам в комнату ворвался немецкий солдат и стал шарить повсюду. Он заглядывал во все шкафы, выбрасывал оттуда вещи, книги. У нас был сахар — он его нашел и забрал…»‹71›
Обобрав жителей Харькова, изъяв у них все запасы продовольствия, немцы закрыли город: прекратился подвоз продуктов из пригородных сел и полицаи бдительно следили за тем, чтобы никто из горожан не мог выйти за черту города. Тем немногим, кто на них работал, немцы давали какие-то пайки — остальные были обречены на голодную смерть[10]. Отец Инны Гаврильченко умирал у нее на глазах. Она хорошо знает признаки приближающейся голодной смерти: «Прежде всего тело твое лишается белков. Оно начинает пухнуть — но не все сразу, а по частям. Сначала пухнут руки и ноги. Посмотришь на свою руку — она как палочка, на которую надета боксерская перчатка, и ты не можешь сжать кулак: опухшие пальцы не сгибаются. И ноги тоже — худые, как палочки, они опухают снизу. Потом опухает живот и уже потом — лицо, тоже по частям. На самой последней стадии оно искажается до неузнаваемости: опухают носогубные складки, появляется страшный голодный оскал — иссохшие губы растягиваются, зубы обнажаются, и нельзя понять — смеется человек или плачет. И все это время какой-то горький вкус во рту, и понос — он так и называется голодный понос, и еще красная сыпь во рту и на языке, странная такая»‹72›.
Некоторым немцам доставляло удовольствие издеваться над голодающими. Когда, например, Анатолий Рева, в ту пору совсем еще малыш, подошел к группе немецких солдат и попросил чего-нибудь поесть, ему со смехом вручили кулек с экскрементами. «В них не было ничего человеческого, — говорит Анатолий, — даже детей они не жалели»‹73›. И все-таки были среди немцев и такие, кто проявлял сострадание. Инна Гаврильченко вспоминает: «Однажды я шла по улице, было уже довольно поздно — четвертый час, наверное[11]. Часов у меня не было, но уже смеркалось. Я знала, что после четырех ходить по городу нельзя — комендантский час, и поэтому тебя могут запросто пристрелить, — но у меня не было сил идти быстрее, а до дому было еще далеко. И я увидела впереди немца — невысокого такого солдатика. Помнится, он был щуплый и маленький, и я отважилась спросить его, который час — успею ли я домой до четырех? До четырех оставалось совсем немного, и он спросил: „Куда ты идешь?“ Я сказала: „Домой“. — „Это далеко?“ — „Далековато“, — ответила я безнадежно. „Ну ладно, — сказал он, — я тебя провожу“. И проводил меня почти до самого дома. На углу нашей улицы остановились. Я молчу, не знаю что сказать. А он посмотрел на меня — и что-то там такое у него было с собой — сумка, что ли, — он вытащил кусок колбасы, большой кусок — и ткнул мне в руки. Я растерялась, а он повернулся и быстро-быстро пошел прочь — чуть ли не бегом… Так что немцы были разные, и нельзя, наверное, с убежденностью сказать, что все эсэсовцы были плохие, а неэсэсовцы — хорошие… Кто их знает — разные они были»‹74›.
Такие контрасты в поведении оккупантов заставляют подумать вот о чем: одно дело сидя в Берлине, в теплом, уютном помещении, утверждать, что необходимо добиться, чтобы тридцать миллионов человек в Советском Союзе умерли от голода, и совсем другое — видеть воочию страдания умирающих от голода женщин и детей и сознавать, что ты к этому причастен. Многие немецкие солдаты оказались способны признать логику, по которой эти люди должны были умереть такой смертью, но были и такие, которые были на это неспособны. План Голодомора не принимал во внимание чувства тех, кому предстояло его осуществлять. И совершенно очевидно, что не все немцы были бессердечны. Вот этого Гитлер не сумел понять. В основе всех его речей и приказов — и, по сути, в основе его характера, его натуры — полное отсутствие какого-либо сочувствия или сострадания и уверенность в том, что отдельный человек, индивидуум, не имеет никакого значения — значение имеет «Volk» — народ. Он вообразил, что может убедить миллионы немцев воплощать его политику с той же бесчеловечной жестокостью, которая была присуща ему самому. Часто это ему удавалось — а иногда нет.
Предстоящая война с Советским Союзом предлагала нацистам другой вариант возможного «решения» ими же самими созданного «еврейского вопроса». 17 марта 1941 года Гитлер встретился с губернатором Генерал-губернаторства Гансом Франком и заверил того, что в его намерения отнюдь не входит уплотнение населения на территории рейха — его целью является освобождение Генерал-губернаторства от евреев с тем, чтобы за каких-нибудь 15–20 лет эта территория стала землей истинно, чисто немецкой‹75›.
Из остальных документов, имеющих отношение к этому периоду, ясно, что евреев надлежало переселить на завоеванную территорию Советского Союза, поскольку война со Сталиным — которая, по мнению фюрера, продлится не более нескольких недель — безусловно закончится победой‹76›. План резервации в Ниско потерпел крах, план Мадагаскар — тоже, но теперь перспектива овладеть просторами Советского Союза давала нацистам возможность убрать из рейха абсолютно всех евреев.
Конечным результатом такой депортации, как это ранее планировалось в других проектах военного времени, с максимальной долей вероятности, явился бы геноцид. Дело было не только в том, что, как уже было запланировано нацистами, на территориях, которые предполагалось заселить евреями, должны были умереть от голода 30 миллионов советских граждан: 3 марта 1941 года Гитлер сказал Йодлю в контексте предстоящего вторжения, что «еврейско-большевистская интеллигенция, угнетающая этот народ, должна быть полностью уничтожена»‹77›. Более того, были сформированы специальные подразделения, Einsatzgruppen, под командованием Рейнгарда Гейдриха, следовавшие непосредственно за наступающими частями немецкой армии, задачей которых являлась организация еврейских погромов и уничтожение «евреев, находящихся на службе партии или на государственной службе»‹78›. На этом этапе большая часть армейской верхушки всецело одобряла как само существование этих айнзацгрупп, так и все практические акции этой «войны на уничтожение» — от решения расстреливать на месте всех политруков Советской Армии и всех бойцов партизанских отрядов до организации массовых репрессий в случаях гражданского неповиновения.
Гитлер собирался начать такую войну, о которой давно мечтал, к которой стремился, — войну не на жизнь, а на смерть с режимом, который считал самым опасным в мире. То, что он намерен был завоевать западные регионы Советского Союза, ничуть не удивительно — он писал об этом в своей книге «Майн кампф» еще в 1924 году; что гораздо более удивительно — это то, что весной 1941 года он сумел вовлечь в этот кровавый поход так много людей. Как мы уже видели, тому было много причин и мотивов — как практических, так и идеологических. Но основным фактором, перевешивавшим все остальные, фактором, побудившим миллионы немцев принять эту новую войну на Востоке, была их вера в незыблемую правоту Адольфа Гитлера — вера, основанная на сочетании его былых успехов с харизматичностью его как лидера.
Однако даже на этапе планирования этот новый конфликт выглядел в высшей степени рискованно. Так, например, еще в начале 1941 года из работы генерала Георга Томаса‹79›, начальника экономического управления ОКВ, было совершенно очевидно, что запасов горючего германской армии хватит не более чем на два месяца военных действий в Советском Союзе и продолжать эти действия она сможет только если немцам удастся захватить нефтяные месторождения Кавказа — а это более чем две тысячи миль от Берлина. Но даже если бы им удалось достаточно быстро дорваться до кавказской нефти, оставалась бы еще проблема транспортировки ее туда, где она будет нужна Германской империи.
В своем воззвании к германскому народу от 22 июня 1941 года Гитлер сообщал, что вынужден начать наступление на Советский Союз, потому что Западный альянс в сговоре со Сталиным и советским правительством замышляет уничтожить Германию: «Стало насущной необходимостью дать отпор этим еврейско-англосаксонским поджигателям войны и еврейской правящей верхушке в Москве — этом большевистском центре управления заговором»‹80›. Но это была просто жалкая демагогия. Черчилль назвал его речь обычным для Гитлера вероломным пустословием‹81›.
Правда заключается в том, что в этот день Гитлер начал то, что сам называл «величайшей битвой в истории человечества»‹82›, потому что очень этого хотел — ему нужно было, чтобы такая битва состоялась. Это его решение — более чем что-либо иное — ускорило падение Германии и конец его харизматического лидерства.
Глава 14
Ложные надежды и убийство миллионов
Когда первые солдаты вермахта вступили на территорию Советского Союза ранним утром воскресенья 22 июня 1941 года, они положили начало не только самому длительному и кровавому вторжению в истории, но и самой серьезной проверке лидерским качествам Гитлера, проверке, которая в итоге и продемонстрирует всю уязвимость его харизматического правления.
Немцы (и не только они) были уверены, что Советский Союз будет быстро разгромлен. Как сказал профессор сэр Ян Кершоу: «Гитлер считал, что вторжение займет пять месяцев, Геббельс полагал, что хватит и четырех, а некоторые генералы были уверены, что понадобится еще меньше времени. Можно было бы списать это на немецкое групповое помешательство. Однако по данным американской разведки вторжение и вовсе должно было занять от трех до шести недель, поскольку Красная Армия серьезно проигрывала вермахту в плане позиционирования войск. Английская разведка также считала победу немцев в Советском Союзе предрешенной»‹1›.
Сегодня, зная, какие громадные промышленные и человеческие ресурсы мог мобилизовать Советский Союз, уверенность в падении режима Сталина, бытовавшая в рядах как союзников, так и немцев, кажется нам совершенно непонятной, а проведенный ими анализ — крайне поверхностным. Однако их уверенность в быстрой победе немцев базировалась на том, что по тем временам казалось рациональным расчетом. Мы знаем, что тогда общепринятым было мнение, в соответствии с которым чистки, проведенные Сталиным в рядах Красной Армии в 1930-е, значительно ее ослабили. В качестве примера данного ослабления приводилась неудача Советского Союза в Финской войне. Но за каждым из этих внешне рациональных мнений стоял элемент предубеждения. Многие ключевые фигуры на Западе презирали советский режим и готовы были поверить любым очерняющим его фактам. Достаточно вспомнить риторику, бытовавшую в Америке в 1941 году, — риторику, которую Рузвельт предпочел благополучно забыть к началу Тегеранской и Ялтинской конференций. Беннет Кларк, сенатор от штата Миссури, однажды даже сказал: «Пусть они хоть сожрут друг друга. У Сталина руки в крови не меньше, чем у Гитлера. Не думаю, что нам стоит помогать кому-нибудь из них»‹2›. А один из высокопоставленных британских генералов написал в своем дневнике от 29 июня 1941-го: «Я бы не стал употреблять слово „союзники“ в отношении русских. Среди них куча гнусных воров, убийц и отъявленных мошенников»‹3›.
Что же касается победы немцев во Франции, то здесь союзники объясняли все военным мастерством вермахта — этой «ужасающей военной машины», как описал его Черчилль в своей речи от 22 июня 1941-го, а никак не некомпетентностью британцев и французов. Черчилль говорил о «механизированных армиях», которые Гитлер послал в Советский Союз, забывая при этом, что во время вторжения во Францию английская и французская армии были гораздо более механизированы, чем германская. Реакция командования союзников вполне объяснима: гораздо предпочтительнее говорить о силе противника, чем о собственных ошибках, однако результатом подобного подхода стала переоценка оснащенности германской армии.
В первые дни войны, когда три основные ударные силы вермахта — группы армий «Север», «Центр» и «Юг» — стремительно продвигались по советской территории, казалось, что прогноз относительно их легкой победы над Красной Армией сбывается. Петер фон дер Гребен, в то время молодой майор, вспоминал, что «все считали, что война закончится к Рождеству»‹4›. Карлхайнц Бенке, служивший в рядах танковой дивизии СС «Викинг», как и его сослуживцы, был уверен в том, что «победа будет одержана так же быстро, как и во Франции, и что, достигнув Кавказа, германская армия откроет себе плацдарм для вторжения в Турцию и Сирию. Таковы были настроения в то время… Мы мечтали о сражениях, и 22 июня стало для нас шансом продемонстрировать свою доблесть, завершив на Востоке то, что наши товарищи начали ранее. Мы ожидали блицкрига. Мы были молоды — семнадцати-восемнадцатилетние юноши — и отправлялись на войну с довольно беззаботным настроем. Мы считали, что возьмем советскую территорию под свой контроль за четыре-пять месяцев — как раз к началу зимы. Так считали все. И начальные успехи убедили нас в нашей правоте. Вначале русские пограничные укрепления не могли сдержать нашего натиска, мы брали в плен тысячи русских солдат и, казалось, что эта громадная империя падет в считаные недели — максимум месяцы, — и наша цель будет достигнута»‹5›.
Через неделю немцы уже готовы были брать Минск, столицу Белоруссии. Казалось, что 2-я танковая группа Гудериана повторяет успехи, достигнутые во Франции, если ни превосходит их, поскольку за пять дней немцы продвинулись на двести миль в глубь территории Советского Союза. В самой Германии это воспринималось как подтверждение того, что победа будет легкой и быстрой. «Мы ожидали, что уже через несколько недель увидим кинохронику с поющими и приветственно машущими солдатами победоносной германской армии, — вспоминает Мария Маут, бывшая тогда студенткой. — Мнение о том, что война была пустяковым делом, распространялось как инфекция! И это вполне вписывалось в рамки нацистской пропаганды. Все, что говорил фюрер, было истиной в последней инстанции. И я убеждена, что 90 процентов людей верили в это. Я сама верила на протяжении долгого времени. Черт возьми, я верила в то, что он уже достиг многого. И это было так. Он действительно достиг многого»‹6›.
Генерал Франц Гальдер разделял энтузиазм большинства немцев. В своем дневнике 3 июля 1941-го он писал: «Полагаю, что не будет преувеличением сказать, что русская кампания будет выиграна в течение двух недель»‹7›. Но даже в этой высокомерной записи Гальдер счел нужным уточнить, что важно не дать противнику «воспользоваться его производственными центрами для создания новой армии с помощью гигантского промышленного потенциала и неисчерпаемых человеческих ресурсов».
Немцы знали, что им нужно не просто победить Советский Союз. Им нужно было одержать победу быстро. Советские промышленные ресурсы были нужны Германии для войны с Западом, чье техническое оснащение постоянно улучшалось. 26 июня 1941 года, всего лишь за неделю до прожектерского заявления Гальдера о победе в русской кампании, фельдмаршал Эрхард Мильх, близкий соратник Геринга и «генерал-инспектор авиации», во время встречи высшего военного командования заявил, что «суммарное производство [самолетов] в Англии и США уже 1 мая 1941-го превзошло суммарное производство в Германии и Италии, и, учитывая нынешнее состояние германской промышленности, к концу 1942-го превзойдет его вдвое»‹8›. Следует помнить, что Мильх дал столь пессимистичную оценку еще до формального вступления Америки в войну.
К концу лета 1941-го Гитлер и его генералы начали осознавать, что их самоуверенность, подогретая быстрой победой во Франции, сделала их неготовыми к трудностям, с которыми они столкнулись в борьбе с Красной Армией. 11 августа Гальдер написал: «С каждым днем ситуация все больше и больше доказывает, что мы недооценили русского колосса… Время играет им на руку, поскольку их ресурсы находятся у них под рукой, а мы уходим от наших все дальше и дальше»‹9›. К концу августа проблемы с ресурсами стали настолько серьезными, что, потеряв 400 000 человек личного состава, вермахт смог заменить немногим более половины‹10›.
Ситуация обострялась еще и конфликтом, вспыхнувшим между Гитлером и его генералами с самого момента принятия решения о нападении на Советский Союз. Разногласия были вызваны спорами о том, насколько приоритетным для вермахта должно являться наступление на Москву. Гальдер и многие его коллеги считали это абсолютным приоритетом, в то время как мысли Гитлера были заняты разрушением Ленинграда и наступлением на крымском и кавказском направлении. Наступление на советскую столицу его мало интересовало. В середине августа Гальдер выпустил меморандум, в котором требовал немедленного наступления группы армий «Центр» на московском направлении. Но генерал Альфред Йодль, начальник оперативного управления Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии (ОКВ), считал важным сохранение веры в правильность суждений Гитлера. Когда 20 августа 1941-го один из офицеров Гальдера потребовал от Йодля поддержать идею наступления на Москву, тот ему ответил: «Нам не следует вынуждать его [Гитлера] к поступкам, которые будут идти вразрез с его собственными убеждениями. Его интуиция никогда нас не подводила»‹11›. (При этом следует помнить, что уверенность во «внутренних убеждениях» и «интуиции» лидера является одной из аксиом харизматического правления.)
Результатом этого спора стала вышедшая 21 августа директива Гитлера, в которой подтверждалось, что захват Москвы до начала зимы не входит в число ключевых приоритетов и что командованию следует сконцентрироваться на оккупации Крыма и продвижении к нефтяным месторождениям Кавказа. Гальдер был в ярости. Он писал, что во всех последующих неудачах в кампании будет виноват‹12› лично Гитлер и что его отношение к высшему армейскому командованию возмутительно. Однако поведение Гальдера было неискренним, ведь еще в июле он заявлял, что «победа» будет достигнута в течение нескольких недель. Теперь же генерал явно не желал разделить ответственность за то, что силы противника были «недооценены». Обвинить Гитлера в том, что война пошла по незапланированному сценарию, было легко, но он был далеко не единственным, на ком лежала вина за то, что события приняли нежелательный оборот.
Хайнц Гудериан, командующий 2-й танковой группы, известной также как танковая группа Гудериана, был тоже недоволен решением Гитлера повернуть на юг и не наступать на Москву. Он встретился с Гитлером 23 августа и настаивал на продолжении наступления на советскую столицу. Гудериан использовал все аргументы, чтобы переубедить фюрера. Но все было без толку. Гитлер позволил Гудериану говорить довольно длительное время, а затем просто и коротко объяснил ему, почему тот неправ. Экономические соображения имели для Гитлера первостепенное значение, и он считал захват Украины более важным, чем наступление на Москву. «В тот день я впервые стал свидетелем спектакля, который впоследствии будет мне так хорошо знаком, — написал Гудериан после войны. — Все кивали в знак согласия с каждой произнесенной Гитлером фразой, в то время как я оставался в одиночестве… Видя, что мне оппонирует все высшее командование, я решил воздержаться от дальнейших комментариев…»‹13› Ни Браухич, ни Гальдер на этой встрече не присутствовали, так что Гудериан чувствовал себя в полной изоляции. Структура командования, которую Гитлер создал сразу после кризиса Фрича — Бломберга, помноженная на его харизму, делала аргументы фюрера практически неуязвимыми для критики. Ключевые фигуры в Генеральном штабе, подобные Йодлю, стали не более чем группой поддержки фюрера.
Однако трудности, которые испытывала армия, сказывались и на Гитлере. Когда Геббельс посетил его ставку в Восточной Пруссии в начале августа, он отметил, что фюрер «выглядит слегка уставшим и больным. Причиной этого, вероятно, является дизентерия и тяготы последних недель. Это неудивительно. Сейчас на нем лежит ответственность за судьбу целого континента»‹14›.
Тем не менее эти тяготы не умерили присущей Гитлеру жажды войны и кровопролития. В одной из своих послеобеденных речей, произнесенных той осенью, Гитлер заявил, что война необходима каждые 15–20 лет‹15›, и призвал каждого десятого немца принести свою жизнь на алтарь битвы. Смерть такого количества немцев на Восточном фронте не значила для него ничего. Трудности лишь возбуждали в нем желание еще более кровавой резни и еще более жестокого возмездия. Глубочайший нигилизм Гитлера получил очередное подтверждение несколько недель спустя, когда он заявил: «Земной шар продолжит свое вращение вне зависимости от того, убьет ли человек тигра или же тигр пожрет человека. Сильнейший навязывает свою волю — таков закон природы. Мир не меняется — его законы вечны»‹16›. Таким было его отношение: точка зрения, свободная от любой морально-этической ответственности перед другими нациями или людьми. Именно она стала основной причиной того, почему многие его последователи были так опьянены возможностями, которые предоставляла война. Но они забыли об одной вещи — до того момента, когда события повернулись против них — забыли об обратной стороне философии Гитлера, которая заключалась в том, что если ты не можешь победить, то ты сам «заслуживаешь» быть уничтоженным. Хотя сам Гитлер был одним из немногих нацистов, которые принимали подобное положение вещей с самого начала. В феврале 1920 года он даже включил принцип «победа или смерть» в партийную программу НСДАП: «Лидер партии клянется действовать безжалостно, а в случае необходимости даже пожертвовать собственной жизнью ради реализации этой программы»‹17›. Теперь же, призывая к «войне на уничтожение» против Советского Союза, Гитлер понимал, что в случае поражения Германию постигнет та же участь. И действительно, еще в январе 1942 года в неофициальной беседе Гитлер сказал, что тем немцам, которые не будут готовы отдать «тело и душу ради выживания», лучше будет просто исчезнуть с лица земли‹18›.
Гитлер не скрывал своих потенциально апокалиптических взглядов от окружения. Однако в то время, когда победа казалась гарантированной, не было нужды акцентировать слишком большое внимание на последствиях поражения. После августовских трудностей еще сохранялась надежда на то, что дела немцев могут пойти на поправку осенью: Гудериан, несмотря на свою уверенность в ошибочности подобной стратегии, уводил 2-ю танковую группу все дальше на юг от группы армий «Центр» для объединения с подразделениями группы армий «Юг», находившейся под командованием Рундштедта. К концу сентября результатом этого объединения стало крупнейшее окружение в истории, когда 650 000 красноармейцев оказались в ловушке во время битвы за Киев. Казалось, это был еще один триумф Гитлера.
Увидев гибель такого количества советских солдат в кадрах кинохроники, Гитлер, по его собственным словам, был восхищен‹19›. Эта резня напомнила ему Первую мировую. Именно этот конфликт Гитлер называл причиной крушения своих «идеалистических» представлений о войне. Окопная война, твердил он, научила его тому, что жизнь — это «жестокая борьба» и что единственной ее целью является «выживание видов». Этим уроком он руководствовался и во время войны на Востоке, приказав стереть Ленинград с лица земли. Германской армии было приказано не брать в плен жителей окруженного города, потому что немцы не были обязаны обеспечивать их едой и жильем‹20›.
3 октября 1941 года Гитлер ненадолго вернулся в Берлин для того, чтобы произнести речь во Дворце спорта. Там он в очередной раз убеждал немцев в верности своих фантазий относительно того, что Германия была вынуждена вступить в войну, поскольку Сталин вынашивал планы нападения на рейх. Помимо этого он настаивал на том, что с 22 июня «все идет по плану»‹21›. Более того, Гитлер утверждал, что «этот враг уже разбит и никогда не сможет встать на ноги». Шесть дней спустя, 9 октября, в свете новостей о том, что пять советских армий попали в окружение в боях под Вязьмой и Брянском, пресс-секретарь Имперского правительства Отто Дитрих заявил, что «судьба Восточной кампании предрешена»‹22›. Последующие несколько дней немецкие газеты пестрели заголовками в духе «Советы повержены!» («Mnchener Zeitung»), «Европа спасена: военный гений фюрера освободил нас от Сталина» («Hannoverscher Kurier»), «Успех в Восточной кампании предрешен!» («Vlkischer Beobachter»)‹23›.
Однако успех в Восточной кампании не был предрешен ни в коей мере, и Гитлер очень рисковал, произнося свою речь во Дворце спорта. «Чистая харизма, — писал Макс Вебер, — не признает никакой легитимности, исходящей из какого бы то ни было источника, кроме личностной силы лидера, которая должна постоянно находить подтверждение»‹24›. Поэтому для Гитлера было потенциально очень опасно заявлять о победе, которая на самом деле одержана не была. Более того, Гитлер произносил эти слова, зная, что война на Восточном фронте будет продолжаться и в следующем году. Гальдер прямо говорит об этом в своем дневнике от 13 сентября 1941 года‹25›.
В итоге Гитлер согласился, что германской армии следует продвигаться непосредственно в направлении Москвы в рамках Unternehmen Taifun (операции «Тайфун»), и Вермахту удалось стянуть почти два миллиона солдат к советской столице в последней попытке нанести Красной Армии решающий удар до наступления зимы. По мере октябрьского продвижения группы армий «Центр», Гитлера все более и более опьяняли возможности, открывавшиеся для него в Советском Союзе. Его послеобеденные речи, произнесенные в его ставке в Восточной Пруссии на протяжении этого месяца, показали истинное лиц фюрера. Он пребывал в решимости разрушить жизни миллионов советских граждан («есть лишь один путь: онемечить эту страну путем иммиграции немцев, обращаясь с местными как с краснокожими»‹26›); опустошить города («меня совершенно не волнует возможность того, что Киев, Москва или Ленинград будут стерты с лица земли»‹27›); продолжить уничтожение ненавистных ему евреев («кто сможет помешать нам утопить их в болотистых регионах России!»‹28›). Но тирады Гитлера не ограничивались лишь войной на Востоке. В похожем ключе он высказывался о христианстве («логическим развитием идей христианства является взращивание неудачников»‹29›); конструктивных особенностях оборудования для ванн («какой смысл в том, чтобы иметь сотню моделей раковин?»‹30›); а также относительно собственной злопамятности и мстительности («у меня есть множество старых счетов, думать о которых сегодня я не могу. Но это не значит, что я забыл о них»‹31›). Все это подтверждает слова Хью Тревора-Роупера о том, что Гитлер — это «самый отвратительный, жестокий и бесчестный завоеватель, которого знала Земля»‹32›. Но также это демонстрирует нам ключевые элементы его харизматического правления: его уверенность, его свободу от общеприятых норм морали, его возбуждение от открывающихся перед ним перспектив. И при всем при этом, несмотря на постоянное вмешательство в ход военной кампании, которое так возмущало Гальдера, в октябре 1941 года Гитлер продолжал настаивать на том, что 95 процентов его лучших подчиненных принимают решения сами‹33›, интуитивно чувствуя намерения фюрера.
Пока Гитлер произносил эти слова, в Москве нарастала паника. Сталин даже рассматривал возможность покинуть город, однако предпочел остаться и перевести город на осадное положение. Но успех германской армии был шаток. И дело было не только в растянутых путях снабжения. К Москве вскоре должны были подойти свежие подкрепления из Сибири: разведка доложила Сталину, что Япония, союзник Гитлера, не планирует нападать на Советский Союз на дальневосточном направлении.
К началу декабря 1941 года немецкие солдаты стояли всего в 12 милях (около 20 км) от Кремля. Но дальше они не смогли продвинуться ни на шаг. 5 декабря советское командование начало контрнаступление силами не менее 70 дивизий (более миллиона красноармейцев). Солдаты рвались в бой. Уже ослабленные недостатком припасов немцы — особенно остро им не хватало теплой одежды и средств защиты от холода для оружия и техники — еле удерживали свои позиции.
По всей вероятности, это был решающий момент войны. По мнению профессора Адама Туза, битва за Москву, «вне всяких сомнений, была поворотной точкой… Это было первое поражение, которое германская армия потерпела за долгое время — с конца Первой мировой войны»‹34›. Сэр Ян Кершоу считает, что это была первая серьезная неудача, означавшая для немцев, что «война растянется на неопределенно долгое время»‹35›. По мнению же профессора Ричарда Эванса, это был «первый случай, когда германское наступление потерпело неудачу, и немцы не знали, что им делать дальше»‹36›. В результате этого германское командование оказалось в положении, выхода из которого оно не видело.
Ульрих де Мезьер, служивший в то время офицером вермахта на Восточном фронте, описывает это время, как время крушения надежд: «Представляете, что творилось в голове двадцатидевятилетнего офицера Генерального штаба, которого еще в августе [1941-го] убеждали в том, что все закончится в сентябре, и который, начав осознавать в октябре, что война может затянуться, уже в декабре понял, что она будет продолжаться еще минимум три года?»‹37› По мнению де Мезьера, события декабря 1941-го также показали практически полное отсутствие подготовки к ведению войны в зимних условиях со стороны германского командования. «За одну ночь наша дивизия потеряла пятьсот человек, они замерзли насмерть…» С другой стороны, все те же суровые зимние условия продемонстрировали стойкость советских солдат, которые «успешно переносили трудности и были не слишком требовательны к экипировке. Они были храбрыми, хотя и не слишком изобретательными. Они были невероятно выносливыми и способными переносить страдания. Они могли выдержать три зимних ночи на открытом воздухе с несколькими семенами подсолнуха или зернами кукурузы в кармане. Вместо воды они ели снег. Я сам стал свидетелем того, как однажды ночью молодая женщина родила ребенка на шерстяном одеяле, расстеленном поверх кучи соломы, и вернулась к работе в конюшне на следующий день… Многие считали, что люди, жившие простой жизнью в примитивных домах и примитивных деревнях, не могут сравниться по уровню своего развития с жителями Центральной и Западной Европы».
Однако эти «не слишком изобретательные люди», жившие в «примитивных» обстоятельствах, успешно сражались против немцев. Солдаты, которых нацистская пропаганда называла «недолюдьми», побеждали непобедимых представителей «расы господ». И как теперь выглядели немецкие газеты, которые, по приказу государства, всего несколько недель назад написали о том, что Советский Союз повержен? Как выглядел сам Гитлер, безапелляционно заявлявший, что Красная Армия больше «никогда не воспрянет»? Ничем не мотивированный, почти истерический оптимизм подобных заявлений нашел свое отражение и в приказах, отданных Гитлером Хайнцу Гудериану 13 ноября, всего за три недели до начала наступления на советскую столицу. Гудериану было приказано отвести свои танки более чем на двести миль к востоку от Москвы, чтобы отрезать подкреплениям путь к городу. Это было необоснованное требование человека, не имевшего даже малейшего представления о положении своих войск. С тем же успехом Гитлер мог отдать приказ о вторжении на Луну. Многие историки говорят о том, что, запершись в своем бункере в последние дни войны, Гитлер полностью погрузился в мир своих фантазий. О фантазиях, владевших разумом фюрера во время пребывания в его ставке в Восточной Пруссии осенью и ранней зимой 1941-го, известно не столь широко, но от этого они не становятся менее безумными.
Гитлер впал в состояние отрицания. Когда, незадолго до декабрьского наступления советских войск, Гитлеру сказали, что у вермахта нет достаточного количества стали, он просто отказался верить в «недостаток сырья», поскольку он «покорил всю Европу»‹38›. А когда 29 ноября 1941-го его собственный министр вооружения и боеприпасов Фриц Тодт сказал ему, что «войну уже не выиграть на поле сражения» и что конфликт можно остановить лишь путем политических решений, Гитлер ответил, что он не видит возможности закончить войну подобным путем‹39›.
Многие из ключевых составляющих харизматического лидерства Гитлера — его убежденность, его сила воли, его отказ признавать поражения, его вера в собственную великую судьбу — стали восприниматься некоторыми из тех, кто верил в него, как опасные слабости. Предположение о напряженности в рядах его ключевых соратников, пытавшихся адаптироваться к реальности, с которой им пришлось столкнуться из-за непримиримости их лидера, находит свое подтверждение в документах о болезнях и увольнениях, датируемых зимой того года. 9 ноября 1941-го с фельдмаршалом Браухичем случился сердечный приступ‹40›. Тревоги и стрессы, пережитые фельдмаршалом во время Восточной кампании — в этом Гитлер солидарен с Гальдером — в значительной мере сломили его здоровье. 19 декабря Гитлер отстранил Браухича от командования. За день до этого Гитлер удовлетворил ходатайство фельдмаршала фон Бока об отстранении его от командования группой армий «Центр». Фон Бок был возмущен тем, что Гитлер затягивал с наступлением на Москву. Впрочем, в своем обращении он сослался на заболевание желудка, от которого так и не смог восстановиться.
Постоянное напряжение на Восточном фронте сломило дух тех, кто не мог удовлетворить невозможные требования материально-технического обеспечения. 17 ноября 1941-го генерал Эрнст Удет совершил самоубийство. Руководя материальным обеспечением люфтваффе, он постоянно находился под давлением невыполнимых обещаний, которые Геринг давал Гитлеру. Во время Битвы за Британию Удет на собственной шкуре ощутил, к чему могут привести безумные обещания Геринга, оканчивающиеся неизбежным провалом. Убедив Гитлера в том, что Королевские ВВС будут повержены, и, потерпев в итоге поражение, Геринг свалил всю вину на Удета.
Теперь Гитлер столкнулся с целой серией отставок в рядах командования, и важнейшим вопросом для него было найти замену Браухичу, главнокомандующему сухопутными войсками. Ему нужен был кто-то, на кого он мог безоговорочно положиться. Человек, который, по его мнению, будет достаточно стойким для того, чтобы выдержать войну на уничтожение. Он знал только одного такого человека. И этим человеком был сам Адольф Гитлер. Он сам поставил себя во главе германской армии, и теперь список его титулов выглядел следующим образом: Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Германии, канцлер, фюрер немецкого народа и глава государства.
Сила Гитлера как харизматического лидера всегда основывалась на видении общих направлений развития. Детали он оставлял подчиненным. Но теперь дни пребывания в своей комнате до полудня, длинных обедов и горных прогулок до вечера закончились. Реакцией Гитлера на неудачи было взвалить больше работы на себя самого. В это время он послал военному командованию четкий сигнал: фюрер понимает в военном деле больше, чем они. И не только в плане общей стратегии, но и в конкретных деталях ведения кампании.






