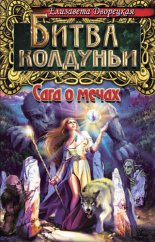Нацисты: Предостережение истории Рис Лоуренс

То, что Сталин не хотел развязывать войну с Германией в то время, не означало, разумеется, что Пакт о ненападении остался бы для него священным навсегда. Но из-за своей природной осторожности Сталин опасался переоценить собственные силы. Он придерживался договора о нейтралитете с Японией до того самого момента, когда американцы сбросили первую атомную бомбу. Только тогда Сталин приказал Красной Армии вторгнуться на удерживаемые Японией китайские территории, а затем – и в саму Японию. В то же время, по сути, выдвигаются и такие объяснения, что руководитель Советского Союза попросту сперва выжидал, оценивая перспективы дальнейшего развития военных действий на Западе, и затем, если бы он почувствовал, что пора вмешаться в ход войны ради блага СССР, то никакой договор не удержал бы его.
Нельзя забывать, что именно по этой причине немцы так сильно стремились как можно скорее устранить угрозу, исходящую от Советского Союза. И Гитлер и Сталин прекрасно понимали, что время играет на руку СССР. Потому не только нацистская правящая верхушка, но и многие бывшие немецкие военнослужащие по-прежнему считали грядущую войну превентивной: «Я не хочу сказать, что Гитлер планировал превентивную войну лишь для того, чтобы предупредить неизбежное нападение со стороны СССР, – объясняет Рюдигер фон Райхерт, служивший в то время офицером артиллерии в группе армий “Центр”. – Но термин “превентивная война” вполне уместен в данной ситуации, потому как он знал, что конфликта не избежать, а, нанеся удар первым, он окажется в более выгодном положении. Гитлер понимал, что Сталин вполне может развязать войну. Так что с этой точки зрения мы поддерживали его решение напасть на СССР».
Изначально, по плану «Барбаросса», вторжение было назначено на май 1941 года, но впоследствии дату пришлось изменить – в марте произошел государственный переворот в Белграде, в результате которого военные свергли немецкого союзника, принца-регента Павла. Поэтому 6 апреля германские войска вторглись в Югославию. Из стратегических соображений Гитлер приказал им занять и Грецию. И хотя итальянцы безуспешно пытались захватить эту страну уже в течение нескольких месяцев, Гитлер не хотел подставлять южный фланг немецкой армии перед началом плана «Барбаросса». Югославия и Греция не устояли под натиском германского «блицкрига» и военные действия на этих территориях прекратились уже к концу апреля. Однако из-за таких непредвиденных осложнений начало операции «Барбаросса» пришлось отложить до июня.
В провале восточной кампании и поражении Германского рейха в 1945 году Гитлеру следовало винить самого себя – именно он решил отсрочить нападение на Советский Союз. Ведь после балканского конфликта требовалось время на передислокацию германских войск на исходные позиции для операции «Барбаросса». К тому же весна выдалась довольно дождливой, и нацисты решили дождаться более благоприятных условий и перенести дату вторжения на июнь. Однако в любом случае проклятием рейха стали не эти несколько недель, а серьезные просчеты в определении истинной природы и степени сложности поставленной задачи.
Разумеется, ни один из немецких ветеранов, с которыми нам удалось побеседовать, не мог предвидеть провала плана «Барбаросса» из-за того, что его начали реализовывать не в мае, а в июне. Напротив, всех переполнял оптимизм – ведь цель казалась такой простой. Утром 21 июня Бернхард Бехлер пришел к сестре попрощаться; он отправлялся в новую ставку Гитлера в Восточной Пруссии: «Я сказал ей: “Мне пора. Позвоню тебе из Москвы через пару недель”… Я искренне верил в то, что выполню свое обещание, я, по сути, гордился нашими планами».
Перед рассветом в воскресенье 22 июня 1941 года Рюдигер фон Райхерт, офицер артиллерии 268-й пехотной дивизии, готовился пересечь границу занятой Советским Союзом части Польши. «Это был полнейший абсурд: за час до вторжения мимо нас промчался новый, горящий огнями поезд, который увозил мирных жителей в страну нашего тогда еще союзника, в страну, на которую мы собирались напасть с минуты на минуту». В половине четвертого они «произвели первый залп, первыми жертвами которого стали пограничники на демаркационной линии». Вольфгангу Хорну, солдату 10-й танковой дивизии, массированные артиллерийские обстрелы, которые сигнализировали о начале войны, «придали уверенности в том, что у нерешительного и жалкого [так!] врага нет шансов на победу».
Немцы наступали в трех направлениях главных ударов в полосе фронта протяженностью тысяча восемьсот километров (самой длинной в истории). Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала фон Лееба двигалась на Прибалтику и Ленинград, группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала фон Бока – в направлении Минска, Смоленска и в конечном счете Москвы, а группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала фон Рундштедта – на Украину.
Хотя советские войска и были численно равны наступающим немецким (приблизительно по три миллиона человек от каждой стороны), едва ли они были равны своему противнику в других параметрах. Из-за неразвернутости советских войск у границы (советские полководцы следовали военной доктрине «активной обороны», которая не подходила для эффективного ведения оборонительных действий), низкого уровня боевой подготовки красноармейцев, слабого уровня подготовки комсостава РККА по сравнению с комсоставом вермахта и несоответствия военной техники (много устаревшей или нуждавшейся в ремонте) советские войска стали легкой жертвой немецкой тактики окружений.
Захватчики вывели «блицкриг» на новый уровень тактического мастерства. Согласно прежней стратегии, войска должны были наступать волнами – сначала бомбардировщики, затем артиллерия, танки, мотопехота и так далее. Однако генерал Хайнц Гудериан, главнокомандующий танковыми войсками, предложил новый, революционный способ ведения военных действий с применением бронированной техники, благодаря чему успех «молниеносной войны» стал возможен. Теперь танки, пикирующие бомбардировщики и артиллерия стали наносить точечные удары по противнику – иногда поле боя не превышало по ширине дорогу. Такой уровень взаимодействия стал возможен как благодаря богатому боевому опыту в управлении войсками, так и наличию передовых средств связи – наблюдатели с передовых танков по радиосвязи сообщали точное местоположение позиций, по которым должны были бить артиллерийские батареи. «Нас хорошо этому обучали, – рассказывает Вольфганг Хорн, – к тому же мы действовали подобным образом и во Франции, прорываясь к порту Кале, например. Так что мы уже знали, что должны атаковать словно острие копья, не обращая внимания по сторонам… Наши атаки всегда, всегда тщательно координировались».
Прорываясь через оборонительные линии противника, танки продолжили наступление, а идущая следом пехота устремлялась в бреши и окружала ошеломленного противника. В первые дни войны наиболее успешно эту тактику применяла группа армий «Центр», которая быстро продвинулась к Смоленску, в глубине территории Советского Союза. Но тактика «блицкриг» не была рассчитана на столь обширные территории и большие расстояния, поскольку пехота не поспевала за передовыми танковыми частями, поэтому те вынуждены были прекратить продвижение вглубь и подождать остальные войска.
Но таковы были проблемы успеха, а для отдельных немецких солдат первые недели операции «Барбаросса» были днями славных побед. «Нам тогда казалось это легким делом, – рассказывает Альберт Шнайдер, рядовой 201-го батальона штурмовых орудий. – Что русские станут массово дезертировать или будут сдаваться в плен, а мы их будем отправлять в лагеря военнопленных». Легкость первоначального продвижения по советским территориям заставила его думать, что «впереди ждет светлое будущее и что война закончится уже через полгода, самое большее – через год. Мы должны были дойти до Уральских гор – и на этом все… Мы тогда думали, Господи, что с нами может случиться? Ничего дурного. Мы одерживали победы одну за другой. Все шло по плану, мы шли в наступление с песней! Сложно поверить, но именно так все и было».
Утром 22 июня Сталина, на даче в Кунцево в Подмосковье, разбудил звонок маршала Жукова, тогда начальника Генерального штаба, который сообщил ему о вторжении немецких войск. Сталин сначала решил, что это, должно быть, ошибка, что, возможно, произошел переворот, и генералы Гитлера захватили власть или что это – очередная провокация. Сталин приказал министру иностранных дел связаться с Японией и попросить ее выступить в качестве посредника между Советским Союзом и Германией. Отца Степана Микояна вызвали на экстренное совещание, которое состоялось тем же утром в кабинете Сталина в Кремле. В тот момент и в первые несколько дней после начала войны «никто не понимал, что происходит… Связь не работала. Нельзя было даже понять, где находятся наши, и где – немцы».
«Я сражался на границе трое суток, – рассказывал Георгий Семеняк, которому было тогда всего двадцать лет и он служил в 204-й советской дивизии. – бомбардировки, крики… взрывы артиллерийских снарядов не умолкали». На четвертый день его часть начала беспорядочно отступать. «Страшное было зрелище. Весь день на нас сбрасывали бомбы одну за другой… Когда был получен приказ к отступлению, было много людей, которые шли в разные стороны, хотя большинство все же двигалось на восток». Пробиваясь на восток по дорогам и лесам Белоруссии, Георгий Семеняк в ужасе наблюдал, что офицеры из его дивизии дезертируют: «Лейтенанты, капитаны, младшие лейтенанты – заскакивали в проходящие полуторки, главным образом те, что ехали на восток». К тому моменту, когда его часть подходила к столице Белоруссии Минску, в ней «почти не осталось командиров. А без них способность обороняться была настолько слаба, что мы, по сути, оказались бессильны перед лицом врага… То, что они воспользовались званиями для того, чтобы спасти свою шкуру, было настоящим предательством. Но у каждого свои слабости».
Однако не стоит всю вину перелагать на командиров, бросивших своих солдат, ведь они не были подготовлены к настоящему бою. На момент начала вторжения германских войск в 1941 году в результате чисток и стремительного расширения Красной Армии, около семидесяти пяти процентов армейских офицеров и семидесяти процентов комиссаров отслужили на своих должностях не больше года23.
Действия, предпринятые Сталиным в первые дни войны, были мало связаны с реалиями ожесточенных боев. Он бранил своих генералов и все призывал их перейти к наступлению на вражеские территории, согласно первоначальному плану контрнаступления Советского Союза, плану абсолютно несостоятельному, учитывая, что немецкие войска в первый же день операции «Барбаросса» продвинулись в глубь советской территории на расстояние до шестидесяти километров.
Увидев первые успехи немецкой армии, Гитлер, должно быть, окончательно уверился в возможности уничтожить Красную Армию за считаные недели. Однако не только он в то время не верил в то, что СССР способен оказать достойное сопротивление. Так, министр военно-морских сил США написал 23 июня президенту Рузвельту следующие строки: «В лучшем случае Гитлер подчинит Россию в срок от шести до восьми недель». Хью Далтон, английский политик-лейборист, 22 июня написал в своем дневнике, что «мысленно готовится к тому, что Красная Армия и советские ВВС будут разгромлены»24. Незадолго до начала операции «Барбаросса» представители Объединенного разведывательного комитета Великобритании констатировали, что, по их мнению, советским лидерам не хватает инициативы, а Красная Армия вооружена «абсолютно устаревшей боевой техникой»25. Британское военное министерство сообщило BBC, что, по мнению аналитиков, вооруженное сопротивление России прекратится не позднее, чем через шесть недель26.
Переломный момент пришелся на 27 июня, когда Сталин и остальные члены Политбюро собрались на совещание в Народном комиссариате обороны на улице Фрунзе. На этом собрании присутствовал и отец Степана Микояна: «Они начали задавать Жукову разные вопросы и вдруг поняли, что военные абсолютно ничего не знают о ситуации на фронте. Те не могли ответить ни на один вопрос: где сейчас находится армия… где наши войска … где немцы… как далеко они продвинулись… Полное неведение. Жуков был настолько задет и раздражен, что, по словам отца, едва сдерживал слезы». Сталину сообщили, что немцы вот-вот возьмут Минск и что Красной Армии нечего им противопоставить. Он бросился вон из кабинета со словами: «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали». Сразу после этого совещания Сталин уехал на дачу и оставался там.
Тем временем в Германии Геббельс был озабочен реакцией людей на новости о нападении рейха на Советский Союз. Именно он 22 июня, в половине шестого утра, зачитал обращение Гитлера, которое гласило, что война необходима для того, чтобы «выступить против заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны, а также еврейских властителей большевистского центра в Москве». Мария Маут, которой было тогда семнадцать лет, вспоминает слова своего отца, когда тот услышал новости о вторжении, – он отреагировал именно так, как опасался Геббельс: «Никогда не забуду слова отца в тот момент. Он сказал: “Мы заведомо проиграли эту войну!”» Но затем, когда один за другим последовали отчеты о первых победах на фронте, отношение народа изменилось. «В еженедельных выпусках кинохроники мы видели славных солдат победоносной армии Германского рейха: солдаты пели, махали руками, веселились. Их настроение оказалось заразительным. Мы оценили ситуацию с новой точки зрения и поверили в победу. И верили в нее еще очень долго. Мы думали, что победа будет такой же легкой, как во Франции или Польше – каждый был убежден в этом, зная, насколько мощной была армия рейха».
Едва ли кого-то заботило то, что Германия напала на страну, с которой ранее подписала Пакт о ненападении. Ведь этот пакт был отклонением от нацистского курса, заблуждением. Теперь немцы снова могли вернуться к «удобным» для них предубеждениям о превосходстве арийской расы над ордами дикарей, проживающих на Востоке. «Русская история всегда была варварской, – рассказывает Мария Маут, – и мы тогда тоже решили, что ведь и правда, есть в этих людях что-то от дикарей, это ведь сразу видно! Все тогда говорили: “Господи, посмотрите на них! Лучше смерть, чем такая жизнь!” Да-да, именно так мы и говорили, слово в слово. В нашем представлении образ русских и так оставлял желать лучшего, а тут добавилась еще одна черта этого народа – трусость, потому что наши войска так быстро обратили их в бегство».
Немцы придерживались подобных убеждений в те времена не потому, что опасались возможного порицания со стороны собственных соотечественников. У немцев, подобных Марии Маут, сложилось такое мнение о русских отнюдь не из-за боязни доноса, в случае если они не станут поддерживать бытовавшие предрассудки. Она в то время искренне верила, что «мы не такие, как они. Мы гораздо лучше». Пропагандистские ролики лишь укрепляли ее веру в то, что «русские» – «недоразвитые уроды. Иногда в них показывали людей, больше походивших на обезьян, – носатых, лысых, немытых, одетых в какие-то лохмотья. Именно такой образ формировали в наших сознаниях. Видя это, мы действительно говорили себе – почему бы и нет? Как же можно так жить?»
Подобное отношение встречалось повсюду: не только среди гражданских лиц, но и в армии. Это лишний раз подтверждает: что эта война не просто началась как жестокая расистская война, а была эскалацией таких взглядов. На поле боя, в первые дни войны, Вальтер Шеффер-Кенерт, офицер артиллерии танковой дивизии, убедился, что «русские» – а именно так немцы чаще всего называли жителей Советского Союза – оказались «даже еще более тупыми, примитивными существами, понятия не имевшими о цивилизации». «Когда они пошли в контратаку, мы временно отступили, оставив раненых. Вернувшись на поле боя, мы обнаружили, что всем нашим раненым пробили головы штыками. Так что можете представить себе реакцию солдат, которые увидели, что их друзей предали столь жестокой смерти. Нас всех охватила ярость!»
Война на Востоке отличалась от войны на Западе еще и тем, что здесь убивали не только на поле боя. Согласно плану айнзацгруппы (оперативные карательные отряды) принялись за свою страшную работу в первые же дни войны. Они среди прочих истребляли «членов коммунистической партии и евреев на службе партии или государства», интерпретируя это определение в самом широком смысле (см. главу 8, посвященную деятельности айнзатцгрупп на оккупированных территориях).
«Видите ли, евреи и большевики были нашими заклятыми врагами, – рассказывает Карлхайнц Бенке, служивший тогда в танковой дивизии СС «Викинг». – И против этих людей надо было воевать, потому что они, как нам тогда казалось, представляли угрозу всей Европе… Евреев мы и вовсе считали политической элитой Советского Союза или, по крайней мере, людьми, у которых в СССР все в руках». (Стоит заметить, что на самом деле вопреки бытовавшему среди нацистов мнению евреи, за редким исключением, больше не занимали высоких постов в советском руководстве.)
Приведенная точка зрения объясняет, почему немцы такое значение придавали истреблению советских политруков – комиссаров. «Перед нами поставили четкую задачу, – объясняет Вальтер Трафонер, служивший тогда в кавалерийском полку СС на Восточном фронте. – Мы знали, что большевизм – враг всего мира номер один… Как нам разъяснили, целью большевиков было подчинить себе Германию и Францию, а затем – всю Европу до самой Испании. Вот почему нам нужно с ними воевать». В контексте этой войны против «врага номер один» комиссары представляли особую опасность, поэтому «в случае поимки их следовало казнить без промедления».
Когда мы спросили Вальтера Трафонера о том, можно ли убивать кого бы то ни было только лишь из-за его политических убеждений, он ответил следующее: «Мы никогда не задавались подобными вопросами. Эти парни просто поддерживали режим, установленный в их государстве. Мы, по сути, делали то же самое… Мы должны были убивать комиссаров… Хотели спасти весь мир от большевиков».
В конце июня Сталина убедили вернуться в Москву. К нему явилась целая делегация от Политбюро, чтобы «уговорить» его повести Советский Союз к победе. Существует мнение (по крайней мере, одного историка), что Сталин покинул столицу, вдохновившись примером Ивана Грозного, и хотел выяснить, кто в критической ситуации останется верен ему, а кто нет. В любом случае альтернативы Сталину как руководителю Советского Союза не было. Именно из-за Сталина государство оказалось в столь катастрофическом положении, так что и выводить страну из этого положения предстояло именно ему.
3 июля Сталин выступил с радиообращением к советскому народу и говорил о нападении Германии. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! – начал он (обращение «братья и сестры» было знаковым – тут он взывает скорее к национальным, а не к коммунистическим чувствам народа). – К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться так, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска и в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? Конечно нет!»
Затем Сталин пытается оправдать подписание Пакта о ненападении («мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора лет») и обещает победу на поле боя («этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом»). Он даже не пытается скрыть оправдывающийся тон своего выступления.
С одной стороны, Сталин, разумеется, мог бы попытаться заключить мир с немцами. Подобные прецеденты уже случались в истории. Чтобы вывести Россию из Первой мировой войны и укрепить революцию, Ленин заключил Брестский мир. Согласно этому мирному договору, который Ленин считал лишь политическим ходом, направленным на то, чтобы выиграть время, Россия уступала Германии весьма и весьма обширные территории (почти 1,4 миллиона квадратных километров, включая Латвию, Литву, Эстонию, Украину, Грузию и Армению). Почему нельзя было хотя бы рассмотреть такой вариант в первые недели после начала войны? В истории «Великой Отечественной войны» твердолобых коммунистов заключение мирного соглашения с немцами было немыслимой изменой. (Кроме того, мирные переговоры нарушили бы и договор о союзнических отношениях, подписанный Великобританией и Советским Союзом 12 июля, согласно которому ни одна из подписавшихся стран «не может вести переговоры или заключать договор о временном перемирии [с Германией] без взаимного согласия сторон»27.)
На самом деле все обстояло несколько иначе. Слухи о том, что один из агентов Берии пытался договориться с Иваном Стаменовым, послом Болгарии в Москве, чтобы тот выступил в качестве посредника в переговорах с Германией, были давно известны на Западе. Но до сих пор в архивах коммунистического периода этому не находится ни одного документального подтверждения. Исследовательская группа под руководством Владимира Наумова, одного из научных консультантов телевизионного сериала, на котором основывается наша книга, недавно обнаружила в московском президентском архиве отчет Павла Судоплатова, одного из наиболее приближенных к Берии офицеров. Этот документ был написан в 1953 году, уже после ареста Берии. В нем Судоплатов описывает встречу с болгарским послом, которая состоялась в период с 25 по 27 июля 1941 года. И вот что он пишет: «Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменевым четыре вопроса. Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку, и они сводились к следующему:
1. Почему Германия, нарушив Пакт о ненападении, начала войну против СССР?
2. Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны?
3. Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек?
4. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует?»
В 1991 году, незадолго до своей смерти, Судоплатов был опрошен КГБ о службе в предшествующей этому комитету организации – НКВД. Он мельком упомянул встречу со Стаменовым, отметив, что Берия должен был лично встретить посла, но Молотов запретил, ссылаясь на то, что «будет слишком официально», если на встречу пойдет он. Судоплатов также признался, что Стаменова выбрали возможным посредником не только потому, что как посол Болгарии он представлял на тот момент интересы Германии в Советском Союзе, но также потому, что Берия подозревал его в симпатиях к СССР. Вероятно, это было связано с тем, что в прошлом Берия не раз оказывал Стаменову услуги – например устроил его жену на работу в Москве. Судоплатов заходит даже так далеко, что называет болгарского посла советским агентом.
По распоряжению Берии встреча должна была пройти в грузинском ресторане «Арагви» в Москве. Судоплатов отметил, что его начальник поставил еще одно условие: «Берия строжайше предупредил меня, что об этом поручении Советского правительства я нигде, никому и никогда не должен говорить, иначе я и моя семья будем уничтожены».
Судоплатов, уединившись со Стаменовым в личном кабинете Берии в ресторане «Арагви», добросовестно задал ему эти четыре вопроса. Болгарский посол отреагировал более чем невозмутимо. «Стаменов старался держать себя как человек, убежденный в поражении Германии в этой войне. Быстрому продвижению немцев в первые дни войны он большого значения не придавал. Основные его высказывания сводились к тому, что силы СССР, безусловно, превосходят силы Германии и что, если даже немцы займут в первое время значительные территории СССР и, может быть, даже дойдут до Волги, Германия все равно в дальнейшем потерпит поражение и будет разбита». Сразу после встречи, по словам Судоплатова, он пересказал вкратце состоявшийся разговор Берии; на этом его участие в заключении мира с Германией закончилось.
Какой же вывод можно сделать, ознакомившись с этим отчетом? Он был написан для того, чтобы защитить Берию от нападок, начавшихся после смерти Сталина. Это полностью объясняет закравшееся в показания Судоплатова странное противоречие: в начале отчета он утверждал, что Берия действовал с полного согласия советского правительства, но в конце он отмечает, что убежден (поскольку «обвинители» Берии сказали ему так): его бывший начальник организовал «эту подлую диверсию» по собственной инициативе. Разумеется, отчет никоим образом не повлиял на отношение к Берии, если только не предположить, что он действовал один, но ведь это абсолютно невозможно и нелогично – с чего бы вдруг Берия решил, что сумеет в одиночку заключить мир с вражеской державой?
Кроме того, вся его карьера строилась на близких отношениях со Сталиным, так зачем же ему могло понадобиться подвергать себя такому риску и предпринимать действия, не получив согласия начальника, который олицетворял все советское правительство, будучи его главой, народным комиссаром обороны, Верховным главнокомандующим и руководителем Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)?
Судоплатов также пишет, что Берия объяснял ему целесообразность обращения за помощью к Стаменову следующим образом: «это позволит Советскому правительству сманеврировать и выиграть время для собирания сил»28. Даже после падения коммунистического режима он не раз возвращался к этим словам, настаивая, что «благодаря этой дезинформации они хотели просто выиграть время». Однако к подобному оправданию также следует относиться довольно скептически. Даже если Берия действительно пытался поспособствовать проведению мирных переговоров, он в любом случае должен был проинструктировать Судоплатова именно таким образом – только так он мог потом спастись от возмездия, если информация о встрече с болгарским послом станет кому-нибудь известна. «Само собой, – сказал бы тогда Берия, – эта история была частью обширной кампании по дезинформации». Так что, если бы сведения о переговорах впоследствии просочились в партию (как это в итоге и произошло, после чего данную информацию использовали против Берии в суде в 1953 году), он бы мог попытаться выступить в собственную защиту.
Русский историк Дмитрий Волкогонов, изучив при написании биографии Сталина ранее засекреченные документы, обнаружил новые доказательства того, что едва ли советское руководство пыталось таким образом «выиграть время для собирания сил». Он пишет, что «даже Молотов рассматривал вариант предложения советских территорий в обмен на прекращение военных действий, называя его “вторым Брестским договором”, и отмечал, что раз уж Ленин осмелился на такой шаг, то и у нас все получится»29.
И последний примечательный момент в ранее засекреченном отчете Судоплатова – дата встречи с болгарским послом, конец июля 1941 года. Благодаря этой информации рассказ одного русского историка, лично знакомого с маршалом Жуковым, приобретает особое значение. В 1960-х годах Жуков впал в немилость, и профессор Виктор Анфилов по-дружески поддерживал его в тяжелые времена. Как-то Жуков рассказал ему, как в начале октября 1941 года, самый тяжелый для СССР момент войны, Сталин пригласил его к себе на дачу: «Переступив порог, я тут же поздоровался: “Добрый день, товарищ Сталин!” Он, должно быть, не расслышал моих слов, потому что сидел ко мне спиной, и продолжал разговор с Берией, который пришел на встречу раньше: “…свяжитесь с помощью своих агентов с немецкой службой разведки, узнайте, что Германия потребует от нас, если мы предложим сепаратный мирный договор”».
До недавнего времени не утихали споры о том, когда же на самом деле произошла памятная встреча с болгарским послом – в июле или в октябре. Судоплатов раскрыл эту тайну и назвал точное время – конец июля. И все же Жукову довелось услышать подобный разговор в кабинете самого Сталина в октябре. Таким образом, мы приходим к новому, интригующему выводу: что, если с разрешения Сталина Берия пытался устроить мирные переговоры и в июле, и в октябре (и, возможно, на протяжении всего этого периода)? И если Жуков действительно рассказал все без утайки, то едва ли можно назвать разговор Сталина с Берией очередной дезинформацией; скорее всего, советского лидера охватило чувство безысходности. Поэтому неудивительно, что после войны советские лидеры попытались сделать вид, будто у них никогда и в мыслях такого не было, и переложить вину на плечи Берии и Судоплатова. Сталин и его подчиненные поступили так же, как и немецкие генералы, которые захотели переписать историю, когда исход войны стал известен.
В первые месяцы вторжения немцы наверняка не приняли бы предложение мира от Сталина, даже на унизительных для него условиях, хотя бы потому, что в результате своих сокрушительных побед взяли в плен около миллиона советских солдат. «Я помню огромное количество военнопленных, – рассказывает Рюдигер фон Райхерт, – где уж тут было усомниться в победе, когда перед глазами такое». При виде советских военнопленных Райхерт лишний раз убедился в том, что нацисты в своих пропагандистских фильмах совершенно верно показывали «недочеловеков»-славян: «Мы видели перед собой людей, которые совершенно очевидно стояли ниже нас по уровню развития, по духу, по умственным способностям. Мне стыдно произносить сегодня такие слова, ведь теперь мы видим все совершенно иначе».
Судьбе советских военнопленных и по сей день уделяют недостаточно внимания на Западе. Всем известно о шести миллионах, погибших во время Холокоста. Но при этом мало кто знаком с ужасающей статистикой, согласно которой из 5,7 миллиона советских солдат, попавших в плен в период с июня 1941-го по февраль 1945 года, целых 3,3 миллиона погибли от голода и болезней30. К советским пленным относились совсем не так, как к британским и американским. У советских военнопленных часто не было ни еды, ни крова, ни лагерей как таковых – их держали в поле, огороженном колючей проволокой. Ужасы нацистского плена довелось пережить Георгию Семеняку, которого немцы взяли в плен под Минском в июле 1941 года. Его вместе с восьмьюдесятью тысячами других военнопленных загнали на огороженный участок, охраняемый пулеметчиками. В первую неделю им не давали ни еды, ни воды – пить пришлось из грязной речушки, протекавшей на самом краю лагеря. На второй неделе немцы сбросили им несколько ящиков с продуктами, в которых советские солдаты обнаружили одну малосольную селедку. Нацисты остались посмотреть, как пленники дерутся за каждый кусок съестного.
Осенью Семеняка переправили в Польшу, где условия оказались еще хуже. Около ста тысяч советских военнопленных снова остались в чистом поле, где негде было даже укрыться от дождя. Немецкие караульные стреляли по людям, просто чтобы немного поразвлечься. Все кишело вшами, поэтому вскоре лагерь охватила эпидемия тифа. Болезнь, голод и отчаяние привели к тому, что пленники стали поедать своих товарищей. Растерзанные тела были разбросаны по всей ерритории лагеря. Плоть, печень, легкие – люди вырезали из трупов все, что можно, чтобы зажарить и съесть. Несмотря ни на что, Семеняку удалось выжить (по его словам, сам он не опустился до каннибализма), и, описывая отношение к нему в плену, он в конце рассказа подвел итог: «Они просто никогда нас за людей не считали».
После войны некоторые немецкие офицеры настаивали на том, что никто не предвидел такого огромного количества пленных, поэтому немецкой армии не хватало ресурсов и средств на их содержание. Но едва ли в их словах есть хотя бы доля правды. И хотя до сих пор не появилось достаточно веских доказательств того, что истребление военнопленных во время войны обсуждалось еще на стадии ее планирования, существует более чем достаточно косвенных улик, подтверждающих, что все эти издевательства над советскими солдатами являлись очевидным последствием того, как эта война замышлялась.
На стадии разработки операции «Барбаросса» уже было ясно, что большая удаленность от линии фронта и особая транспортная система Советского Союза значительно усложнят тыловое снабжение немецких войск. К 1941–1942 годам вся германская армия, согласно соответствующему документу от 2 мая 1941 года, изданному Центральным бюро по экономике рейха, должна была «существовать за счет России»31. Если верить данному документу, последствия были очевидны даже для нацистов: «Таким образом, десятки миллионов советских жителей неизбежно погибнут от голода, если мы заберем у них все необходимое для нашего государства».
23 мая того же года это бюро издало еще одну директиву, в которой более детально описывается то, как отразится германское вторжение на продовольственных запасах граждан СССР. Она называлась «Общие политико-экономические директивы для экономической организации Востока» и гласила, что главной целью использования российских ресурсов является снабжение продовольствием не только вермахта, но также всех оккупированных нацистами европейских территорий»32. Как следствие, они обрекали на голодную смерть 30 миллионов советских жителей северной части оккупированного региона.
Командование вермахта наверняка предвидело, к чему приведет пленение такого количества советских солдат, – пусть даже оно не предвидело, что за первые семь месяцев войны в плен будет взято целых три миллиона советских солдат. Однако ими не были приняты адекватные меры даже для того, чтобы принять значительно меньшее количество военнопленных, что неудивительно, учитывая стиль и характер документов, которые мы только что цитировали. И действительно: если, еще на стадии планирования войны допускалось возможным уморить голодом тридцать миллионов мирных жителей, то зачем им было пытаться сохранить жизнь потерпевшим поражение вражеским солдатам?
В то лето, когда советские военнопленные гибли в немецких лагерях, Гитлера заботило дальнейшее продвижение вермахта по территории Советского Союза. Вопреки его ожиданиям, несмотря на мощь первых немецких ударов, советская система отнюдь не подавала признаков неизбежного коллапса. Хотя огромное количество солдат и попало в плен, советское правительство планировало призвать резервы, что немцы явно должным образом не учли. На многих участках Красная Армия оказывала ожесточенное сопротивление. Кроме того, нерешенными оставались проблемы, вызванные масштабом операции. К середине июля некоторые танковые части продвинулись в глубь советских территорий уже на шестьсот километров, и выяснилось, что предварительные расчеты, согласно которым такие части в случае необходимости смогут «выжить за счет местного населения», оказались чистейшим вымыслом. Отступая, советские войска жгли и уничтожали все, что могло оказаться хоть сколько-нибудь полезным немцам, а тыловое снабжение усложнялось не только из-за больших расстояний, но и из-за недостаточно развитой советской инфраструктуры (дороги были преимущественно грунтовыми, а ширина российских железнодорожных колей отличалась от немецких). Вдобавок ко всему передовые танковые части несли большие потери. Этого следовало ожидать от блицкрига, ведь именно на них пришлись тяжелейшие удары сопротивляющегося противника. Так, передовая танковая часть Вальтера Шеффера-Кенерта в первые восемь недель сражений потеряла пятьдесят процентов личного состава, ведь тактика «молниеносной войны» не была рассчитана на удержание позиций в течение нескольких месяцев.
В июле и августе 1941 года в «Волчьем логове», главной ставке Гитлера в Восточной Пруссии, между фюрером и его генералами произошел спор. Они не сошлись во мнении касательно новой стратегической задачи. Немецкий фронт оказался разрезан надвое Пинскими болотами – непроходимой для танковых войск территорией. В то время как группа армий «Центр», которая обошла болота с севера, одерживала одну победу за другой, группа армий «Юг», наступавшая южнее, встретила яростное сопротивление. Генералы Гитлера считали, что группе армий «Центр» следовало продолжать наступление прямо на Москву. Сам же фюрер придерживался другого мнения: еще в декабре 1940 года он решил, что гораздо важнее уничтожить промышленность Советского Союза, чем захватить его столицу, и, кроме того, его беспокоили возможные фланговые удары по группе армий «Центр».
Ситуация только усложнилась, когда из-за дизентерии, случившейся у Гитлера в начале августа, возникла очередная заминка в координировании боевых действий. Фюрер то отправлял войска на Москву, то, через несколько дней, настаивал, что прежде нужно решить другие задачи. 19 августа Геббельсу, министру пропаганды, даже показалось, что Гитлер усомнился в победе немецких сил как таковой: «Фюрер злился на себя за то, что позволил обмануть себя сведениям, полученным из Советского Союза, о вражеском военном потенциале. Тот факт, что он недооценил мощь советских танковых дивизий и авиации, означал, что нашим войскам придется встретиться с рядом непредвиденных осложнений. Одна только мысль об этом причиняла ему боль. Нас ожидал серьезный кризис»33. 21 августа Гитлер наконец объявил о своем окончательном решении: оптимальным вариантом станет оккупация Ленинграда на севере и разгром советских сил на юге, благодаря чему исчезнет угроза фланговых ударов по группе армий «Центр».
Казалось, такое решение должно было подорвать веру нацистских генералов в победу в войне. Однако с точки зрения военной стратегии решение Гитлера не было лишено здравого смысла34. Продвижение группы армий «Центр» в сторону Москвы в августе было рискованным мероприятием – возможные фланговые удары советских войск действительно представляли угрозу, поскольку на тот момент командование Красной Армии сосредоточило огромные силы южнее Припятских болот, на территории Украины. Немцы могли дойти до Москвы, но внутри города они оказались бы отрезаны от остальных своих войск, как это произошло позднее в Сталинграде.
Приказ Гитлера о повороте танкового корпуса Гудериана на юг, в сторону украинской столицы Киева, принес вермахту ошеломительную победу, благодаря чему фюрер вновь уверовал в победу рейха над коммунизмом. Под Киевом в самой широкомасштабной операции современности по окружению сил противника немцы взяли в плен более шестисот тысяч солдат. В него попали целые советские армии, некоторые из них оказались в западне на левом берегу Днепра, когда 18 сентября Киев был оставлен советскими войсками.
Ответственность за эту катастрофу лежит на Сталине. Доминируя в Ставке, как называли штаб Верховного главнокомандующего советских войск, он искренне верил в собственную гениальность, несмотря на безграничное невежество в военной стратегии, а потому приказал Красной Армии совершить невозможное и продолжать удерживать оборону Киева. В числе тех немногих, кто осмелился ему возразить, был маршал Жуков. Он выступил с предложением вывести войска Красной Армии из Киева в связи с угрозой окружения. Однако Сталин в ответ бросил лишь свое привычное: «Что за чепуха!» Тогда Жуков попросил снять его с должности начальника Генерального штаба – и Сталин немедленно принял его отставку.
По словам Николая Пономарева, личного телеграфиста Сталина, телефон главы государства буквально разрывался от звонков напуганных командиров Красной Армии из Киева. «Они в один голос твердили, что не сумеют удержать город, – рассказывает он. – Просили разрешить вывести войска, но Сталин требовал обратного: “Держитесь, сколько сможете”». Непримиримость и упрямство Сталина дорого обошлись войскам – страшные потери среди красноармейцев как нельзя лучше свидетельствуют об отсутствии у него стратегического мышления. Его представления об обороне в то время полностью совпадали с теми, которыми позднее ограничился и сам Гитлер, – не сдавать позиций и стоять до последнего.
Немецкие солдаты ликовали. «Мы побеждали, – вспоминает Губерт Менцель, который сражался в танковых войсках под Киевом. – Мы сумели взять город в кольцо даже на большом расстоянии, раньше о таком успехе мы и подумать не могли!» Гитлер также пребывал в эйфории. Он считал эту победу поворотным моментом в ходе войны. Избавившись от угрозы ударов с фланга, теперь он согласился с тем, что немецкие войска нужно направить на Москву. Захват Москвы стал целью немецкой военной операции под кодовым названием «Тайфун».
В рядах советских бойцов вследствие огромных потерь под Киевом царили замешательство и ужас. «Мы не понимали, как вышло так, что наши войска уступают город за городом, – вспоминает Виктор Страздовский, которому тогда, в 1941 году, было восемнадцать лет. – Настоящая трагедия. Словами не выразить, как тяжко нам тогда пришлось». Осенью того года Страздовский вступил в ряды Красной Армии, и его тут же поразило, с каким устаревшим оружием он должен воевать против могущественного врага. «Выданные нам 60-миллиметровые минометы были трофейными еще с Первой мировой – на них даже не было современных визиров. На пять наших солдат приходилась лишь одна винтовка».
Плохо вооруженному и необученному Страздовскому предстояло принять участие в битве под Вязьмой. Этот город был последним серьезным препятствием на пути немцев к Москве. В начале октября 1941 года 3-я и 4-я немецкие танковые группы с юга и востока прорвались к Вязьме и окружили пять советских армий, образовав так называемый «Вяземский котел». «Мы были с немцами лицо к лицу, – рассказывает Страздовский, – нам предстоял реальный бой с этим примитивным оружием в руках. Нам недоставало уверенности в собственных силах… Когда меня отправили туда, где немцы прорвали нашу линию обороны, можете представить, как мы себя чувствовали – мы чувствовали, что нас обрекли на смерть. Нас было четверо, на всех – две винтовки, мы не знали, куда бежать. Лес пылал. С одной стороны, мы не могли ослушаться приказа, но с другой – мы тоже хотели жить».
Советские солдаты отчаянно пытались вырваться из «немецкого котла». «Я видел одну из атак, рано утром, – рассказывает Вальтер Шеффер-Кенерт, офицер 11-й танковой дивизии. – Мы обосновались на вершинах холмов, внизу над рекой поднимался туман. Когда он внезапно рассеялся, мы увидели по ту сторону болот цепочку автомобилей и несколько тысяч солдат. Кровь застыла в жилах… И тут русские ступили на заболоченную местность, их автомобили увязли в болоте. Солдаты просто шли на нас, как стадо баранов». Шеффер-Кенерт крикнул своим людям: «Пусть идут, подпустим их поближе!» Когда они оказались на расстоянии выстрела из 20-миллиметровой зенитной пушки и пулеметов, немцы открыли огонь.
На следующий день Шеффер-Кенерт увидел поле боя, усеянное телами тысяч погибших и раненых советских солдат: «Среди них было несколько девушек – никогда этого не забуду, – на них были брюки и солдатская форма, они возили за собой запряженную лошадью повозку с бочкой воды и поили умирающих русских солдат… Тогда полегли тысячи – мы словно стали участниками потрясающей древней битвы».
Вольфганг Хорн служил в другой танковой дивизии, которая схлестнулась в бою с другими советскими частями в битве под Вязьмой. Взглянув на красноармейцев в полевой бинокль, он «не поверил своим глазам». Только первая шеренга идущих на немцев бойцов была вооружена винтовками – все остальные шли в бой без оружия. Когда первая шеренга пала, – рассказывает Хорн, – бойцы второй подняли с земли оружие павших и пошли на нас… Идти в атаку без оружия – нам это было совершенно непонятно».
Той ночью советские войска снова пытались выйти из окружения… В части Хорна заметили приближение грузовиков с русскими солдатами. Красноармейцы тут же открыли огонь. Но, стоя в грузовиках, они для Хорна и его товарищей, которые бросали в советских бойцов ручные гранаты, представляли собой «прекрасную мишень». Сам Хорн получил в этой стычке легкое ранение, которое лишь подстегнуло его, и он стал еще яростнее отстреливаться в ответ на огонь солдат противника, оказавшихся в ловушке вокруг собственных грузовиков. «Русские повели себя как настоящие трусы, – с презрением говорит Хорн, – они стали прятаться позади остановившихся машин». Когда советские солдаты упали на землю, в страхе прижимаясь друг к другу и прикрывая руками головы, Хорн крикнул по-русски: «Руки вверх!», а когда те не ответили, он вместе с товарищами открыл огонь и всех расстрелял. «Они не сдались, – поясняет он, – и мы их застрелили. Для нас это было обычное дело… Повели себя как трусы – значит, не заслуживают лучшей доли, так нам казалось».
Даже если бы Хорн принял их сдачу той ночью, эти люди все равно прожили бы недолго, потому как лейтенант, командовавший их подразделением, принял решение расстрелять большинство советских военнопленных. Хорн счел приказ не только «бесчестным», но и «безрассудным», потому как «русские, скрывавшиеся в лесах, могли увидеть, как расстреливают их соотечественников, что придало бы им сил в следующем бою».
Виктор Страздовский говорит о той битве очень скупо: «Настоящая мясорубка: безоружных людей отправляли против обученной армии на верную смерть». Вальтер Шеффер-Кенерт придерживается несколько иной точки зрения: «Для русских чужая жизнь не имела значения. Они относились к человеческим жертвам не так серьезно, как мы… Тогда мы все были убеждены, что от Красной Армии практически ничего не осталось».
Кульминация операции «Барбаросса» пришлась на октябрь 1941 года. Победы группы армий «Центр» в битвах под Вязьмой и Брянском устранили последнее серьезное препятствие на пути к Москве. Тем временем группа армий «Юг» после взятия Киева укрепила свое положение, полностью оккупировав «житницу Советского Союза» Украину. Группа армий «Север» взяла в кольцо Ленинград, пытаясь голодом сломить сопротивление его защитников. Так начались девятьсот дней блокады Ленинграда, где зимой 1941/42 года голодной смертью умерло почти полмиллиона человек. Большие успехи Германии на фронте окончательно убедили Гитлера в скорой победе, и в ходе выступления в берлинском Дворце спорта он объявил, что Красная Армия «доживает свои последние дни»35. Йодль заметил, что «мы окончательно и бесповоротно выиграли эту войну!», а Отто Дитрих, личный пресс-секретарь фюрера, заявил: «Советская Россия потерпела полное поражение»36.
Под Вязьмой и Брянском немцы взяли в плен еще шестьсот шестьдесят тысяч солдат. Новости с фронта наполнили сердца москвичей отчаяньем – столицу защищало лишь девяносто тысяч красноармейцев. В такой безрадостной атмосфере Николай Пономарев, личный шифровальщик Сталина, получил приказ связаться с Жуковым, который вновь был в фаворе и назначен на должность командующего войсками Западного фронта. Сталин хотел с ним посоветоваться. «Я знал, что дела обстоят по-настоящему плохо, – рассказывает Пономарев. – Жизнь в Москве остановилась, метро перестало работать. Сталин подошел ко мне, поздоровался, как ни в чем не бывало, и спросил: “Что теперь делать? Немцы рвутся к Москве”. Я не ожидал такого вопроса и ответил: “Нельзя пустить немцев в Москву. Их надо разбить”. «Я тоже так думаю, – согласился он. – Давайте-ка спросим товарища Жукова, что он думает по этому поводу”».
Сталин более полутора часов слушал, как Жуков перечисляет все необходимое для эффективной обороны Москвы – танки, артиллерийские орудия и, самое главное, «катюши». «Это был очень сложный разговор, – вспоминает Пономарев. – Из него я узнал, насколько скудны наши ресурсы и малочисленна армия». Сталин ответил Жукову, что какая-то часть требуемого уже в пути. Затем, в присутствии Пономарева, Сталин спросил Жукова: “Георгий Константинович, а теперь скажите мне как коммунист коммунисту, удержим Москву или нет?” Жуков помолчал немного и ответил: “Товарищ Сталин, Москву мы удержим, тем более если мне будет оказана хотя бы часть помощи, о которой я вас просил”».
Однако в тот же день, 16 октября 1941 года, через десять минут после памятного звонка Жукову, один из помощников Сталина отдал Пономареву приказ собрать все оборудование и приготовиться к отъезду. «Еще через полчаса, – рассказывает Пономарев, – ко мне явился один из помощников Сталина и спросил, успел ли я собрать все необходимое. “А куда мы едем?” – задал я вопрос. Тот ответил: “Увидите. Берите вещи и идите за мной”. Снаружи уже ждала машина. Мы ехали темными улицами ночной Москвы. Моросил дождь. В конце концов я понял, что мы держим путь к железнодорожному вокзалу. Там я увидел бронепоезд, вдоль которого ходила личная охрана Сталина. Очевидно, мы дожидались только его самого и сразу по его прибытии должны были эвакуироваться из города».
Другие москвичи также пришли к выводу, что пора готовиться к эвакуации. Майя Берзина, которой был в то время тридцать один год, тоже решила бежать. «Тут и гадать было нечего – с отъездом правительства все сразу стало понятно, – рассказывает она. – Все указывало на то, что скоро Москву со всех сторон окружат вражеские войска. Мой муж был евреем, я сама – наполовину еврейка, это означало, что мы будем обречены. Муж побежал на вокзал, но там ему сказали, что поездов не будет… Посоветовали уходить пешком. Нашему сыну тогда исполнилось только три года, нести его на руках было уже тяжело, но он был слишком мал, чтобы идти самому. Мы не знали, что делать. Потом вспомнили, что южный московский порт вроде как по-прежнему работает, муж бросился туда, и оказалось, что можно еще успеть на какие-то суда. В тот день всех охватила паника, но именно тогда жители Москвы осмелели и проявили решительность – мы давно уже позабыли, что такое инициатива. Все привыкли к приказам и директивам. Выяснилось, что начальник порта начал распродавать билеты на судно, которое должно было отправиться на консервацию, и чудесным образом, мы успели их приобрести».
Майя Берзина не сомневалась тогда, в октябре 1941 года, что немцы непременно возьмут Москву: «Ходили слухи, что кое-кто из местных уже нарисовал для немцев приветственные плакаты. Была паника. Кондукторша сказала, что уже видела немцев в каком-то другом трамвае – уж не знаю, можно ли верить ее словам, или это – досужие домыслы… Директора магазинов распахнули двери, приглашая людей брать все, что захочется, чтобы немцам ничего не досталось».
В этом переполохе даже сам Сталин решил бежать из столицы. Согласно недавно рассекреченному постановлению № 34 Государственного Комитета Обороны от 15 октября 1941 года, вождь Советского государства совершенно искренне верил в то, что ситуация приняла серьезный оборот. Государственный Комитет Обороны постановил «эвакуировать Президиум Верховного Совета и партийных деятелей высшего звена… Товарищ Сталин покинет город завтра или позднее, в зависимости от ситуации… В случае, если вражеские войска войдут в Москву, НКВД – под руководством товарища Берии и товарища Щербакова – приказано взорвать промышленные здания с прилегающими постройками, склады и учреждения, не подлежащие эвакуации, а также все электрооборудование метрополитена».
Возможно, именно этот момент стал ключевым в ходе всей войны. Ведь если бы Сталин тогда приехал к поезду и бежал из Москвы, советское сопротивление могло бы значительно ослабнуть. Многие считали, что даже без Сталина резкое похолодание и сложности, с которыми немцам пришлось бы столкнуться в ходе боевых действий на территории такого большого города, и так отбросили бы вражеские силы назад. Однако такое развитие событий не осталось бы незамеченным для простых москвичей, боевой дух которых был бы решительно подорван. В пропагандистской риторике Сталин олицетворял весь Советский Союз. Прояви он малодушие, остальные последовали бы его примеру. И действительно: раз уж сам Сталин сбежал, отчего москвичи должны были оставаться в городе на верную смерть?
В конце концов, несмотря на возможный отъезд вождя, немцев наверняка бы окружили советские войска, отрезав их от приближающегося подкрепления – во всяком случае, именно так все произошло бы, если бы группа армий «Центр» перешла в наступление на советскую столицу в августе, пока еще существовала угроза фланговых ударов. Но теперь, в октябре, когда опасность таких ударов миновала, Москву ждала судьба Киева и Минска – городов, которые надежно удерживались немцами. Очевидные для всех страхи Сталина и его неспособность предотвратить растущую панику в городе значительно подорвали его авторитет. Если бы советское руководство не сумело удержать Москву – сердце советских транспортных сетей и сетей связи, – то на каких условиях они могли бы приступить к возможным мирным переговорам с неприятелем.
В конечном итоге Сталин принял решение остаться в Москве, но его одолевали сомнения. 15 октября, по словам члена политбюро Анастаса Микояна, Сталин объявил своим приближенным о намерении уехать из столицы следующим утром. Но уже к ночи 19 числа того же месяца Сталин переменил свое решение. В.П.Пронин, председатель исполкома Моссовета, также присутствовал на этом решающем заседании. Вот что пишет человек, которому довелось стать очевидцем того, как Сталин принимал важные решения: «Когда собрались в комнате, откуда предстояло идти в кабинет Сталина, Берия принялся уговаривать всех оставить Москву. Он был за то, чтобы сдать город и занять рубеж обороны на Волге. Маленков поддакивал ему. Молотов бурчал возражения, остальные молчали. Причем я особенно запомнил слова Берии: “Ну, с чем мы будем защищать Москву? У нас же ничего нет. Нас раздавят и перестреляют как куропаток”. Потом вышли через главный выход, пошли к Никольским воротам в кабинет Сталина. Вошли… Сталин ходил по кабинету со своей трубкой. Когда расселись, спросил: Будем ли защищать Москву? Все угрюмо молчали. Он выждал некоторое время и повторил вопрос. Опять все молчат. “Ну что же, если молчите, будем персонально спрашивать”. Первым обратился к сидевшему рядом Молотову. Молотов ответил: “Будем”. Так ко всем обратился персонально. Все, в том числе и Берия, заявили: “Будем защищать”37.
Так, Сталин решил остаться в столице, на защиту которой, по его мнению, правительство должно было бросить все силы. Чтобы успокоить народ, 20 октября он объявил в городе «осадное положение». С полуночи до пяти утра установили комендантский час, а поддержание порядка полностью возложили на плечи НКВД.
Владимир Огрызко командовал тогда одним из отрядов НКВД, которые пытались восстановить порядок в Москве. «Диверсионные отряды и шпионы, прорвавшиеся через линию обороны, сеяли панику среди населения, – вспоминает он. – Стоял грабеж среди бела дня – от страха все потеряли голову… В особенности малообразованный пролетариат. Отбросы общества показали свое истинное лицо».
Многие служащие органов НКВД восприняли приказ Сталина, как то, что их наделили абсолютной властью. «Это вам не мирное время, – рассказывает он. – Тут нельзя ждать, кричать: “Стой, стрелять буду!”, предупредительные выстрелы в воздух тоже мало чем помогут. Разумеется, стрелять надо сразу, без раздумий. Мы получили четкое распоряжение. Любого, кто пытался оказывать сопротивление или отказывался выполнять наши приказы, мы расстреливали на месте, особенно если они при этом еще пытались сбежать или спорить с нами. И это считалось проявлением героизма – ведь ты стреляешь во врага».
Улицы были запружены москвичами, пытавшимися покинуть город. К ним бескомпромиссный Огрызко относился с презрением. «Они драпали, – говорит он, – драпали, как крысы. Мародеры, скоты, думали спасти свою шкуру». Он переворачивал их легковые автомобили в канаву у дороги: «А если водитель погибал, что ж – туда ему и дорога».
Однако решение Сталина остаться в Москве и объявление в городе жестокого осадного положения действительно способствовали восстановлению общественного порядка. «Эти суровые, но отличные мер, – вспоминает Владимир Огрызко, – отражали саму суть этой ужасной войны. Нельзя сказать, что тем самым мы нарушали права человека – наши действия не были ни безумными, ни бесчеловечными. Мы чувствовали, что это абсолютно правильно – казнить тех, кто не осознавал истинного положения вещей перед лицом страшной опасности, нависшей над всей страной… Если бы мы не установили в городе суровый порядок, людей полностью бы охватила паника. Да все что угодно могло случиться! В буквальном смысле слова. Совет обороны во главе со Сталиным принял тогда единственно верное, мудрое решение».
С началом зимы стоявшие на подступах к городу немцы стали готовиться к решающему наступлению. Они уже прошли огромный путь, захватили в плен больше вражеских бойцов, чем какая бы то ни было другая армия за всю историю человечества. Вот только, в соответствии с первоначальным планом, они уже должны были выиграть войну…
Глава 6
Другая война
Эта война унесла невиданное прежде количество жизней гражданского населения. Во время немецкой оккупации погибло около тринадцати миллионов советских жителей, что почти в два раза больше, чем все население Шотландии1. В этой главе на фоне описания обороны Москвы и ужасов оккупации нацистами советских территорий в 1942–1943 годах мы попытаемся ответить на самый важный вопрос этой эпохи: почему эта война обернулась катастрофой для всего человечества?
В первую очередь, свою роль сыграло отношение лидеров враждующих сторон к гражданам своих государств: и Гитлера, и Сталина мало волновало количество жертв среди населения. В их отношении к войне не было ничего человечного. Стоило одному из них принять жесткие меры – и второй бы ответил еще более бесчеловечными действиями. Битва за советскую столицу стала апогеем жестокости и осознанного принесения в жертву человеческих жизней.
В середине октября 1941 года все выглядело так, будто Москву вот-вот сдадут неприятелю. Но после того, как Сталин решил остаться в городе, а отряды НКВД подавили панику среди населения, начались холодные дожди: дороги развезло, и продвижение германских войск по русской территории затянулось на три недели. Пока немцы выжидали, Жуков начал наводить дисциплину на фронте и в девяти резервных армиях, которые он собрал к востоку от Волги, подбадривая войска новостями о прибытии свежих сил из Сибири.
Операция «Тайфун», наступление вермахта на Москву, возобновилась 15 ноября и, благодаря заморозкам армии прошли значительное расстояние на пути к городу. К началу декабря несколько передовых частей оказались уже в двадцати километрах от центра Москвы – ближе к сердцу русского народа немцы еще никогда не были. Танковая часть Вальтера Шеффера-Кенерта была среди тех, кто сумел тогда, 4 декабря, так близко подобраться к столице. Сверившись с картами и позициями немецких артиллерийских батарей, он осознал невероятный факт: «Я измерил расстояние до Кремля и прикинул, что будь у нас дальнобойная пушка, мы могли бы стрелять по Кремлю». Командир полка выделил им мощное 105-миллиметровое орудие, и они открыли огонь. «С таким орудием мы едва ли могли нанести серьезный вред, – объясняет он. – Но мы думали тогда лишь о подрыве морального духа жителей Москвы – еще бы, обстрел города и Кремля!»
Этот бесполезный обстрел показывал, в каком положении находились на тот момент немцы: они зашли очень далеко, но все еще не достигли цели, к которой стремились. На следующий день, 5 декабря, часть Шеффера-Кенерта приняла на себя всю тяжесть удара советской контратаки. Когда немцы попытались уйти в оборону, им пришлось столкнуться с новым противником – российскими морозами. «Когда температура опустилась до минус тридцати, наши пулеметы пришли в негодность, – рассказывает Шеффер-Кенерт. – Да, все оружие прежде работало, как часы, но когда смазка замерзла, стрельба из них оказалась невозможной. И тогда нам стало по-настоящему страшно». К тому же он видел ужасные последствия отсутствия зимнего обмундирования. Согласно первоначальному плану «Барбаросса» две трети германской армии к этому моменту уже должны были вывести, поскольку война уже должна была триумфально закончиться, поэтому тщательных приготовлений к ведению военных действий в зимних условиях не предпринимали. «Мы несли большие потери – по ночам многие обмораживали конечности, – вспоминает Шеффер-Кенерт. – Когда пехотинцам приходилось спать под открытым небом, они выкапывали себе что-то наподобие нор в снегу. Затем поступил приказ, согласно которому караульные должны были каждые два часа проверять, не замерз ли кто-то до смерти, ведь сам несчастный не понял бы, что умирает. Наибольшая опасность замерзнуть насмерть наступала, когда днем мы вели жаркий бой и сильно потели, а ночью этот жар выходил из наших тел. Гибель от холода даже приятна, но умирать-то все равно не хочется!»
Проблемой подразделения Рюдигера фон Райхерта стало то, что они не могли больше везти с собой тяжелую артиллерию. Орудия тащили лошади, взятые с пивоваренного завода: «Эти изнеженные животные привыкли к удобным, теплым стойлам и регулярному кормлению, а теперь бедняг запрягли в тяжелые орудия, и они сначала тонули в болотах, затем месили грязь и, наконец, пробивались через снег. Почти у всех животных не выдержало сердце».
«Вермахт под Москвой представлял собой жалкое зрелище, – рассказывает Федор Свердлов, командир советской 19-й стрелковой роты. – Я хорошо помню немцев в июле 1941 года. Они были такими самоуверенными, сильными, внушительными. Маршировали, засучив рукава, тащили пулеметы. Но теперь они выглядели такими несчастными, их даже было немного жаль. Бедняги кутались в шерстяные платки, отобранные у старух в ближайших селах… Конечно, они продолжали обороняться, но это были уже не те немцы, которых мы знали раньше».
Седьмого декабря, во время продолжающейся советской контратаки, Гитлер получил добрые, по его мнению, вести о японской бомбардировке Перл-Харбора. Он решил, что теперь США связаны по рукам и ногам широкомасштабной тихоокеанской войной, а потому не могут больше оказывать поддержку Великобритании и Советскому Союзу. Лишь несколькими днями ранее фюрер получил сводку от Фрица Тодта, рейхминистра вооружения, в которой тот сообщал, что, если США примут участие в этом конфликте, Германию ждет неминуемое поражение. Но Гитлер по-прежнему видел в конфликте между Соединенными Штатами и Японией добрый знак. 11 декабря Германия официально объявила США войну. Для фюрера это было просто признанием очевидного: еще с того времени, как американцы предоставили гуманитарную помощь Англии, Гитлер предвидел возможность конфронтации с Соединенными Штатами, если, конечно, Британия не будет выведена из конфликта раньше. В конце концов, именно с этой целью фюрер начал операцию «Барбаросса» – он хотел устранить угрозу с Востока прежде, чем в Европе образуется фронт, пользующийся поддержкой США. К сожалению для Гитлера, ему не удалось, как планировалось ранее, сокрушить Красную Армию в 1941 году, а начало военных действий между Японией и Штатами и дальнейшее продвижение японских войск на юг, в сторону Сингапура, значило, что Сталин может отозвать больше солдат с восточной границы, будучи уверенным, что не будет атакован Японией – немецким союзником по «Оси». Теперь, когда Япония бросила все силы на наземные бои против Британии и на тихоокеанский конфликт с мощным американским флотом, втягиваться в войну с Советским Союзом было не в ее интересах.
К середине декабря положение немецких войск под Москвой стало безнадежным. Гальдер назвал это сложное положение «величайшим кризисом за обе мировые войны» и подытожил отчет генерал-квартирмейстера тогда, 4 декабря, следующими словами: «…мы полностью исчерпали свои человеческие и материальные ресурсы»2.
Шестнадцатого декабря Гитлер приказал своим войскам стоять до конца, поскольку считал, что отступление тогда, 4 декабря, может обернуться беспорядочным бегством. Он выпустил директиву, в которой призывал группу армий «Центр» «заставить войска с фанатическим упорством оборонять занимаемые позиции». Также она гласила, что если постепенное отступление будет необходимо, то «любой населенный пункт подлежит сожжению и уничтожению без какого-либо сочувствия к населению».
Командующий танковой группой Хайнц Гудериан яростно протестовал против нового приказа Гитлера. Он утверждал, что если армия не оставит прежних позиций, то командиры тем самым обрекут немецких солдат на верную, но бессмысленную смерть: нужно отступать. Гитлера это неповиновение потрясло до глубины души. «А, по-вашему, гренадерам Фридриха Великого нравилось умирать за свою страну?» – спросил своего полководца фюрер. Затем Гитлер открыто осудил Гудериана за излишнюю чувствительность: «Вы принимаете все слишком близко к сердцу. Постарайтесь отстраниться от происходящего»3.
Неприкрытое презрение Гитлера к тем, кто, как и Гудериан, испытывал сострадание к своим бойцам, стало еще одной причиной того, что война обернулась трагедией для всего человечества. Гитлер полагал, что во время кризиса побеждает тот, чья воля сильнее, и слово «воля» попросту стало синонимом жестокости. Ему не давало покоя то, что его генералы проявляют слабость, жалея солдат. 22 декабря Гудериана сняли с командования. Несколькими днями ранее, 19 декабря, фельдмаршал фон Браухич ушел в отставку по состоянию здоровья. Он не получил приличествующих своему положению орденов и наград. Вместо того чтобы оказать военачальнику надлежащие почести, нацисты очернили его имя. Для бескомпромиссных нацистов он стал еще одним примером того, что ждет генерала, не обладающего достаточной силой воли, которой требовал от всех своих подчиненных фюрер. Геббельс записал в своем дневнике в марте следующего года, что Гитлер назвал Браухича «трусливым и тщеславным негодяем, неспособным здраво оценить ситуацию, а тем более – стать хозяином положения». Геббельс приписал по этому поводу уже от себя, что «старшие офицеры из Генерального штаба неспособны проявить необходимую стойкость и силу характера. В этом вся суть нацизма – обмундирование не по погоде и скудное тыловое обеспечение были, оказывается, не результатом непродуманных расчетов, а «испытаниями характера»4.
Как узнали бойцы из части Вольфганга Хорна той зимой, замерзшие насмерть солдаты также не выдерживали «испытаний характера»: «Нам приказали следить друг за другом и напоминать однополчанам, чтобы те растирали побелевшие от холода носы – иначе несчастных ждало строгое наказание. Видите ли, тех, кто получал даже незначительные обморожения, следовало наказывать за измену Отчизне и саботаж военных действий».
Точно таким же жестоким дисциплинарным наказаниям подвергали пытавшихся отступить солдат и с советской стороны. Как офицер НКВД, Владимир Огрызко в ходе обороны Москвы бился в рядах арьергарда, прикрывая основные войска с тыла. Его задача была крайне проста – если советские бойцы бежали с поля боя, они должны были расстреливать предателей на месте. «Защитники поста, на который меня отправили, получили четкое распоряжение – убивать каждого, кто приблизится к нему, – рассказывает Огрызко. – Мы все равно давали им шанс, кричали: “Стой, стреляю!”. Но если они не останавливались, у нас не оставалось выбора… Существуют ведь определенные правила, особенно строго их нужно придерживаться в армии, а тем более – в военное время. И нечего тут демагогию разводить. Эти люди были предателями, ни больше ни меньше. Нужно вбивать такие прописные истины в голову – предатель должен быть готов понести заслуженное наказание». Огрызко и по сей день гордится своими действиями на войне: «Мы поступали правильно, нас не за что судить. Мы страхом сокрушали страх. И не важно, справедливо это было или нет. Шла война, а на войне нужна однозначность».
Характер самого Гитлера, несомненно, повлиял на дисциплину в рядах немецких войск, равно как и передался бойцам Красной Армии в той битве дух Сталина: «Жестокость, решительность и сила воли Сталина охватила и командиров на фронте, и младший командный состав, – вспоминает Федор Свердлов, командир пехотной роты. – Да, Сталин был беспощаден, но я и сегодня считаю, что в чем-то его можно понять. Нельзя в бою проявлять ни милосердия, ни жалости».
Во время интервью Свердлов честно признал, что, исполняя «жестокие» распоряжения Сталина, он собственноручно застрелил одного из бойцов своей роты. «Это произошло во время очередной успешной атаки. Нашелся один солдат, не помню сейчас его имени, который из-за своей трусости и жестокости битвы сломался и попытался сбежать, но я пристрелил его на месте, не задумавшись ни на миг. Всем остальным это послужило хорошим уроком».
Свердлов рассказал еще об одном проявлении жестокости командования в ходе обороны Москвы – он и солдаты, находившиеся в его подчинении, часто шли в бой нетрезвыми: «Есть такая русская поговорка – пьяному море по колено. Когда в газетах пишут, что в Москве-реке обнаружили очередного утопленника, можно не сомневаться, что последнее, что успел этот человек при жизни, – напиться в стельку. Пьяный не знает страха, и именно поэтому перед решающей атакой русских солдат поили водкой». Каждому наливали по сто грамм в день за счет Министерства обороны – поэтому этот «рацион» называли «наркомовские сто грамм». Но солдаты этим не ограничивались. «Вы, должно быть, слышали, что все русские любят выпить, – признается он, – но во время войны в этом была реальная необходимость. Конечно, мы редко когда выпивали всего по сто грамм, ведь наши войска несли большие потери каждый день, а водки высылали прежнее количество. Обычно я выпивал двести грамм на завтрак, сто – в обед, а если вечером мы не шли в бой – то еще двести, за ужином в компании друзей».
Федор Свердлов не считает, что спиртное снижало боевой дух советских солдат, – скорее наоборот: «Когда идешь в бой подшофе, то и в самом деле действуешь более решительно, ведешь себя как настоящий смельчак. Не думаешь о том, что тебя могут убить в любую минуту. Просто идешь вперед, стараясь убить врага. Честно говоря, на протяжении всей войны и немцы, и русские в критические моменты были пьяны, поскольку человеческий разум никаким иным способом не в силах был выдержать ужасы современной войны. Не знаю наверняка, выпивали ли англичане и американцы, высаживаясь в Нормандии, но готов побиться об заклад, что они пили свой виски».
К концу января 1942 года кризис для немцев подошел к концу. Фронт стабилизировался. Гитлер верил, что в этом исключительно его заслуга – разве не он вовремя отдал столь необходимый приказ стоять до конца? Его тщеславие не знало границ, и он назначил вместо Браухича на должность главнокомандующего вермахта единственного человека, который сумел бы достойно справиться с поставленной задачей, – самого себя. Однако в действительности Сталин и его генералы ни тактически, ни в плане наличия необходимых ресурсов все еще не были готовы нанести германской армии решительное поражение. Несмотря на то что исход войны все еще был неясен, нацисты тем временем имели новую империю, которой следовало управлять.
Тому, как немцы управляли на завоеванных территориях на Востоке (особенно на наиболее крупной из них – на Украине), также предстояло сыграть немаловажную роль в усилении жестокости войны. По иронии судьбы, учитывая то, чему суждено было произойти, в начале операции «Барбаросса» многие немецкие солдаты надеялись на то, что местное население восточных земель станет их союзниками, а не врагами. «В первые несколько месяцев войны нас приветствовали как освободителей, – рассказывает Петер фон дер Гребен, служивший старшим офицером в 86-й пехотной дивизии. – Иногда нас даже встречали хлебом-солью (традиционными символами гостеприимства и радушия), потому что крестьяне считали, что мы пришли избавить их от гнета большевизма». В памяти Рюдигера фон Райхерта, на тот момент офицера артиллерии 4-й армии, остались похожие воспоминания: «В первые месяцы нам радовались, время от времени угощали чем-нибудь с огородов – нам сильно не хватало свежих овощей. Разумеется, рады были не все, но многие действительно тепло приветствовали нас как своих освободителей».
Многие немецкие солдаты – даже те, кто вместе с Карлхайнцем Бенке служили в танковой дивизии СС, – думали, что операция «Барбаросса» может закончиться самой «обыкновенной» оккупацией: «Нам казалось, что после того, как мы займем Украину, она станет независимой страной и солдаты новой страны выступят вместе с нами против остальных большевиков. Возможно, это было наивно… И тем не менее именно так казалось большинству из нас, молодых солдат».
Причину того, что немецких солдат радостно встречали на Украине, найти несложно. Под гнетом московского правления украинцы вынесли огромные страдания. Голод начала 1930-х, порожденный политикой большевиков, унес жизни более семи миллионов человек. А незадолго до отступления под натиском германских войск сотрудники НКВД казнили тысячи украинских политических заключенных. «Мы мечтали о новом украинском государстве, – рассказывает Алексей Брысь, который жил на западе Украины. – И любая война против Советского Союза казались нам полезной войной».
Будучи восемнадцатилетним студентом мединститута, обладающим способностями к иностранным языкам, Брысь начал работать в местном немецком управлении по труду («арбайтзант») переводчиком. С его точки зрения, это не было актом коллаборационизма: «Думаю, что каждый мечтает о чем-то лучшем. Никому не хочется быть дворником и мести улицы». Ему, как и многим другим украинцам, немцы казались тогда просто очередными захватчиками, коих в истории Украины было немало. И, «при всех властях, независимо от их характера, их конкретная система воспринималась как “нормальная”. Например, приди китайцы, их систему приняли бы как “нормальную”. И мне пришлось бы как-то работать на них, потому что мне нужно есть, нужно где-то жить, нужно где-то работать. Вот почему у нас нет такого рода определения, как “коллаборационизм”, как у вас на Западе». Как казалось Брысю, у украинцев «не было иного выбора», кроме как работать на немцев.
Решение Алексея Брыся устроиться на работу к оккупантам основывалось лишь на том, что «немцы ничем не отличались от других захватчиков». Однако они отличались. Гитлер не верил в возможность сотрудничества с местным населением восточных территорий по образцу британского управления Индией, или римлян территориями их огромной империи. Гитлер считал, что с покоренными народами западной части нацистской империи, такими как французы или голландцы, можно обращаться менее жестоко, потому что они были преимущественно «цивилизованными», то народы Советского Союза, как «низшие», заслуживают другой участи, и кроме того, они не достойны тех ресурсов, которыми наделила природа их территории. «Уму непостижимо, – сокрушался он. – Высшая раса (т. е. немцы) вынуждена тесниться на слишком узкой для нее полоске земли, в то время как эти аморфные массы, которые для развития цивилизации не сделали ровным счетом ничего, занимают бескрайние земли, богатство и плодородие которых не сравнится ни с какими другими во всем мире»5. Гитлер настаивал на том, что немцы в ходе оккупации должны руководствоваться лишь одним законом, установленным самой природой, согласно которому сильнейший должен делать, что хочет.
Эта философия привела Гитлера к мечтам о таком способе завоевания, который сломил бы население оккупированных восточных территорий навсегда; свою миссию он видел в том, чтобы сделать их еще менее цивилизованными, чем они были, по его мнению, на тот момент. Уровень их образования, с точки зрения фюрера, должен быть сведен «к пониманию наших дорожных знаков, чтобы они не попадали под колеса наших автомобилей». Несмотря на все свое восхищение достижениями Великобритании в Индии, фюрер изучил и насильственную колонизацию американских земель, из чего извлек полезный урок относительно того, как обращаться с местным населением оккупированных Германией территорий: «Наш долг заключается лишь в том, чтобы германизировать эту страну путем заселения ее немцами, а на местное население следует смотреть как на краснокожих»6.
Подобные выдержки из речей Гитлера за обеденным столом показывают истинное лицо фюрера. Однако фюрер не всегда был так откровенен, как это предстояло узнать Альфреду Розенбергу, новоиспеченному рейхсминистру оккупированных восточных территорий. 16 июля 1941 года Розенберг встретился с Гитлером в его ставке «Волчье логово» в Восточной Пруссии, где высказал свою точку зрения о необходимости поощрять националистические чувства украинцев. Гитлер не возражал. Несколько позже, на одном из собраний, фюрер даже намекнул, что Украина в один прекрасный день может и в самом деле получить самостоятельность в рамках Германской империи. Но оказалось, что это были только слова. Таким способом Гитлер лишь пытался порадовать преданного, но заблуждающегося Розенберга. А вот 19 сентября фюрер раскрыл свои подлинные намерения, выступив перед нацистом, который полностью разделял его позицию по данному вопросу. Уцелел протокол встречи Гитлера с Эрихом Кохом, нацистским гауляйтером Восточной Пруссии и недавно назначенным рейхскомиссаром Украины. «И фюрер, и рейхскомиссар сочли независимость Украины неприемлемой… Кроме того, вряд ли что останется от Киева. Намерение фюрера разрушить до основания крупнейшие русские города как предпосылку незыблемости нашей власти в России будет подкреплено разрушением украинской промышленности Кохом с тем, чтобы вернуть пролетариат в деревню»7.
Какое удовольствие, должно быть, получал Гитлер, когда во время встречи с ярыми нацистами, такими как Кох, заявлял, что намерен «разрушить до основания крупнейшие русские города». Тут он мог быть честен до конца. С Розенбергом же, который, по сути, стоял выше Коха в нацистской иерархии, ему долгое время приходилось тщательно выбирать выражения. На первый взгляд такое его поведение не совсем понятно, ведь Гитлер сам назначил Розенберга на эту ответственную должность. Однако такое поведение Гитлера объяснимо, поскольку оно целиком соответствует тем методам, которых он придерживался в управлении нацистским государством, ловко используя их в собственных целях.
Во-первых, нацистские иерархии, по сути, были не тем, чем казались. Кох имел очень большую степень самостоятельности в вопросах управления Украиной и мог, возникни такая необходимость, непосредственно обращаться к самому Гитлеру, благодаря другой своей должности – гауляйтера Восточной Пруссии. Таким образом, он мог действовать в обход Розенберга. Во-вторых, Гитлер всегда был лоялен к тем, кто, как Розенберг, примкнул к нему еще во времена «борьбы», то есть до прихода нацистов к власти. Вот Розенберг и получил столь высокую должность в качестве награды за верность. В-третьих, назначение Розенберга на пост министра оккупированных земель давало возможность Гитлеру, в случае возникновения необходимости, натравить на него Коха. Внутренние распри в правящей верхушке нацистов лишний раз позволяли фюреру выступить в качестве арбитра, а это укрепляло его власть в сложившейся системе. И наконец, Гитлер не любил давать письменные распоряжения таким людям, как Розенберг и Кох, и противостояние между ними предоставляло ему возможность отказаться от любых своих слов, которые привели к «катастрофическим» последствиям. Фюрер сам признался в выступлении перед своими генералами, командовавшими группами армий вермахта летом 1942 года, что он готов сказать все, что угодно, если считает, что того требует сложившаяся ситуация: «Ради психологического воздействия, я бы пошел на что угодно; я мог бы сказать: “Давайте образуем абсолютно независимое государство Украина”. Сказал бы, глазом не моргнув, но выполнять все равно не стал бы. Это я сделал бы как политик. Но (поскольку я должен говорить это публично) я не могу довести до ведома каждого солдата также публично: “Все это – ложь, мои слова – лишь тактический прием”»8.
Очевидным следствием этого был ряд яростных споров между Розенбергом и Кохом о том, как следует управлять Украиной. В то время как Розенберг носился с идеей относиться к Украине более традиционным колониальным способом, отношение Коха лучше всего передает его выступление перед нацистским руководством города Киева. «Мы – высшая раса, и мы должны помнить: последний немецкий рабочий расово и биологически представляет в тысячу раз большую ценность, чем все местное население»9. Розенберг мечтал открыть в Киеве новый университет, а Кох закрывал одну школу за другой со словами: «Украинским детям школы не нужны. Всему, что они должны знать, их научат немецкие хозяева»10.
«Вы представить себе не можете, какой у нас царил беспорядок, – рассказывает доктор Вильгельм Тер-Недден, который работал в министерстве Розенберга в Берлине. – Ведение дел уплывало». Несмотря на то что Розенберг чисто технически был его начальником, Кох относился к нему с глубочайшим презрением. Тер-Недден присутствовал на встречах нового руководства и не уставал удивляться тому, что видел: «Кох то и дело отчитывал Розенберга, да так грубо, что на месте министра я бы просто вышвырнул его из кабинета! Но тот, молча, терпел все эти оскорбления». Однажды за обедом Кох и вовсе проигнорировал своего начальника, общаясь только с гостем, сидевшим рядом с ним, и лишь в самом конце встречи наклонился к Розенбергу и во весь голос спросил: «Что, Розенберг, скучаете? Я тоже». По словам Тер-Неддена, то были проявления извращенной политической системы, которая в свое время позволила Герману Герингу определять судьбу экономики Германии через четырехлетний план: «Когда Геринг приезжал в министерство, мы все выстраивались в коридоре, чтобы встретить его, а он говаривал частенько: “Да, в экономике я ни черта не смыслю, зато у меня неукротимая воля!”»
Собственная «неукротимая воля» Коха создавала совсем не ту Украину, какой ее представлял себе Алексей Брысь: «Понемногу между украинцами и немцами выросла стена, чувство неприятия». Брысь окончательно понял это однажды после разговора с Эрнстом Эрихом Хертером, немецким управляющим Горохова, родного города Алексея. Брысь как-то сказал, что мечтает однажды вернуться в мединститут и выучиться на врача. На что управляющий ответил ему, в духе Коха: «Нам не нужны украинские врачи или инженеры, вы нужны нам только коров пасти». Тогда Брысь понял, что немцы считали себя «богами на Земле».
И тем не менее нацистская политика на оккупированных территориях никогда не была простой – и не только из-за постоянных разногласий между функционерами, такими как Розенберг и Кох. Иногда нацистским управленцам было сложно предугадать даже последующий шаг фюрера, что ярко демонстрирует история со средствами контрацепции для украинцев.
В июле 1942 года Гитлер переехал из ставки в Восточной Пруссии в новую полевую ставку под украинским городом Винница, где находился до октября того же года. Оказавшись в связи с этим на Украине, верная правая рука фюрера Мартин Борман имел возможность наблюдать местных жителей из близлежащих селений. То, что он там увидел, поразило его: украинские дети отнюдь не походили на представителей низшей, недоразвитой расы. Напротив, у многих из них были белокурые волосы и голубые глаза. Пытаясь найти этому объяснение в нацистской эволюционной теории, он пришел к выводу, что все эти поразившие его дети были продуктом ужасных условий жизни и вследствие плохих жилищных условий и антисанитарии сумели выжить лишь самые сильные дети. А это, по мнению Бормана, не отвечало интересам рейха, а потому дальнейшее размножение украинцев следовало пресечь. Гитлер согласился. Лишь за несколько месяцев до этого разговора Гитлер кипел от гнева, осуждая ошибки, допущенные предыдущими немецкими колонизаторами: «Лишь создав для местных ясли и больницы, мы сможем укрепиться в колонии. Все это приводит меня в бешенство… Русские до старости не доживают. Они редко живут более пятидесяти-шестидесяти лет. Что за глупая идея делать им прививки! Никакой вакцинации для русских и никакого мыла! Пусть ходят грязные. А чего им надо дать, так это водки и табака»11.
После бесед с Борманом и несмотря на жгучее желание лишить украинцев всех остальных медицинских услуг, Гитлер согласился с тем, что местное население следует поощрять использовать выдаваемые нацистами противозачаточные средства. Однако всего за несколько недель до поездки Бормана по украинской сельской местности, ставшей для последнего настоящим откровением, один особо усердный чиновник, будучи уверенным, что непременно угодит Гитлеру, решил запретить все противозачаточные средства на оккупированных территориях. Аргументировал он это тем, что противозачаточные средства принадлежат к медицинским благам, которые фюрер приказал запретить к использованию местным населением. Узнав об этом, Гитлер пришел в ярость: «Если хоть один идиот рискнет отдать подобный приказ на оккупированных территориях, я его лично пристрелю как бешеную собаку! На восточных землях эти средства следует не только разрешать, но и активно распространять, потому как бесконечное размножение негерманского населения не в наших интересах»12.
Уже на следующий день после выступления Гитлера Борман передал распоряжение фюрера об «активном распространении» противозачаточных средств на Востоке Розенбергу. В его записке также значилось, что «ни при каких обстоятельствах на оккупированных территориях не должно появиться ни одной немецкой больницы»13.
В министерстве воцарилась полная сумятица, многие не верили, что приказ о распространении противозачаточных средств на самом деле поступил от Гитлера. Но, по крайней мере, министерство Розенберга не получило приказ воплощать это распоряжение в жизнь. Это сделал Кох, который более чем охотно добавил эти вызванные расистскими взглядами меры к собственному огромному плану карательных действий против украинцев14.
История с противозачаточными средствами поучительна не только тем, что демонстрирует, сколь значительное внимание Гитлер и Борман могли уделять мелочам, но также и тем, что именно в ней проявилась расистская подоплека всех действий Гитлера. С его точки зрения, одной из ключевых целей операции «Барбаросса» было не позволить, чтобы славяне «размножались как черви в навозной куче».
Для Алексея Брыся неприятие нового режима, которое росло в нем из-за отношения немцев к украинцам (а с недавних пор избиения и казни в его родном городе стали привычным делом), выплеснулось наружу 12 сентября 1942 года. Стоял погожий осенний день. Брысь наблюдал за тем, как на улице возле центра Горохова местные жители раскупают имущество евреев, убитых немцами, – горшки, кастрюли и прочую кухонную утварь. Но к действию Брыся побудил не этот факт. (В ответ на наши настойчивые расспросы он пояснил, что спокойно относится к тому, что и немцы, и украинцы наживались на гибели местных евреев: «Не думаю, что они понимали, что за вещи они покупают. Они просто воспользовались возможностью купить хотя бы что-то»). Однако в тот день один из местных попытался пройти без очереди, и какой-то немецкий солдат, следивший за распродажей, избил того палкой. У Брыся внутри что-то оборвалось, когда он увидел, как избивают его соотечественника, и он схватил немецкого полицейского за воротник. «Почему вы позволяете ему избивать этого человека?» – кричал Брысь представителям немецкой администрации, стоявшим неподалеку.
Немцы потрясенно смотрели на него. Да кто такой этот «раб», осмелившийся поднять руку на человека высшей расы? Тут сотрудник немецкой администрации опомнился и закричал: «Раус!» («Убирайся вон!»). Но Брысь не двинулся с места – не знал, что ему теперь делать. Немец закричал снова и ударил Брыся палкой. С этого момента жизнь Брыся переменилась. Он ударил в ответ. «Я неожиданно возомнил себя кем-то вроде рыцаря… Казалось, я сошел с ума… Потерял всякий страх перед немцами. Когда тебя вот так бьют, тебя сначала обуревают эмоции, и лишь потом начинаешь думать о последствиях». Брысь подался вперед, выхватил у немца палку из рук и оттолкнул его так, что тот упал наземь. Потом ударил его ногой по голове. Коллега поверженного представителя германской администрации потянулся за пистолетом. И только он начал расстегивать кобуру, Брысь бросился бежать.
Мелетий Семенюк был тогда среди горожан на улице, и по сей день он помнит о поступке Брыся: «Мне он показался настоящим героем, особенно, наверное, потому, что, как я знал, раньше сам работал на немцев». Увидев, как немецкий полицейский избивает того несчастного, Семенюк и сам был готов броситься на его защиту: «Ненавижу их всех. Но Брысь первым вступил в противостояние с оккупантами».
Немцы устроили на Брыся облаву. Они сразу отправили полицию в дом, где он жил вместе с семьей. Его родственников жестоко избили и отправили в концентрационный лагерь. По всему городу развесили объявления о розыске, в которых предлагали награду в десять тысяч рейхсмарок за его поимку. Но Брысь скрылся в лесу. Раньше он работал на немцев, а теперь решил с ними бороться.
История из жизни Алексея Брыся – лишь одна из тысяч подобных историй, перевернувших жизнь других разочаровавшихся украинцев, хотя и немногие из них осмелились оказать настолько яростное сопротивление немцам. И поскольку, похоже, не возникает никаких сомнений в связи между жестокостью немецкой администрации и созданием движения сопротивления, то в результате люди, подобные Коху, являющиеся физическим воплощением идей Гитлера, оказались очень удобными козлами отпущения. Офицер артиллерии Рюдигер фон Райхерт заметил, что «радушие» местного населения изменилось, когда оно «ощутило на своей шкуре последствия управления немецкой гражданской администрации, которая пришла вслед за военными. Естественно, слухи о том, что оккупанты считают себя представителями высшей расы и относятся ко всем как к рабам, разнеслись очень быстро». Бывший офицер танковой дивизии, Вальтер Шеффер-Кенерт, соглашается со своим сослуживцем. «Мы пришли к ним под видом освободителей, – вспоминает он, – чтобы избавить их от гнета большевиков. Если хотите знать мое мнение, то нацисты были слишком глупы, чтобы грамотно использовать такой козырь. Понимаете, мы действительно могли бы стать для них освободителями, но нацистская идея, что местное население – люди второго сорта, была смехотворна. И русские, и украинцы были такими же людьми, как и мы сами, с большим чувством собственного достоинства».
Многие другие немецкие солдаты придерживались такого же мнения: они пытались оправдать вермахт, утверждая, что ответственность за жестокое обращение с гражданским населением оккупированных территорий несет нацистская администрация – чиновники, подобные Коху. Однако это утверждение не соответствовало действительности: ведь Кох управлял не всей Украиной. В то время как большая часть территорий республики действительно была под управлением его рейхскомиссариата, Галиция и Волынь на Западе были объединены с Генерал-губернаторством под руководством гауляйтера Ганса Франка, а прифронтовые районы, в том числе восточноукраинский город Харьков, подпадали под юрисдикцию германских военных властей. При этом население бывшей столицы Украины пострадало гораздо больше, чем жители управляемого Кохом Горохова, родного города Брыся.
Зимой 1942/43 года по вине немецкой военной администрации Харьков охватил страшный голод, от которого погибли тысячи мирных жителей (точное число жертв нацистского режима в этом городе остается неизвестным и по сей день – по некоторым оценкам, тогда погибло около ста тысяч харьковчан). В то время как армия реквизировала для собственных нужд огромное количество продовольствия, большая часть населения была вообще лишена снабжения со стороны немцев. Солдаты видели, как наиболее слабые – в основном женщины, дети и старики – погибали от голода.
«Их мало заботило то, что вокруг умирают люди, – рассказывает Инна Гаврильченко, вспоминая, как военное правление относилось к жителям города. – Им было все равно… Не думаю, что это их сколько-нибудь волновало». Во время оккупации Инна была подростком, а потому хорошо помнит, как жители города пытались выжить в то сложное время: «Сначала убивали и ели бродячих собак. Но собак хватило ненадолго. Люди стали есть крыс, голубей, ворон». Когда животных не осталось, самые отчаявшиеся начали есть человечину. «Находились и такие, которые раскапывали свежие могилы, чтобы достать тела недавно умерших сограждан. Из добытого готовили всяческую снедь: из костей делали холодец, мясо варили и даже пекли некое подобие пирогов»[13].
Германская военная администрация не только лишила неработающее население Харькова каких бы то ни было средств к пропитанию: был строжайше запрещен въезд и выезд из города. Горожане не имели возможности «ходить на менку»[14]. В результате горячо любимый отец умер от голода на глазах у Инны. Хоронить было некому и не на что: обезумевшая от горя и голода девочка восемь дней пробыла рядом с покойником – сидела у его постели, разговаривала с ним[15]. Пришла соседка, помогла подготовить тело к погребению. «Я очень долго боялась, что его зарыли живым, – говорит Инна, – вдруг это была летаргия? Когда я сидела над ним, мне иногда казалось, что я слышу, как он тяжело вздыхает. Возможно, в результате разложения из его тела просто выходили газы… Не знаю».
Инна была уверена, что тоже умрет от голода. Но ей повезло. Соседка, работавшая в немецкой столовой, приносила домой помои с объедками, кипятила их и делилась этим с девочкой. На некоторое время Инна и сама устроилась на мясокомбинат «девочкой-на-побегушках». Иногда рабочим в качестве пайка давали кости или бычью кровь. «Знаете, – говорит Инна, – из крови можно делать что-то вроде омлета – как яичницу-болтушку, только без яиц…»
А когда не было и этого, она ела то, что удавалось найти в дикой природе. «Вы когда-нибудь пробовали березовую кору? Она сладковатая… А еще можно есть молодые листочки и побеги жасмина. В лесу можно найти множество съедобных вещей, хотя сегодня это трудно себе представить».
История Инны Гаврильченко – еще не самый страшный пример того, какие страдания принесли Харькову немецкие войска. Многим детям в то время пришлось гораздо хуже. Анатолию Реве было всего шесть, когда город захватили немцы. Его мучения начались, когда на соседней улице, как раз за их домом, был организован лагерь военнопленных. Отец Анатолия не мог спокойно смотреть на их страдания – он стал бросать им еду через забор. Немецкие охранники стали кричать, чтобы он немедленно это прекратил, но он не услышал (он был глухой) – и его застрелили на месте. От пережитого потрясения жена несчастного ослепла, и ее отправили в какую-то больницу – маленький Толя ее не нашел. Так, в марте 1942 года он остался совсем один.
Малыш стал просить милостыню на улицах. А поскольку ребенок был, по мнению немцев, бесполезным едоком, перспективы его были плачевны… Но однажды судьба ему вроде бы улыбнулась: какая-то незнакомая женщина подобрала малыша и отвела его в один из харьковских детдомов. Там его уложили спать на подстилку из сена, а когда он проснулся утром, оказалось, что никакого завтрака не предвидится ни в тот день, ни на следующий: в приюте не было никакой еды. Детей кормили какими-то объедками дважды в неделю, и, чтобы выжить, им приходилось копаться в мусоре, который выбрасывали в лес. «Я был настолько голоден, что ел орехи[16], – рассказывает Рева, – и эти орехи оказались ядовитыми[17]; но у меня не было выбора – моему желудку нужна была хоть какая-то пища. Другие дети ели листья и траву».
Дети в приюте один за другим погибали от голода, чаще всего ночью. Однако причиной смерти был не только голод. Время от времени приходили немецкие солдаты – они осматривали детей, выискивая тех, кому было сделано обрезание: искали евреев. Однажды Анатолий своими глазами видел, как во время осмотра солдаты обнаружили одного еврейского мальчика: его забрали из приюта на расстрел!
Поиск таких детей в большинстве случаев входил в обязанности эсэсовцев или других сотрудников сил безопасности. Но в большей части города были расквартированы обычные солдаты германской армии. Однажды голодное отчаяние преодолело страх: Анатолий подошел к группе солдат и попросил у них чего-нибудь поесть. Один из вояк отозвался: «Ладно, подожди минутку», – а через несколько минут вернулся и протянул мальчику кулек, наполненный испражнениями. «В них не осталось ничего человеческого, – рассказывает Анатолий. – Не жалели даже детей»[18].
Именно функционеры вермахта, а не нацистские лидеры вроде Коха, правили этим кошмарным миром, дирижировали адским оркестром голодных смертей. Но они несут ответственность не только за то зло, которое германская армия причинила мирным жителям во время войны на Востоке. Не так давно исследователи, детально изучившие сохранившиеся документы, отражающие деятельность отдельных подразделений вермахта на Востоке, подтвердили, что подобные зверства по отношению к местному населению встречались повсеместно, особенно в глубинке. И доказательства вины чиновников вермахта содержатся не только в документах – об этом свидетельствуют также сами немецкие солдаты.
Танковая группа Вальтера Шеффера-Кенерта, будучи передислоцирована после битвы за Москву, наряду с другими частями участвовала в уничтожении советских деревень в рамках германской политики выжженной земли: «Поймите, солдаты не хотели этого делать. Считали, что лучше участвовать в настоящей битве с неприятелем, чем жечь дома мирных жителей. И делали мы это с большой неохотой». Когда мы спросили Вальтера, какая судьба ждала тех, чьи дома он жег, он ответил: «Что ж, они искали себе новое жилье, бежали в соседнюю деревню или еще куда-нибудь». Но другие села, вполне возможно, уже тоже сожгли. «Да, могло быть и так, – пожимает плечами Вальтер. – Но у нас и без того было дел по горло…»
Вольфганг Хорн из 10-й танковой дивизии лично отдал приказ о сожжении русской деревни в ходе карательной операции. Он даже отказал детям и женщинам в убежище, потому что считал, что они относятся к низшей расе. «Европа делится на три региона, – объясняет он, – “А”, “В” и “С”. Россия относилась к Европе “С” – самому отсталому региону. Англия, Германия или Франция считались Европой “А”, в то время как какая-нибудь Польша классифицировалась как Европа “В”». Он не считал русских «цивилизованными людьми вроде нас… Они совершенно не понимали, что такое порядок: прийти вовремя, выполнить работу качественно, – не то, что мы, немцы». А это значило, что уничтожение русского селения для него ровным счетом ничего не значило. Вот «сжечь дом цивилизованного человека» – совсем другое дело. Но русские дома казались ему примитивными и не представляли особой ценности.
Адольф Бухнер служил в частях СС на восточном фронте, под Ленинградом, а потому был свидетелем воплощения желаний Гитлера вести войну на тотальное уничтожение. Под предлогом обвинения жителей некоторых деревень в укрывательстве партизан солдаты из отряда Бухнера поджигали деревянные дома из огнеметов и расстреливали каждого, кто пытался скрыться. «Это были беззащитные люди, можно было бы собрать их вместе и отправить в лагерь, где у них был бы хоть какой-то шанс выжить. Но вместо этого мы вынуждены были выполнить этот беспощадный, бессмысленный приказ. Что-то шелохнулось – огонь! Среди убитых были и дети. Никаких угрызений совести, были только живые мишени». Адольф Бухнер утверждает, что сам не стрелял в женщин и детей, но признает, что убивал мужчин, выбегавших из загоревшихся домов. «Что мне оставалось? Я был будто под гипнозом, словами это не описать». Жестокость немецких солдат доходила до того, что они расстреливали бездомных детей. «Ребенка нужно кормить, а значит, проще от него избавиться. Бросить его в канаву – и вся недолга». Однажды, когда отряд Бухнера атаковал школу, он спросил своих товарищей: «А вам не жаль детей?» «С чего бы нам их жалеть? – ответили они. – Ребенок тоже может держать в руках оружие».
Адольфа Бухнера и сегодня не оставляют мысли о том, что некоторым из его немецких товарищей убийства доставляли удовольствие: «Разве обязательно было расстреливать детей на глазах у их матерей, а затем убивать и самих женщин? Такое тоже случалось. Это ведь садизм. Среди наших офицеров были и те, кому нравилось слушать крики матерей и их детей – это их прямо-таки возбуждало. Я считаю, что в таких людях нет ничего человеческого… Смотреть, как ребенок плачет и зовет маму и папу… У меня в голове не укладывается, что человек разумный может быть способен на такие зверства, однако такие действительно существуют».
Адольфу Бухнеру прекрасно было известно о масштабах насилия, к которому прибегали немцы в ходе войны на восточных территориях. «В этом ужасе участвовали практически все немецкие солдаты, независимо от того, относились они к вермахту или к СС».
Еще один представитель германской армии подтвердил правдивость этих обвинений – Альберт Шнайдер, который служил механиком в батарее штурмовых орудий 201-го танкового полка. Он рассказал нам, как один из его товарищей забрал у местных крестьян, проходя через их деревню, свинью. Владелец животного стал возмущаться, даже не смог сдержать слез, и тогда немец вытащил пистолет и застрелил крестьянина. «Я дар речи потерял, – оправдывается Шнайдер, – наверное, я слишком труслив. Меня вообще сложно храбрецом назвать».
Шнайдер был не только свидетелем жестокости отдельных солдат вермахта (так, например, в одном селе он видел гору трупов, наверху которой лежало тело женщины, которой во влагалище засунули штык), но и его часть выполняла приказы, поступавшие от командира, а значит, также совершала военные преступления. Однажды часть Шнайдера остановилась на ночь в глухой деревеньке. Свои грузовики и орудия они поставили в амбар. Ночью внезапно взорвался один из двигателей. Наутро командир части приказал всем мужчинам этого селения собраться на площади. Некоторым из них едва исполнилось двенадцать. Немецкие солдаты приказали им бежать, если те хотят жить, но только лишь те сорвались с места, их тут же расстреляли. «Это зверство совершили без суда и следствия, мы ведь даже не знали, что произошло той ночью на самом деле, – сокрушается Шнайдер. – Возможно, машина просто перегрелась, с двигателями “Майбах” такое случается сплошь и рядом». Сегодня нам известно, что офицеров, отдававших такие ужасные приказы, в рядах вермахта было немало. И, разумеется, все они чувствовали себя вправе поступать так, оправдывая свои действия особой властью над восточными землями, которую им дала германская армия. Ведь именно генерал Гальдер предложил внести в печально известную директиву об операции «Барбаросса» в мае 1941 года особое положение, которое наделяло командиров властью отдавать приказы о сожжении деревень и убийстве отдельных жителей в случае, если те поддерживали советских партизан15.
Рассказав о повсеместных кражах и массовых расстрелах, Альберт Шнайдер признался, что изнасилования также были для немецких солдат обычным делом. Многие из них сегодня утверждают, что не приставали к местным женщинам – в первую очередь потому, что считали их представительницами низшей расы. Подобные действия должны были расцениваться как «расовые преступления» и серьезно караться. Но последнего на памяти Шнайдера никогда не случалось. Он видел, как один из его товарищей затащил какую-то русскую женщину в сарай, а потом слышал, как несчастная кричала, пока ее насиловали. Потом немец хвастался своими победами на личном фронте перед сослуживцами: «Ну, я ей показал!»
«Но это был не единичный случай, – вспоминает Шнайдер. – Женщин в одной только этой деревне насиловали несколько раз… Мы все знали, что такое происходит сплошь и рядом. Но никто и слова против не сказал… Однажды я спросил нашего сержанта, почему допускаются такие страшные вещи. А он ответил: “Потому что иначе пол-армии попало бы под трибунал!” По-моему, ответ исчерпывающий».
Таким образом, гражданское население оккупированных территорий подвергалось безнаказанным репрессиям и насилию со стороны любой немецкой военной структуры: армии, СС, айнзатцгрупп, либо гражданской администрации, находящейся под управлением фанатичных расистов вроде Коха. Все они несут ответственность за немыслимые страдания целого народа и укрепление движения сопротивления германской оккупации.
Со своей стороны, еще в самом начале войны, 3 июля 1941 года, Сталин выступил с призывом создавать партизанские отряды и разжигать партизанскую войну против немцев. В тот день он произнес в своей знаменитой речи следующие слова: «В захваченных районах [необходимо] создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».
Реакция Гитлера на призыв Сталина показательна: «Сейчас русские издали указ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет и некоторые преимущества для нас, – объявил он, – она дает нам возможность уничтожать любого, кто выступит против нас»16. А это означало, что страдания местного населения на оккупированных советских территориях только усилятся. Поскольку ни Гитлер, ни Сталин не руководствовались никакими моральными принципами, то солдаты их армий следовали примеру своих идеологических вождей – как советские партизаны, так и германские войска, пытавшиеся их выследить. В большинстве партизанских войн одна из сторон попросту пытается сохранить статус-кво, как это делали, например, американцы во время вьетнамской войны. В этой же войне ни одна сторона делать этого не хотела: немцы хотели построить на оккупированных территориях свою новую расовую империю, тогда как советские партизаны хотели не только сокрушить немцев, но и навязать свою волю местному населению. Попутно эти советские отряды также истребляли «пособников немцев», чтобы напомнить местным, что сталинский террор распространяется даже на оккупированные немцами территории.
Партизанское движение развивалось неравномерно17. На первом этапе развития, который пришелся на период с момента объявления войны до весны 1942 года, движение терпело неудачи. Несмотря на призывы Сталина, Советский Союз не был готов вести партизанскую войну. В концепции «активной обороны», согласно которой «части прикрытия обеспечивают отмобилизование, сосредоточение и развертывание главных сил Красной Армии, которые затем переходят в решительное наступление с переносом военных действий на территорию противника», партизанская война не имеет никакого смысла. А из-за своей врожденной подозрительности Сталин изначально враждебно относился к тому, что небольшие отряды вооруженных людей станут действовать за линией фронта в тылу врага, слишком далеко от управления из Москвы. Это, а также то, что во многих районах страны в первые месяцы войны многие верили в победу немцев и, подобно Алексею Брысю, надеялись, что немцы окажутся более добрыми завоевателями, служило причиной недостаточной поддержки советских партизан со стороны местного населения. Массовые немецкие карательные акции, направленные против партизан, в начале 1942 года, такие как например, операция «Ганновер», значительно снизили партизанскую активность, которая в этот период достигла самой низкой точки спада. Но благодаря поддержке Сталина и вере в то, что немцы в конце-концов могут потерпеть поражение в этой войне, движение начало набирать силу. Точное количество советских партизан, участвовавших в освободительной борьбе против немецких оккупантов, установить крайне сложно18. Согласно одному из последних подсчетов, в конце 1941 года партизанское движение насчитывало около двух тысяч отрядов, что составляет в общей сложности семьдесят две тысячи партизан. К лету 1944 года это число возросло уже до пятисот тысяч. (Связь партизан с Москвой была нерегулярной, ведь большую часть войны девяносто процентов партизан не поддерживали радиосвязь со своей стороной).
Михаил Тимошенко был одним из советских партизан, членом особого отряда НКВД. Он воевал с немцами и «предателями» среди гражданского населения, находившегося на оккупированных территориях, с беспощадностью, которая наверняка пришлась бы по нраву советскому вождю. Если его отряду удавалось захватить немецких пленных, то он, как правило, отдавал приказ их расстрелять. «А что еще с ними было делать? – недоумевает Тимошенко. – Отпустить их на свободу, чтобы они снова взяли в руки оружие и вновь принялись нас убивать?» Он никогда сам не назначал непосредственных исполнителей приговора – на эту миссию всегда вызывались добровольцы. «Знаете, мы все считали немцев своими заклятыми врагами, которых нужно истребить, – поясняет Тимошенко. – Поймите, дома наших бойцов – вместе с их родителями – сожгли немцы. Они хотели отомстить»19.
Для тех, кто остался за линией фронта, самой насущной проблемой стала базовая человеческая потребность – пропитание. Партизанам изредка сбрасывали с воздуха небольшие запасы провианта, но большую часть времени им все же приходилось питаться за счет местного населения или отбирать провизию у немцев. Тимошенко всегда забирал у убитых им немцев пайки, «особенно, если они принадлежали к дивизиям, прибывшим из Европы, потому что в их пайках всегда были ром и шоколад. Иногда даже салями находили! У них было полно еды, а нам нужно было питаться, чтобы не помереть с голоду».
Когда поблизости не было немцев, на которых можно было устроить засаду, партизаны брали еду у местных крестьян. А это могло стать основной причиной конфликтов. Иван Тресковский был еще подростком, жил со своей семьей в обветшалом доме на окраине села Усяжа, в белорусской глубинке. Он вспоминает, как спрятался на чердаке и слышал, как партизаны наведались к его отцу: «Они были пьяны в стельку! – рассказывает он. – Забрали сало, кур, одежду. Отнесли потом все в соседнюю деревню и продали или обменяли на водку – вот чем они занимались». Однажды зимой 1942 года он слышал, как партизаны кричали на его отца, требуя, чтобы тот вынес им сала, иначе они его убьют. Для местных жителей этого района жизнь обернулась настоящим кошмаром, полным террора и насилия. Каждый день они боялись, что придут немцы, а каждую ночь боялись, что придут партизаны.
Хотя партизаны действительно подрывали немецкие линии коммуникации, но гораздо большее влияние они оказывали на жизнь местного населения на оккупированных территориях. Сам Сталин санкционировал партизан убивать всех, кто пособничал немцам. Михаил Тимошенко признает, что он и его партизаны действительно убивали всех, кого они подозревали в «пособничестве»20. Благодаря расстрелам «предателей» он стал известен настолько, что в немецких пропагандистских газетах появилась на него карикатура с надписью: «Это – командир партизан, который истребляет все, что попадает ему в руки: крадет коров и грабит колхозы». Тимошенко помнит, что на этом рисунке его руки изобразили «по локоть в крови». Он считал это обвинение «несправедливым»: «Они там написали, что я убивал предателей. Да, иногда нам действительно приходилось это делать. Мы расстреливали всех тех, кто сотрудничал с немцами. Но там ведь написали, что я убивал и тех, кто не хотел отдавать мне свой скот. А это уже, конечно, полная бессмыслица».
Такие партизанские отряды устанавливали повсюду свои собственные законы, но Тимошенко объясняет убийства тем, что сам Сталин хотел, чтобы так поступали с теми, «кто утратил веру в победу Советского Союза». Итак, если Тимошенко подозревал, что кто-то из крестьян «предатель», то ночью отправлял к нему в дом двоих людей. Они допрашивали несчастного, чаще всего убеждались в его виновности, а затем расстреливали. «Судов тогда не было, – рассказывает он. – Не было власти, выше моей… Это действительно был террор, но террор против негодяев».
Разумеется, возможности для злоупотреблений в такой системе были огромными. Иван Тресковский вспоминает, что находились даже такие крестьяне, которые по злобе называли партизанам имена тех, кто якобы был связан с немцами, решая тем самым их участь. По его словам, «в то время любой, у кого было оружие, мог творить, что ему заблагорассудится».
Восточная Белоруссия, изобилующая дремучими лесами, окружавшими обособленные населенные пункты, идеально подходила для ведения партизанской войны, и Надежда Нефедова (тогда подросток) вместе со своей семьей на своем опыте убедилась в том, как партизаны могли мстить тем, кого они избрали объектом мести. Однажды ночью, в ноябре 1942 года, местные партизаны ворвались в крошечную деревеньку Прилепы, неподалеку от Минска, и убили сестру Надежды и ее мужа. Никаких объяснений не было, ведь партизанам не было нужды оправдываться в своих убийствах. После убийства пошел слух, что будто бы кто-то видел, что кто-то из семьи разговаривал с немцами. Позже, поскольку партизаны убили той ночью еще нескольких человек, стали поговаривать, будто целое село чем-то не угодило командиру партизанского отряда. В цивилизованом обществе подозреваемых обычно обвиняют, затем доказывают их вину и лишь после наказывают. Но в этом мрачном мире подозрений и мести местных жителей вначале убивали, а после уже начинали задаваться вопросом: а не совершили ли несчастные какое-то преступление?
Семья Надежды Нефедовой приютила и укрыла двух маленьких детей, совсем еще малышей, которые во время расправы над их родителями прятались под кроватью. Но местные партизаны, судя по всему, хотели убить и детей, поскольку взялись за Нефедовых. Днем семья хоронилась в собственном доме, но ночью, когда на пороге в любую секунду могли объявиться партизаны, им приходилось проявлять изобретательность. Отец спал на сеновале, на другом конце деревни, а сама Надежда вместе с матерью и спасенными малышами шли к родственникам в соседние села, чтобы у них укрыться. Каждое утро они встречались дома и выходили на работу в огороде, пытаясь вырастить что-нибудь, чтобы выжить.
Местными партизанами командовал Петр Санкович, убежденный коммунист, который до войны был главным ветеринаром района. Его правой рукой был Ефим Гончаров, директор местной школы и член райкома партии. Беззаконие того времени передает в своем официальном донесении, датированном маем 1942 года, другой белорусский партизан, Владимир Лашук: «Я служил вместе с Гончаровым, и мы совершили ряд нападений на фашистских оккупантов, перебежчиков, предателей и прочих немецких пособников»21. И, разумеется, они сами решали, кто был «перебежчиком» и «предателем».
Но семья Нефедовых пострадала не только от рук советских партизан. В марте 1943 года пьяный партизан выстрелил по немецкому самолету, пролетавшему недалеко от Усяжей, родной деревни Надежды. И тот час же последовали карательные меры. На следующий день «юнкерсы» разбомбили с пикирования все село, после чего в деревню вошли полицаи под командой немцев. Большинство местных жителей сразу после того, как началась бомбежка, спрятались в лесу, но брат Надежды, Сийонас, остался в деревне. Он смело взобрался на деревянную крышу своего дома и попытался потушить огонь, который занялся от зажигательных боеприпасов. Дом он сумел спасти, но это стоило ему жизни, потому что он не успел покинуть деревню до прихода полиции. Полицаи подожгли амбар, в котором он спрятался, а когда он выскочил оттуда, застрелили его. Из двадцати восьми жилых домов в деревне во время карательной операции немцев были уничтожены двадцать семь. Погибло двадцать девять местных жителей.
«Вы представить себе не можете, как тяжело было выжить меж двух огней, – говорит Надежда. – Немцы днем, эти бандиты – ночью… Мы не могли не бояться ни тех ни других, ведь никто из них не приходил с добрыми намерениями. А если ты отказывал им в чем-то, то им ничего не стоило тебя застрелить. Прибить, как муху! Мы все время находились в огромном напряжении – с утра до ночи, от заката до рассвета… Никогда не знали, что принесет нам следующее утро, так что мы просто проживали каждый день, каждый час, как могли». Как бы ни воспринимали на западе захватнические действия Гитлера на Востоке, Надежда уверена: для нее советские партизаны были куда более страшным врагом, чем немцы: «Конечно, партизаны были более жестокие – приходили по ночам, чем-нибудь поживиться».
Петр Санкович, предводитель местных партизан, погиб в немецкой засаде в феврале 1944 года, но Ефим Гончаров в той страшной войне выжил, получил медаль и стал председателем райкома партии. В то время как уцелевших немецких военных преступников и сегодня находят и судят, не стоит забывать, что преступники с советской стороны после войны только преуспевали и никто из них не понес наказание. «Если бы сестра с мужем тогда не были убиты, – говорит Надежда, – наша жизнь могла бы сложиться совсем по-другому. В сердце моем все еще пылает ненависть».
Семья Нефедовых из Белоруссии пострадала как от рук немцев, так и от рук партизан. Однако в соседней Украине были те, кто оказался даже между трех огней, потому что на ее территориях возникла третья сила – партизанское движение украинских националистов, которые воевали и с немцами, и с советскими партизанами.
Мелетий Семенюк сражался в рядах Украинской повстанческой армии (УПА). Разочарование, вызванное жестокостью нового нацистского режима, предложило альтернативу – борьбу за независимость Украины. Для советских партизан и Сталина они были такими же врагами, как немцы. «Красные партизаны должны были уничтожить наше движение, чтобы они вернулись на чистую территорию, – рассказывает Семенюк. – Эти партизаны – это были звери. Иначе их не опишешь». Историями о зверствах советских партизан (совершаемых и после того, как война с Германией давно уже закончилась, поскольку Сталин приказал «очистить» Украину) в Украине не удивишь. В засекреченной докладной записке военного прокурора войск МВД Украинского округа первому секретарю Центрального Комитета КП(б) Украины признается, что МГБ допускает «произвол и насилие над местным населением». В качестве одного из примеров подобных действий в докладной записке приводится история о том, как спецгруппа МГБ, выдавая себя за УПА, «жестоко истязала шестидесятидвухлетнего старика и двух его дочерей»22.
Бежав из родного городка, Алексей Брысь присоединился к УПА. Он вспоминает, какой жестокой была тогда война с советскими партизанами: «Немцы просто убивали нас, но красные партизаны были настоящими чудовищами. Некоторые из них отрезали нашим уши. В отдельных случаях, они мучили наших, как дремучие азиаты, – отрезали языки и уши. Не знаю, делали ли они это над живыми, но обезображенные трупы мы находили довольно часто. Это садизм, но он существует в любой системе. Немцы вешали людей, но ничего подобного изувеченным трупам я не видел. Конечно, мы были достаточно жестокими… Мы тоже не брали пленных, как и они. Мы просто убивали друг друга. Это было обычно».
О произволе, который творили партизаны в ходе военных действий, и карательных мерах, применяемых к местному населению, потерпевшие никогда не сообщали, опасаясь дальнейших репрессий, а значит, точное количество совершенных партизанами преступлений установить невозможно. Не представляется возможным установить, и какой урон партизанское движение нанесло немецким оккупантам, так как он был не только физическим, но и психологическим. Одно только количество немцев, убитых партизанами в ходе войны (их число оценивается в пятьдесят тысяч), не отражает тот огромный урон, который был нанесен также немецкой инфраструктуре. Жалоба, поступившая от герра Шенка, который руководил угольно-сталелитейной компанией в Восточной Украине, дает некоторое представление о том, какой большой ущерб наносила немцам фактическая гражданская война, развязавшаяся во время их оккупации. В апреле 1943 года он пишет, что вокруг него: «1. партизаны, выступающие за большевиков» и «2. огромное количество партизан из числа украинских националистов, которые также скрываются в этих лесах…» Он приходит к заключению, что группы 1 и 2, помимо нападений на его предприятие, «также воюют между собой». Кроме того, «существуют еще и так называемые бандиты, которые перекрывают магистральное движение». В таких условиях «сегодня крайне опасно ездить на автомобиле». Один местный полицейский начальник, когда Шенк решил отправиться в путь, сказал ему на прощание: «Если сумеете доехать целым и невредимым, можете считать себя настоящим везунчиком». В конце письма Шенк подводит итог, что «экономическая ситуация в таких условиях заметно страдает от того, что во многих районах практически отсутствует немецкая власть»23.
Гитлеровское решение этих проблем было простым: больше насилия, больше убийств и больше гнета. Такого же мнения придерживался и главнокомандующий вермахта в Украине. В донесении, помеченным еще декабрем 1941 года, он писал, что «борьба с партизанами будет успешной лишь в том случае, если население поймет, что партизан и их пособников рано или поздно ожидает смерть… Особый страх вызывает смерть через повешение… Успехом увенчаются лишь те меры, которые напугают население больше, чем партизанский террор. Группа армий рекомендует принимать любые необходимые для этого меры»24.
Но, как это будет справедливым в случае с большинством нацистских линий поведения, связанных со свободой выбора, эту политику борьбы с партизанами едва ли можно назвать последовательной. У местных командиров в значительной степени были развязаны руки, и они сами решали, что им делать, – и некоторые из них действительно что-то решали с партизанами в своем регионе. В директиве фюрера № 46 от августа 1942 года предпринимается попытка разъяснить, как немецкие войска должны решать задачи борьбы с партизанами. Однако она внесла еще большую сумятицу. С одной стороны, нацистское руководство признавало в этой директиве, что сотрудничество с местным населением играет важную роль в борьбе с партизанами, но также предостерегало от излишнего доверия к местному населению. Эта директива также демонстрирует на конкретном примере, что Гитлер и другие сторонники жесткого курса были не способны признать, что их войскам приходится иметь дело с такими же человеческими существами, как и они сами. Они понимали, что им нужна помощь местных жителей в борьбе с партизанами, но также понимали и то, что для этого необходимо как минимум относиться к ним по-человечески, – но последнее полностью противоречило их идеологическим убеждениям.
Однако к концу лета 1942 года стало ясно, что такая политика жестоких репрессий не приносит желаемых результатов. В качестве альтернативы полковник Рейнхард Гелен, в ведении которого находилась оперативная разведка на советско-германском фронте, в своем донесении, датированном ноябрем 1942 года, предлагает следующее: «Если местное население отвернется от партизан и окажет полную поддержку в борьбе с ними, то проблемы партизан не будет»25. Возникшая дискуссия как в зеркале отразила спор между Кохом и Розенбергом по вопросу об отношении к Украине. На этот раз именно некоторые армейские командиры, такие как Гелен, выступили за идею сотрудничества с местными жителями в борьбе против партизан. Гелен призывал своих коллег относиться к советским партизанам, угодившим в плен к немцам, как к «обычным» военнопленным – и в ряде случаев в 1943 году такое имело место в группе армий «Центр» (сражавшейся с Красной Армией к востоку от Смоленска). Также полковник организовал массовое распространение листовок, направленных против некоторых партизанских отрядов, но с переменным результатом.
Неудивительно, что Гитлер точку зрения Гелена не разделял. Фюрер был убежден, что «успеха можно достигнуть лишь там, где борьба против действий партизан начата и ведется с особой жестокостью». Борьба с партизанами, точно так же как и вся кампания на Восточном фронте, рассматривалась Гитлером как борьба за «полное истребление той или иной стороны»26. Естественно, что из-за такой позиции фюрера и несмотря на усилия таких военных, как Гелен, жестокость только возрастала. А поскольку каждая из сторон верила, что побороть страх можно лишь другим страхом, как говорил участник обороны Москвы Владимир Огрызко, то человеческая жестокость не имела предела.
Наиболее жестокие операции против партизан начались в восточной части Белоруссии летом 1943 года. Это происходило через несколько месяцев после того, как «непобедимая» 6-я германская армия потерпела сокрушительное поражение под Сталинградом и когда Красная Армия отражала немецкое наступление в Курской битве. В ходе «зачистки» местности вокруг Минска 22 июля немецкие отряды вошли в крошечную деревеньку Максимки. Немцы ворвались в дом, где жил подросток Александр Михайловский, разбудили его и его глухонемого брата. Как только забрезжил рассвет, немцы построили на пыльной дороге за деревней восьмерых ее жителей, в том числе и братьев Михайловских. Им связали руки за спиной и приказали идти по дороге, в то время как сами немцы шли позади них в полусотне метров.
Александр знал, что это означало, ибо немцы уже не раз прибегали к подобному приему в соседних селах. В этом районе партизаны заминировали многие дороги, а немцы использовали местных жителей в качестве живых миноискателей. (Подобный садизм не был чем-то необычным. Так, например, Курт фон Готтберг, обергруппенфюрер СС, который в 1943 году руководил операцией «Котбус» на восточной границе Белоруссии, докладывал, что «в ходе зачистки минных полей на минах подорвались от двух до трех тысяч местных жителей»27.)
«У нас кровь стыла в жилах, мы превратились в жалкое подобие самих себя, – вспоминает Михайловский о своем опыте “общения” с немцами. – Мы брели вперед, как живые мертвецы, зная, что впереди ждут только безысходность и слезы». Перед ними возникла лишь одна серьезная дилемма: «Когда чутье подсказывало нам, что что-то не так, мы пытались как-то увильнуть от опасности. Но также мы знали, что если бы кто-то из нас пропустил мину и на ней подорвался кто-то из немцев, идущих позади, нас все равно бы ждала смерть – ведь они тут же пристрелили бы всех на месте».
Немцы гнали их по пыльной дороге восемь часов, они прошли почти тридцать километров до соседнего села. Ужасу не было конца: «У нас во рту все пересохло, а из-за слез мы почти не разбирали дороги». Но им повезло. На этом отрезке пути не оказалось ни одной мины. А когда это суровое испытание подошло к концу, им опять повезло. Немцы собирались их расстрелять, но местные горячо и клятвенно уверяли армейского командира, что эти люди – не «бандиты», и тем самым спасли их жизни.
Разобраться в ходе рассуждений немецких солдат, которым приходилось бороться с партизанами, помогает рассказ Петера фон дер Гребена, начальника оперативного отдела штаба группы армий «Центр». Он признает, что партизаны «вели весьма успешную войну против нашего подкрепления. На железных дорогах, шоссе – повсюду они устраивали взрывы и нападали на походные колонны». Кроме того, он допускает, что поскольку его солдаты были обозлены, видя нападения на немецкие походные колоны, то «когда они захватывали село, поддерживавшее партизан, ручаюсь, их ярости не было предела. Думаю, они попросту расстреливали всех, кто попадался им на глаза».
Подтверждением такого поведения служит рассказ Карлхайнца Бенке, солдата 4-й моторизированной дивизии СС. Его подразделение наткнулось на два десятка немецких солдат из их части, которые, будучи раньше ранены в бою, были оставлены позади; теперь же они были убиты и обезображены советскими солдатами «самым зверским образом. Им отрезали уши и гениталии и выкололи глаза». И тогда командир подразделения отдал приказ расстрелять всех гражданских в округе, «включая женщин и детей», в качестве карательной меры. Бенке этот приказ казался «логичным и правильным», он и сам участвовал в последующем убийстве мирных жителей. Так, однажды примерно в четырехстах метрах от него по льду ехали сани; и он вместе с другими солдатами тут же открыл огонь и увидел, как трое местных выпали из саней: «Не знаю, были ли среди них дети, женщины… Очевидно сегодня на такое смотришь иначе. Но думаю, это был момент, который описать невозможно, и никто, кто не был этому свидетелем, не сможет этого, по-моему, понять».
Бенке признает, что его часть пришла в ярость, утолять которую стала в беспорядочных убийствах. И только через сутки, насладившись кровопролитием, они смогли взять себя в руки. Их безумство, которое Бенке (как и Петер фон дер Гребен) видит как своего рода оправдание зверств, на самом деле свидетельствует о противоположном – служит примером того, что в немецких частях практически исчезла дисциплина и они стали вести себя как обезумевшие бандиты.
Мы разыскали одно обличительное донесение, прочитанное и завизированное рукой Петера фон дер Гребена в бытность его начальником оперативного отдела штаба группы армий «Центр», о проведении немцами операции «Отто», направленной против партизан. В нем сообщается об убийстве около двух тысяч «партизан» и их «пособников», однако, согласно этому же донесению, при убитых обнаружилось лишь тридцать винтовок и горсть другого оружия. Но такое ужасающее несоответствие не удивляет его даже сегодня. «Послушайте, у партизан должно было быть необходимое оружие, иначе они бы ничего не смогли нам сделать», – настаивает он. А когда мы в ответ говорим герру фон дер Гребену, что, быть может, это свидетельствует о том, что немцы расстреляли местных жителей огульно, без разбора, он отвечает: «Не помню. Как я уже говорил, наши солдаты были в ярости. Да, я могу допустить, что они также убили несколько невинных людей. Но кто мог сказать, кто виноват, а кто – нет?» Когда мы все же настаиваем на более прямом ответе, он признает: «Да, если контрмеры сами по себе оказались чересчур жесткими, то думаю, их вполне можно расценивать, как неприятные, но необходимые меры для устрашения местного населения»29.
Подобные несоответствия между количеством убитых «партизан» и оружия, обнаруженного при них, часто встречаются в статистике СС, которую вели немцы для оценки результатов собственных операций по борьбе с партизанами. Когда Гиммлера спросили, почему так получается, он ответил: «Вы, должно быть, не знаете, что эти бандиты специально избавляются от оружия, чтобы сойти за невинных мирных жителей и избежать смерти». Неудивительно, что подобные жесткие меры не привели к уничтожению партизанского движения, и в 1943 году Верховное командование вермахта признало, что не может очистить оккупированные территории от этих «бандитов». Будет упрощением утверждать, что расистские убеждения нацистов были единственной причиной непомерной жестокости партизанской войны. Ряд других факторов также, несомненно, способствовал эскалации жестокости. Так, немаловажную роль сыграли огромные территории, которыми немцы вынуждены были управлять; упадок духа, ощущаемый многими немецкими солдатами в связи с тем, что война идет не так, как изначально задумывалось; безжалостность, с которой сталинские партизаны терроризировали местное население, убивали и увечили немецких пленных. Но справедливым будет утверждать, что немцы могли получить неплохие шансы справиться с партизанской угрозой, для чего им было необходимо сотрудничать с местным населением, но это сотрудничество сделали невозможным именно их расистские взгляды.
Легко сказать, что неудача в борьбе с партизанами – просто еще одна тактическая ошибка Гитлера. Многие придерживаются такой мысли: «если бы он сумел проявить гибкость и по-человечески относился к населению на оккупированных территориях, то партизанская война не приобрела бы такой размах». Но сама мысль о такой возможности полностью противоречит природе войны нацистов на восточных землях. Гитлер никогда бы не изменил расистской политики на оккупированных территориях. Расизм слишком глубоко укоренился в нем, фактически стал его сутью. Ни при каких обстоятельствах Гитлер не отказался бы от своего видения новой Германской империи. Действительно, в ходе войны он не только не отказался от своих убеждений, но и укрепился в них. Если политика отношения к жителям восточных земель как к «недочеловекам» терпела неудачу, то вину за эти неудачи он перекладывал на плечи своих подчиненных – этих «бесполезных, жалких трусов», которые политику гонений и преследований проводили в жизнь без достаточного рвения.
На фоне растущей партизанской угрозы Гитлер снова попытался одержать победу в войне на поле боя. Теперь немцы собирались продвинуться на юго-восток, стремясь провести кампанию, целью которой было место, малоизвестное в то время за пределами Советского Союза, – город под названием Сталинград.
Глава 7
Переломный момент
Тысяча девятьсот сорок второй на восточном фронте сделался годом перемен. Поначалу Красная Армия едва выстояла в обороне Москвы. Но к концу года, в битве под Сталинградом, советские войска поставили на колени могущественную германскую 6-ю армию.
В течение одного лишь года Советский Союз заставил немцев расплачиваться за изначально самонадеянный план «Барбаросса». В эти двенадцать месяцев страна успела стянуть к линии фронта большие резервы, пополнив ряды Красной Армии. Страна получила военную помощь от Великобритании и США, а также новые танки и артиллерийские орудия с советских заводов, наспех демонтированных ввиду немецкого наступления и восстановленных в глубоком тылу. 1942 год определенно стал удачным для Сталина и СССР. Неминуемо грядущая победа Советского Союза день ото дня становилась очевидна для всего мира.
Однако называть 1942 год победоносным было бы преждевременно. Ход событий показал, что, несмотря на всю иностранную помощь, на колоссальные человеческие ресурсы и чудовищные объемы производства советских заводов, Советский Союз все еще мог проиграть войну с немцами. И Сталину, и Красной Армии следовало изменить стратегию и тактику, поучиться у собственного врага.
В первые месяцы 1942 года Красная Армия, после успешной обороны Москвы, потерпела ряд неудач, и ответственность за ее неудачи лежала главным образом на Сталине. 5 января он объявил Ставке о новом плане военных действий, не менее опрометчивом и высокомерном по отношению к неприятелю, чем «молниеносный» план «Барбаросса» Гитлера. Вместо того, чтобы сосредоточить главные силы Красной Армии в едином «точечном» ударе по врагу, Сталин предложил общее наступление на всех фронтах. На севере советским войскам надлежало прорвать Ленинградскую блокаду, ближе к Москве следовало теснить группу армий «Центр», а еще южнее – противостоять немцам на Украине и в Крыму. В 1941 году, когда требовалось обороняться, Сталин оказался невежественным военачальником. А в начале 1942 года он обнаружил свою слабость как полководец, на противника наступающий. Жуков нашел в сталинском плане целый ряд просчетов и объявил об этом открыто. Николай Вознесенский, экономист, также указал на серьезнейшие трудности со снабжением войск, неизбежные в ходе столь безоглядной кампании, – однако его подняли на смех, назвав «перестраховщиком». Вопреки разумным возражениям Советская армия начала наступать.
Неудивительно, что, пытаясь одновременно атаковать немцев по всем фронтам, она продвинулась недалеко – но хотя бы не потерпела сокрушительных поражений. Тем не менее ситуация существенно изменилась, когда в мае 1942 года Сталин приказал нанести удар по противнику в окрестностях Харькова. В Генеральном штабе полагали, что Красной Армии следовало умерить свой пыл и основательно укрепиться на позициях под Москвой. Но Сталин жаждал действия. «Мы не станем уходить в оборону», – заявил он, утверждая план обширных военных действий, предложенный маршалом Тимошенко. (Тимошенко – главный сторонник общего наступления, сталинский соратник со времен Гражданской войны – еще в 1941 году позволил немцам окружить его армию под Смоленском.)
Борис Витман, служивший офицером в советской 6-й армии, участвовал в злополучной попытке освободить Харьков, которая пришлась на май 1942 года. В штабе он видел, что «те, кто планировал операцию, были убеждены, что ее ждет успех, общее настроение было весьма приподнятым… Полагали, что война закончится уже к 1943 году». Витман вспоминает, как намеченное наступление гордо звали «кампанией полного и окончательного освобождения Украины от немецких захватчиков».
Сталин считал, что основная кампания вермахта начнется в 1942 году под Москвой, и план действий близ Харькова основывался на этом предположении. Атаковав немцев на юге, Красная Армия надеялась прервать подготовку германских войск к продвижению на север и ударить противника по самому слабому месту. К несчастью для СССР, истинных германских намерений угадать не сумели. Немцы действительно собирались наступать, но только не в сторону Москвы: они готовились, полностью захватив Украину, ударить в юго-восточном направлении. Таким образом, Красная Армия, сама того не подозревая, двинулась против немцев именно там, где они сосредоточивали собственную главную мощь. Но, как бы там ни было, советские войска сохраняли численный перевес, необходимый для грядущего наступления: наличествовало по меньшей мере трое советских бойцов против двоих немецких; а по направлениям главных ударов соотношение сил было для Красной Армии еще благоприятнее.
«12 мая 1942 года, рано утром, уже развернули артиллерию – рядам орудий не было ни конца, ни краю, – рассказывает Борис Витман, участвовавший в наступлении с самого начала. – Утро выдалось туманным, небо затянуло тучами, но это было нам даже на руку – мы надеялись, что из-за погодных условий немцы не сумеют вовремя заметить приближение наших дивизий. Внезапно раздался страшный гул. Земля затряслась – все пушки одновременно открыли огонь, и эта канонада продлилась больше часа. Затем, едва лишь наступила тишина, прозвучал приказ: “Вперед!” – и мы двинулись. Видя собственную мощь, свое численное превосходство, мы шли в атаку окрыленные, думая, что победа уже за нами».
Столь великое воодушевление было напрасным. Предвидя советский удар, немцы отступили загодя. Мощная артиллерийская подготовка советских войск не причинила врагу никакого ущерба. «Добравшись до немецкой линии обороны, мы увидали, что окопы и укрепления пустуют, – рассказывает Борис Витман. – Не обнаружили ни одного убитого – лишь разнесенные вдребезги макеты немецких пушек. Линия обороны оказалась ложной, давно покинутой. А мы все шли и шли, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Мы шли и шли. И даже не думали: отчего это не встретилось нам ни единого немца? Казалось, движемся прямиком на Берлин».
Но совсем скоро Витман и его люди узнали, что немцы попросту заманивали их в западню. «На окраине Харькова наша атака внезапно встретила ожесточенное сопротивление – ибо там немцы и устроили настоящую, мощную линию обороны. Наступление захлебнулось». Затем и это положение ухудшилось. «Прошел слух, будто по мере нашего продвижения к Харькову немцы подошли с флангов и сокрушили две армии, прикрывавшие наше наступление, так что теперь нас почти со всех сторон окружили фашисты».
На девятый день вынужденно прерванного наступления, когда немцы по-прежнему грозили окружить советские части полностью, Витману приказали отправиться с донесением в штаб 6-й армии, примерно за шесть километров от линии фронта: «Повсюду царила паника. В огромной спешке готовились вывозить штабные документы».
В штабе Витману сразу же велели возвращаться в свой полк. По пути он встретил колонну советских солдат, двигавшуюся навстречу. Командир сказал, что полк Витмана уже отрезан от остальной армии и что Витману следует присоединиться к этой колонне, пытающейся вырваться из окружения. Но, отступая, они оказались на открытой местности, и их тут же обстреляли и разбомбили немцы. «Нам оставалось только прятаться в старых снарядных воронках, – вспоминает Витман. – Я всегда предпочитал залегать не вниз, а вверх лицом, чтобы видеть, куда и как падают бомбы… Земля тряслась. К небу поднимался дым, взлетали ошметки тел и клочья мундиров, а в землю вонзались пули и осколки. Когда я увидел, что несколько бомб низвергаются прямо на нас, я крикнул солдату, укрывшемуся рядом: “Бежим!” Сумел подняться на ноги, бросился прочь, но меня ударила взрывная волна. Вернувшись позже, я обнаружил: от лежавшего рядом солдата остались только вещевой мешок и противогаз».
Немецкий фланговый охват замкнулся, и советские войска попали в полное окружение. Паника нарастала с каждым часом. На глазах Витмана один комиссар сорвал с рукава красную звезду – знак отличия «политрука», – но заметив пятно, оставшееся на месте звезды, принялся отчаянно замазывать его грязью. Поняв, что следа не стереть, он отдал свой китель проходившему мимо солдату и убежал. Другой боец на глазах у Витмана швырнул наземь винтовку и крикнул: «Я столько лет в колхозе мучился, точно в тюрьме, что мне теперь все нипочем, – а двум смертям не бывать!» И убежал: сдаваться в плен германским войскам.
Иоахим Штемпель воевал под Харьковом на немецкой стороне. Он поныне помнит «ошеломленных русских, которые глазам своим не верили, глядя на происходящее. Не верили, что мы зашли столь далеко в тыл их передовым частям». Он зовет тогдашние ночные бои «незабываемыми»: «Тысячи русских, пытающихся убежать и скрыться! Мятущиеся толпы русских, стремящихся вырваться на простор, стреляющих в нас – и обстреливаемых нами. С отчаянными воплями они искали, где бы проскользнуть сквозь наши боевые порядки – и откатывались под градом пуль и снарядов. Страшнейшие зрелища, ужаснейшие впечатления! Когда советские атаки захлебывались, я видел жуткие, невероятные раны, всюду валялись трупы, множество трупов… Я видел солдат с напрочь оторванными нижними челюстями, солдат, получивших ранения в голову, полуобморочных, но продолжающих идти на прорыв… Казалось, в те часы каждый рвался вон из “котла” по правилу “спасайся, кто может!”».
Повсюду Борис Витман слышал стоны раненых советских солдат, покинутых на произвол судьбы. «Неподалеку, в землянке, – рассказывает Витман, – была санчасть; но военные врачи и медицинские сестры перепились почти до невменяемости. Беру их на мушку, приказываю: “Выходите и делайте хоть что-нибудь!” Куда там… Они ведь и нализались в отчаянии – видя, что сразу стольким раненым все едино помочь нельзя».
Витман с ужасом смотрел на приближающихся немцев. «Я подумал: настоящие палачи! Повсюду и без того громоздятся трупы, а эти все продолжают палить по нас! И тут же понял: немцы просто не в состоянии взять столько пленных, потому и стремятся уничтожить всех, кого только могут… Приближались немецкие танки и бронемашины. Тут объявился наш капитан – голова в бинтах, бинты в крови… Крикнул: “В атаку!” Поднялось около двадцати человек – и я в том числе, хоть автоматный диск мой уже и опустел начисто. Бежим за капитаном, на верную смерть. Попадаем под обстрел. Товарищи падают наземь один за другим, а я все думаю: когда же мой черед? Тут раздается взрыв, земля становится дыбом. Я потерял сознание, быстро очнулся и понял, что ранило в ногу». Метрах в двадцати от себя Витман увидал немецкий бронеавтомобиль, откуда выпрыгнули двое автоматчиков и направились прямо к нему. «Русс, комм, комм!» – кричали они. «Рана мешала стоять на ногах, – рассказывает Витман. – Один из немцев кинулся ко мне, а другой взял на прицел. Когда увидели, что я и вправду не могу держаться на ногах, оттащили меня к грузовой машине и швырнули в кузов».
Витмана доставили в одно из мест, куда свозили советских раненых. Легко раненных содержали поблизости, за колючей проволокой, под охраной эсэсовцев. Однажды Борис услышал объявление по громкоговорителю: «Евреи и комиссары – шаг вперед!» Комиссаров увезли, а евреям, которых среди пленных нашлось около десятка, велели вырыть яму. «Им выдали лопаты и приказали копать. Начался дождь. Спустя некоторое время были видны только их макушки. Эсэсовец бил евреев, чтоб работали живее. Когда глубину сочли достаточной, немец взял русский пулемет и дал по яме несколько очередей. Раздались крики и стоны. Подошли еще несколько эсэсовцев и добили выживших. Перестреляли только за то, что пленные были евреями. Это меня потрясло – я увидел истинное лицо нацизма. Нам сказали, что теперь у евреев и комиссаров нет над нами никакой власти, что немцы пришли освободить нас, и скоро всех отправят по домам. А я понял, что уж теперь-то буду биться с немцами до самого конца».