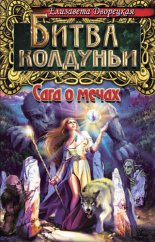Нацисты: Предостережение истории Рис Лоуренс

Хотя, не будучи ни комиссаром, ни евреем, Борис Витман избежал немедленной казни, жизнь его была по-прежнему в опасности. Приехал немецкий врач и устроил отбор среди советских раненых – тем, кто мог еще «послужить» немцам, оставляли жизнь, всех остальных надлежало расстрелять. Рядом с Витманом лежал советский солдат, раненный в живот. Он понимал, что выживет, лишь притворившись, будто ранен совсем незначительно, и пытался протолкнуть вываливающиеся внутренности обратно. «Он выглядел совсем плохо, – вспоминает Витман, – в его глазах стоял немой вопрос: как же мне быть?»
Витман спасло то, что он учил в школе немецкий язык и смог остаться переводчиком при враче. «Я заметил позднее: коль скоро гитлеровцы узнавали, что кто-то из пленных владеет немецким, к нему начинали относиться совсем иначе. Если человек не владеет никаким иностранным языком, то, по мнению фашистов, он заведомо относится к низшей расе. Но едва лишь услышали мою немецкую речь – нам тут же принесли воды и не стали убивать». Витман неплохо понимал беседы немцев между собой; особенно запомнился разговор двух старших офицеров СС, приехавших на штабном автомобиле и остановившихся у ограждения – поглядеть на пленников. «Я расслышал, как один из них сказал: “Жаль, маршал Тимошенко этого не видит. Ему фюрер и орден приберег – Железный Крест с дубовыми листьями. Надо же отблагодарить за столь великое содействие германской победе!”»
Этой победе Тимошенко помог и впрямь изрядно. Невзирая на численное превосходство советских войск, их наступление окончилось крахом. К 28 мая 1942 года Тимошенко потерял почти четверть миллиона бойцов. Едва ли не полностью погибли две советские армии, угодившие в западню – так называемый «Барвенковский котел». «Катастрофа, настоящая катастрофа, – с ужасом вспоминает Махмуд Гареев, служивший в Красной Армии офицером и дошедший после войны до самого верха военной карьерной лестницы. – Неудачи 1941 года еще можно было списать на неожиданность немецкого нападения и нашу к нему неподготовленность, но в 1942 году, после того, как мы провели несколько блестящих оборонительных операций и создали устойчивую линию фронта – сокрушительное поражение ни с того, ни с сего!». Солдатам, подобным Гарееву, было ясно, почему это случилось: «Все по той же причине, по которой мы терпели одно поражение за другим в 1941 году: из-за сталинского невежества. Сталин вообще не понимал стратегического положения, однако не желал никого слушать».
«Мы [немецкие солдаты] гордились столь быстрым успехом, – рассказывает Иоахим Штемпель. – Должен сказать, все мы единодушно верили в то, что сражаемся не впустую. Для нас не было ничего невозможного, несмотря на трудности и скверное вооружение. Мы не сомневались в том, что военачальники укажут верный путь, а уж мы-то довершим остальное. И опять же: взявши верх в «Харьковском котле», победоносно покинув поле битвы, мы воодушевились и уверенно глядели в будущее».
Немецкая победа, в которую искренне верили Штемпель и его сотоварищи, не представала невозможной в 1942 году. Немцы уже захватили сельскохозяйственное сердце СССР – Украину, а также Донбасс, главный советский угледобывающий и сталелитейный центр. После того как Сталин доказал под Харьковом, что ничему не научился на прошлогоднем горьком военном опыте, поражение Советского Союза казалось вполне вероятным.
А опыт побоища под Харьковом Гитлер использовал при разработке собственной дерзкой операции «Блау»: плана наступления на юге, в сторону Сталинграда, Кавказа и далее до Каспийского моря. Эта операция должна была лишить советскую военную машину доступа к нефти и, по мнению Гитлера, нанести экономике СССР сокрушительный удар, от которого она уже никогда не смогла бы оправиться. Фюрер объявил, что цель этой кампании – «окончательно подорвать остатки советской оборонной мощи, а также отнять у Советов как можно больше главнейших источников энергии, на которых держится военная экономика». И впрямь, достаточно взглянуть на карту, чтобы оценить непомерный размах операции «Блау», – но эта кампания вполне могла бы окончиться успехом, продолжай Сталин и далее командовать Красной Армией столь же нерасчетливо и упрямо.
Двадцать восьмого июня 1942 года немцы нанесли удар почти по всему Южному фронту. 4-я танковая армия наступала на Воронеж. Двинулась 1-я танковая армия, стоявшая южнее Харькова. Блицкриг был стремителен: как и прежде, немцы пытались окружить целые советские армии. Поначалу, когда Красная Армия подалась назад, не исключалось, что могут повториться события 1941 года. «Главной причиной [успеха немцев] было то, что мы проиграли битву под Харьковом, и образовался серьезный разрыв на линии фронта, – объясняет Махмуд Гареев. – Фронт утратил стойкость. У нас не осталось в наличии резервных войск: все они уже использовались при наступлении на иных направлениях. Пришлось перебрасывать резервы с московского и ленинградского направлений, но беда была в том, что все они сразу отправлялись на поле битвы. А бросать в бой новую дивизию за новой дивизией, не давая им надлежащей предварительной подготовки, значит лишь ухудшать и без того плохое положение».
В конце июля, после того как войска Гитлера вышли к Дону, фюрер решил разделить их на две части. В то время как группа армий «А» должна была направиться на юг, к нефтяным месторождениям Кавказа, группе армий «Б» – другому острию этого удара – надлежало продолжить продвижение к Сталинграду и Волге. Гитлеру не просто хотелось достичь нескольких военных целей одновременно – ему хотелось опять выказать свое презрение к Красной Армии.
Сталин следил за развертыванием операции «Блау» с яростью. Прежде он старался уверить себя в том, что нападение немцев на южные территории служило отвлекающим маневром перед решающим наступлением на Москву, – и теперь искал козла отпущения среди офицеров своей разведки. Когда советские войска отступили еще дальше, Сталин издал свой печально известный приказ № 227 «Ни шагу назад», который, помимо прочих жестких мер, наделял заградительные отряды правом открывать огонь по советским частям, отступающим без приказа. Учреждались штрафные батальоны, в которые отправляли «трусов». Снова настали трудные минуты, и Сталин снова посчитал, что Красная Армия всего лучше будет воевать не за совесть, а за страх перед наказанием.
Про свирепость советской военной дисциплины – в частности про горький опыт бойцов, уцелевших после пребывания в штрафных батальонах, – коммунистические историки предпочитают помалкивать. Только после падения режима такие люди, как Владимир Кантовский, угодивший в штрафбат в 1942 году, решились рассказать о горьких подробностях своей жизни.
Беды Кантовского начались весной 1941 года, когда, будучи восемнадцатилетним московским студентом, он узнал, что одного из его преподавателей арестовали. (Лишь недавно Кантовский получил доступ к соответствующему секретному делу из архивов НКВД. По иронии судьбы, преподавателя схватили за то, что перед самым гитлеровским нападением он сказал: «Пакт, заключенный Гитлером и Сталиным, угрожает безопасности Советского Союза».) Владимир вместе со своими однокурсниками были настолько возмущены арестом своего преподавателя, что напечатали на пишущей машинке гневную листовку и распространили ее по всему району. Все они были верны коммунистическим идеям и считали, что произвол и репрессии лишь марают их высокие идеалы. «Мы по-своему понимали коммунизм, – объясняет Кантовский, – и совесть не дозволяла нам промолчать… Мы не воспринимали Сталина и его последователей всерьез. В то же время мы оставались патриотами, коммунистами в душе. Правда, коммунистами отнюдь не на сталинский лад».
Сразу после начала войны в квартиру Кантовского явились сотрудники НКВД и арестовали его, а к июлю переправили в Омскую тюрьму, где он провел несколько следующих месяцев. «Об Омской тюрьме надо романы писать да поэмы слагать, – рассказывает он. – Представьте камеру на девять коек. Нас туда втискивали по пятьдесят-шестьдесят человек, мы спали на нарах, под нарами, между нарами и в главном проходе. Дважды в день нас выпускали из камеры в туалет, а каждые две недели водили в баню. А прогулок по тюремному двору не разрешали; вообще никогда не выводили на свежий воздух».
Листовка, отпечатанная на машинке после ареста преподавателя, стоила Кантовскому десяти лет заключения в исправительно-трудовом лагере. Но едва лишь его перевели туда из Омской тюрьмы, Кантовский сам попросился на фронт, ибо «если страна в опасности, постыдно отсиживаться за решеткой». Те на Западе, кто предпочитает думать, что несомненная жестокость советского режима была единственной причиной, по которой Красная Армия жертвовала столькими бойцами в каждой битве, поступок Владимира Кантовского кажется непостижимым. Ибо перед нами человек, добровольно вызвавшийся служить в одном из пресловутых сталинских штрафбатов. Эта история доказывает: террор, царивший в Советском государстве, был лишь одной из причин того, что Красная Армия билась не на жизнь, а на смерть. В 1942 году даже заключенные, ни за что ни про что оказавшиеся в ГУЛАГе, шли в бой с немцами по собственному желанию, движимые лишь патриотизмом и верой в коммунистические идеалы.
После того как летом 1942 года Сталин издал приказ № 227, Кантовский узнал, что его просьбу удовлетворили: отправляли на фронт, сократив срок заключения с десяти лет до пяти. Он стал одним из четырехсот сорока тысяч советских солдат, служивших в штрафбатах; сколько из них выжило в той войне – неизвестно; едва ли многие смогли уцелеть1.
На передовой Кантовский познакомился с другими бойцами своего батальона: «Из них я был единственным политзаключенным – обычно в штрафбаты отправляли тех, кого осудили за малозначительные преступления, например, опоздания на работу, что в то время каралось уголовной ответственностью. Если вы опаздывали более, чем на двадцать одну минуту, вас приговаривали к тюремному заключению сроком в один год, впрочем, вместо этого вы могли отправиться служить в штрафбат. Если вы что-нибудь украли или нагрубили кому-то на улице – вас также ждал тюремный срок или штрафбат».
Кантовский знал, что в штрафбате «старые грехи смываются только кровью» и что выжить, покинуть штрафной батальон возможно, лишь получив боевое ранение. И все же он ни на миг не пожалел о своем выборе: «Таким уж я уродился: не люблю сожалеть о содеянном – из принципа никогда не сожалею. И, несмотря ни на что, передо мной тогда открылись новые возможности. Шансов уцелеть было немного – но если хотя бы десять человек из двухсот пятидесяти оставались после боя в живых, это все равно значило, что какой-то шанс имелся».
Не получив никакой предварительной подготовки, отряд Кантовского попал на фронт, где им объявили, что представилась возможность послужить Родине – пойти в разведку боем. Их задачей было предельно приблизиться к расположению немцев и «заставить врага открыть огонь, чтобы наши разведчики могли определить местоположение огневых точек, а затем уничтожить их. Выступить приказали на рассвете, и двигаться к лесу, где стояли немцы, почти в четырехстах метрах от советских позиций. «Как только мы достаточно приблизились, противник открыл огонь. Однако наши офицеры кричали: “Вперед! Вперед!” Не думаю, что в таких обстоятельствах кто-то вспоминал о патриотизме. Знаешь: близится нечто неотвратимое, гибельное. Это вроде русской рулетки: уж как повезет…»
Штрафбат шел дальше, и огонь немецких пулеметчиков усиливался. Четыре или пять советских танков, двигавшихся вослед пехоте, были быстро подбиты. Вдруг Кантовский почувствовал, как пули прошили его руку и плечо: «Меня ранили, потекла кровь. Чтобы помиловали, надлежало получить тяжелое ранение – да как же понять, насколько серьезно ты пострадал? Покуда не убедился, что ранен тяжело, я не решался обратиться за первой помощью. Двигаться почти не мог – рукой нельзя было шевельнуть. Пополз на спине».
Из всего батальона, в котором служило двести сорок человек, уцелело девять, остальные были тяжко ранены или погибли. Кантовскому посчастливилось: его рану признали достаточно серьезной для того, чтобы лечить и освободить от службы в штрафбате. Он вернулся в Москву, где собирался продолжить учебу в университете. Однако на этом история Кантовского не заканчивается. В 1944 году его снова арестовали по тому же обвинению, что и в 1941-м. Следователь из НКВД объяснил это следующим образом: «В 1941 году вас приговорили к десяти годам заключения. Так что вы должны вернуться и отбыть положенный срок до конца, то есть на свободу мы выпустим вас в 1951 году». Кантовский так и не понял, за что его отправили снова в ГУЛАГ. «Мы жили при диктатуре Сталина, – рассказывает он. – Я не могу оценивать его поступки с точки зрения справедливости – он был настоящим тираном, чья власть основывалась на страхе, жестокости, работе доносчиков. Так сказать, политика кнута без пряника».
Создавая документальный телесериал, на котором основывается эта книга, мы познакомились с несколькими по-настоящему исключительными людьми. Но Владимир Кантовский впечатлил нас больше всех. Сидя в тесной московской квартире, он поведал нам историю своей жизни, в которой сталкивался с несправедливостью на каждом шагу. Все несчастья – даже раны, шрамы от которых остаются на его теле после той памятной «разведки боем» и по сей день, – обрушились на его голову после того, как в 1941 году Кантовский всего-навсего распространил листовки, заступаясь за своего арестованного преподавателя. Но листовки повлияли лишь на участь самого Кантовского. Мы спросили его: не раскаивался ли он в том, что сочинил листовку? «Нет, ни разу, – отвечает он. – У нас тогда не было другой возможности высказаться. Это только укрепило мой характер». Кантовский умолкает, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы выразить свои чувства. И заканчивает: «Не раскаивался, ибо иначе перестал бы себя уважать». Война богата историями страданий, которых ничем не оправдать, но в нашей памяти рассказ Владимира Кантовского, человека, который готов был умереть не столько за свою страну, сколько за свое достоинство, занял особое место.
Однако даже самопожертвование советских бойцов не предотвратило немецкого наступления летом 1942 года. 23 июля танковые дивизии вступили в Ростов, достигнув моста через реку Дон. «Немцы были так самоуверенны! – вспоминает Анатолий Мережко, советский офицер, который также участвовал в боях тем памятным летом. – Это вполне естественно: ведь прошли от Харькова до самого Дона… Тут любой уверует в свою непобедимость. Они шагали с песнями, засучив рукава, закатав штанины. А наши отступающие части были напрочь деморализованы. Люди не знали, куда идти, где искать своих однополчан. Например, точку сбора назначили в Малиновке, но где же эта Малиновка? Найдутся пять-шесть солдат, которые спросят: а как добраться до Малиновки? Так что, люди тащились вперед и вперед, сберегая оружие – ведь за потерю оружия по головке не гладили».
Тамара Калмыкова, которой было в те дни восемнадцать лет, стала свидетельницей отступления советских отрядов: «Все ударились в панику, опасаясь за собственную жизнь. Не скрою: будь у меня пулемет – расстреляла бы всех, кто посмел отступать. Каждый их шаг лишь удваивал количество крови, что пришлось пролить, отвоевывая свои земли назад».
Сталин, должно быть, мыслил точно так же – потому и приказал: «Ни шагу назад!» Но тем летом он вынужден был признать, что иногда без эшелонированного отвода боевых подразделений не обойтись, иначе не избежишь окружения. Это было заметной переменой к лучшему: Сталин ясно дал понять, что способен учиться на прежних ошибках и прислушиваться к своим генералам. Упорядоченное отступление с боем дозволило бы избежать весьма схожих меж собой весеннего разгрома под Харьковом и прошлогоднего под Киевом и Вязьмой.
Тем летом Анатолий Мережко был заместителем командира роты курсантов (его военно-пехотное училище было преобразовано в курсантский полк). Изо дня в день повторялось одно и то же: «Обычно немцы атаковали дважды, а затем выжидали, пока подтянутся основные силы, и наносили сокрушительный удар на следующее утро. Когда наступал вечер, боевые действия прекращались. Но к нашим флангам высылали мотоциклистов, которые пускали сигнальные ракеты – просто для того, чтобы мы решили, будто нас окружают. Немцы все делали по расписанию: на рассвете обычно появлялись разведывательные самолеты, за ними бомбардировщики. Бомбили передовую. Затем начинался обстрел, после шли в наступление пехота и танки. Если удавалось уцелеть при бомбежке и обстрелах – отлично: против танков и пехоты удержаться можно всегда и вполне. Если атака не имела успеха, немцы отступали». Ночью, пока противник вызывал подкрепления, бойцы Красной Армии рассредоточивались «У нас не оставалось сил удерживать оборону, – признает Мережко. – Если бы приказали остаться на месте, мы бы наверняка выполнили такое распоряжение, но командование предпочитало сберегать солдат». Занятно: эта новая, более разумная тактика не понравилась ни самому Мережко, ни его бойцам: «Мы отчаянно злились на собственную беспомощность, не понимали: почему нас не пускают в открытый бой? Почему мы постоянно отступаем? И продолжали отступать, до самого Дона».
«Сначала казалось, будто русские бегут с поля боя, – рассказывает Иоахим Штемпель, вместе с другими немецкими танкистами прошедший по русским степям в ходе операции “Блау”. – Как выяснилось, мы ошиблись». Красная Армия действительно осуществляла стратегическое отступление, хотя многим солдатам казалось, будто повторяется история 1941 года. Но на этот раз немцам ни разу не удалось окружить советские войска. А оборонительная тактика согласно правилу «бей и беги», обескровливала немецкое наступление. «Если нам удавалось догнать русских днем, – вспоминает Герхард Мюнх, служивший в группе армий “Б”, – то ночью они отступали дальше. Именно тогда я впервые услышал фразу “русские берут измором”, то есть заманивают нас вглубь своих территорий, чтобы усложнить наше тыловое обеспечение». Полковой командир Мюнха поделился с ним своими сомнениями касательно успеха мероприятия еще в ходе наступления на Сталинград. «После Харькова он был настроен весьма скептически, говорил: “Какие бескрайние просторы – и что нам делать с ними?” Мы никак не могли настичь противника, и тогда командир сказал: за русских воюет сама их земля».
Тем летом Красная Армия осмотрительно выбирала подходящее время, чтобы переходить к обороне и чтобы отступать. Предмостные укрепления и прочие стратегически важные позиции всячески удерживались, их яростно обороняли, покуда угроза окружения не делалась чересчур велика. Иоахим Штемпель «попробовали на вкус» новую хитроумную тактику Красной Армии, переправившись через Дон и повстречав дотоле невиданные оборонительные позиции. «Там мы понесли огромные потери, – вспоминает он. – За каждым холмом, за каждой возвышенностью, в глубоких окопах скрывались танки Т-34. На виду оставались только орудийные стволы, а когда они открыли огонь, мы даже не поняли, откуда стреляют и как. Но самым страшным были русские дивизии огнеметчиков: при сорокаградусной температуре воздуха они поджигали все, что вообще способно гореть. Мы получали наистрашнейшие ранения и ожоги… Чем ближе подходили к Сталинграду, тем ожесточеннее становилось сопротивление советских войск».
Гитлер собирался взять Сталинград любой ценой. Этот город был важным промышленным и стратегическим центром на Волге, реке, по которой Советы получали жизненно важные поставки с Кавказа. Если бы Москву и другие северные города лишили южной нефти, экономика Советского Союза получила бы смертельный удар. (Возможно, Гитлер соблазнялся также мыслью захватить город из-за его названия: прежний Царицын переименовали в Сталинград, чтобы увековечить подвиги, якобы совершенные там Сталиным в ходе Гражданской войны.)
4-я и 6-я танковые армии постепенно стягивались к городу, протянувшемуся вдоль волжского берега на пятьдесят километров. Трудно вообразить себе город, более неудобный для обороны, чем Сталинград: когда немцы окружили его с трех сторон, подкрепления могли прийти к защитникам только вплавь, через огромную водную преграду.
В воскресенье, 23 августа, на Сталинград налетели шестьсот немецких бомбардировщиков. Это была самая мощная бомбежка, виданная до той поры на Восточном фронте. В то утро Валентина Крутова, одиннадцатилетняя школьница, вместе со своим четырнадцатилетним братом Юрием собирала ягоды на окраине города. Вдруг дети услышали рокот целой армады самолетов и, подняв глаза, увидели, как с неба падают бомбы. «Все было в огне, – с ужасом вспоминает она, – повсюду слышались крики… И если взрослые понимали, что война дошла и до нас, то что было думать нам, совсем еще детям? Мы просто испугались, что нас убьют».
«Бомбардировка была чудовищной, – рассказывает Альберт Бурковский, которому в 1942 году исполнилось четырнадцать. – Я поныне помню самолеты, этот страшный рев, этот ад. До сих пор не понимаю, как люди смогли такое пережить. Город превратился в одно огромное пожарище. Мы забрались на крышу и слышали оттуда, как кричат и стонут те, кто остался внизу». Как только бомбежка прекратилась, Альберт побежал домой, к бабушке. Добравшись до родной улицы, увидел, что его дом превратился в груду обломков. «Из-под руин доносились непрерывные стоны – моя бабушка спряталась в подвале, осталась под развалинами, ее нельзя было вытащить наружу. Все, кто скрывался там, оказались раздавлены обломками. Какое-то время я думал: уж лучше бы и меня убило вместе с остальными! Горе, тоска, полное одиночество…»
Сталин приказал отстоять город. Красная Армия отступила на сотни километров от Харькова, чтобы укрепиться близ Волги. Поначалу Сталин запрещал даже гражданскому населению переправляться на противоположный берег. Бежать отныне возбранялось. Здесь Красная Армия должна была стоять, будто врытая, и сражаться.
В новой ставке, обустроенной в Виннице, на Украине, Гитлер изнывал от нестерпимой летней жары. Несмотря на успехи, коих добились обе армейские группы, им по-прежнему не удавалось окружить советские войска. Генерал Гальдер, начальник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта, лишь подлил масла в огонь, сообщив, что ресурсов может не хватить на обе группы, что армиям не выполнить поставленных перед ними задач одновременно. Гитлер пришел в ярость. 30 августа Гальдер записал в своем дневнике следующее: «На сегодняшней встрече фюрер опять безосновательно упрекал все высшее командование в полнейшей неспособности управлять армией. Он обвинял своих генералов в тщеславии, зазнайстве, полном отсутствии гибкости, в неумении постичь истинную суть происходящего»2.
В начале сентября приключился новый взрыв ярости, поскольку группа армий «А», возглавляемая фельдмаршалом Листом, якобы замедлила наступление на Кавказе. Йодль, начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, взял сторону фельдмаршала Листа, ссылаясь на то, что Лист всего лишь выполнял предыдущие распоряжения фюрера. Гитлер взбесился от злости. Листа сняли с должности, а 9 сентября Гитлер взял на себя командование группой армий «А», которая находилась тогда в тысяче шестистах километрах от Генштаба. Возникло неслыханное организационное строение: командующий армейской группой Гитлер подчинялся Гитлеру как командующему армией, который в свой черед подчинялся Гитлеру как Верховному главнокомандующему вооруженными силами Германии и вождю государства… Однако, этого показалось недостаточно. 22 сентября Гитлер заменил Гальдера на посту начальника штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта Куртом Цейтцлером, который славился особо льстивой преданностью фюреру. В то время как Сталин учился прислушиваться к суждению своих генералов, Гитлер создавал никчемную военную структуру, которая делала невозможной любую личную инициативу, в которой все военачальники отчетливо представляли себе судьбу каждого, кто осмелится критиковать всезнающего фюрера.
В последнюю неделю августа, после бомбардировки Сталинграда, немцы наконец добрались до Волги. К 3 сентября город окружили со всех сторон. «Мы остановились на возвышенности, откуда прекрасно был виден весь Сталинград, – рассказывает Иоахим Штемпель. – Город пылал, а за ним серебряной лентой тянулась Волга. Она сделалась неожиданно близка. Мы все знали, что должны добраться до нее – Волга была нашей целью, возможно, целью всей этой войны… Нас охватило невероятное чувство: мы стояли на самой границе с Азией – и готовы были закричать на весь мир: “Дошли до Волги!” До нее рукой подать! Сияющая в лучах осеннего солнца, Волга являла захватывающее зрелище. В Германии не встретишь столь величественных рек. А этот вид на азиатские земли, открывающийся с Волги! Леса и вновь леса, равнины, бесконечный окоем… Картина воодушевила всех, кто прорывался через русские укрепления, кто захватывал эти земли, кто терял боевых товарищей, которым так и не удалось разделить с нами радость победы. И вот она, Волга, так близко – рукой подать! Казалось, война близится к завершению – мы пришли сюда!»
Когда немцы подступили к городу, тысячи мирных жителей оказались в окружении вражеских войск. Валентина Крутова, ее брат Юрий и пятилетняя сестра были среди тех, кого отрезали от сужавшейся советской части города. Они жили с бабушкой, тяжело раненной разрывом бомбы. «Немцы пришли к нам домой, – рассказывает Валентина. – Открыли двери, вошли в комнату, начали осматриваться. Но бабушка буквально сгнивала заживо, а немцы страшно боялись подхватить от местных какую-нибудь болезнь, потому близко подходить не стали. Немцы увидели, что ее кожа вздулась волдырями, а в ранах копошатся крошечные черви. Запах стоял ужасный».
За медицинской помощью обратиться было некуда, и вскоре после прихода в город немцев бабушка скончалась. «Когда она умерла, мы вынесли ее и просто положили в покинутый окоп, завернув тело в рогожу. Так и похоронили. А потом не смогли отыскать могилу. Нам пришлось нелегко, ведь когда она была еще жива, мы чувствовали хоть какую-то поддержку. Хоть она и была прикована к постели, но все же оставалась с нами, родной и близкий человек. С нею можно было посоветоваться. Бабушка обнимала нас, жалела – это согревало наши сердца. Мы не так сильно боялись, хоть и жили на территории, оккупированной немцами. Но когда мы потеряли ее, стало совсем тяжело. Никакой иной опоры у нас не было».
Троим детям, осиротевшим в оккупированном Сталинграде, почти невозможно было выжить. Но четырнадцатилетний Юрий умудрялся отыскивать среди развалин какую-то еду: «Брат ходил к элеватору, где оставалось немного зерна, так мы и держались. Мешочек с зерном он прятал между оконными стеклами. Однажды пришел немецкий офицер вместе с двумя солдатами – не то немцами, не то румынами. Они хотели, чтобы мы накормили их. Потребовали яиц, курятины, хлеба. А у нас ничего не было. Они стали сами искать еду и догадались глянуть между стекол – там и нашли мешочек пшеницы. Солдаты хотели нас застрелить, но мы с братом упали им в ноги, стали просить пощады. Немецкий офицер был совсем еще молодым. Он сказал что-то своим подчиненным, те забрали зерно и ушли».
Альберт Бурковский тоже остался совсем один в то страшное время, но ему повезло больше – он очутился на советской стороне. В первые дни бомбардировки он вместе со своим одноклассником перевозил на ручной тележке раненых советских солдат к переправе. «Мы доставляли раненых к пристани и видели, как к берегу подплывают катера, лодки, плоты… Немцы не прекращали огонь, без конца обстреливали город. Многие советские суда тонули, не успевая добраться до берега. Переправа была не менее опасна, чем открытый бой. Нас обстреливали и бомбили, так что даже если ты умел плавать, тебя все равно могли убить».
Гитлер приказал взять Сталинград, но Сталин приказал отстоять его – и город, который в начале операции «Блау» был лишь одной из многих целей, нежданно превратился в основную цель. А Сталин потребовал удержать сталинградский берег Волги любой ценой.
В таких лютых обстоятельствах верх должен был взять полководец, обладающий более твердой натурой. 6-й немецкой армией руководил опытный военачальник Фридрих Паулюс, штабной офицер, прежний заместитель начальника Штаба Верховного командования генерала Гальдера. «Паулюс был высоким, очень спокойным человеком аристократического склада, – вспоминает Гюнтер фон Белов, служивший под его началом в 6-й армии. – Разумнейший, очень человечный руководитель. Он всегда колебался, принимая важные решения, его следовало подталкивать… Я как-то сказал ему: “Генерал, если вы не подпишете этот документ здесь и сейчас, я сделаю это от вашего имени”. Он подписал, рассмеялся, произнес: “Ну и ладно!”»
Советской 62-й армией в Сталинграде с сентября 1942 командовал человек совершенно иного склада – Василий Чуйков. Если Паулюс был воспитанным, изысканно вежливым человеком, то Чуйков был грубияном и хамом, чья беспощадная свирепость по отношению к тем, кто, как ему казалось, оплошал, стала притчей во языцех.
«Чуйков чувствовал суть каждой битвы, – рассказывает Анатолий Мережко, служивший под его началом в Сталинграде. – Умел принимать своевременные решения и добиваться своей цели вопреки любым препятствиям. Он был настойчив и упорен… Чуйков воплотил в себе все черты, которые традиционно приписывают русским – как в песне поется: “гулять так гулять, стрелять так стрелять”. Для него война была делом всей жизни. Он обладал неуемной энергией, заражавшей всех вокруг: от командиров до солдат. Будь характер Чуйкова иным, мы бы не сумели удержать Сталинград».
Главной чертой характера Чуйкова была жестокость. Если какой-нибудь командир действовал вразрез генеральским вкусам, Чуйков мог избить его. «Случалось, он колотил подчиненных кулаками, а иногда и палкой, – рассказывает Мережко, – за что Сталин однажды объявил ему выговор. Часто ходил, опираясь на палку, и если ему не нравилось чье-то поведение, вполне мог треснуть ею по спине провинившегося». В ходе войны Мережко довелось лично столкнуться с разнузданностью Чуйкова: «Я вошел в здание, где располагался оперативный отдел, и увидел, что мой непосредственный начальник лежит у стены, а стол посреди комнаты перевернут. Мой командир прижимал к носу платок, измазанный кровью, а позднее объяснил, что это Чуйков его ударил». И рассказал, как все приключилось: «Видите ли, генерал-полковник стукнул подполковника, поскольку ему не понравился отчет, подполковником представленный». И добавил: «Вам повезло: зайдите вы минутой раньше, он бы и вас ударил».
Чуйков был представителем нового поколения советских командиров: не сталинский «выдвиженец», получивший звание за холопские повадки, а беспощадный и опытный военачальник. Он знал, что должен удержать Сталинград или умереть. Также он понимал: для достижения этой цели нужно ввести строжайшую дисциплину – во время битвы за Сталинград более тринадцати тысяч бойцов подверглись аресту, а многих расстреляли. Советская система опять-таки «страх вышибала страхом» – Красной Армии объявили: отступать запрещено, «за Волгой для нас земли нет».
Как прозорливый тактик, Чуйков также понимал, что в разрушенном городе Красная Армия впервые за всю войну могла сражаться на новый лад: личная храбрость и стойкость каждого бойца приобретали не меньшее значение, чем изощренная стратегия. Солдатам надлежало стоять насмерть по всему городу и драться с немцами врукопашную. Чуйков распорядился, чтобы советские бойцы подбирались как можно ближе к позициям противника: германские бомбардировщики и артиллерия не стали бы устраивать обстрелы советских войск, боясь навредить своим. Правилом советских солдат было «приближаться вплотную». «Мы должны были вцепиться врагу в горло и не отпускать, – рассказывает Анатолий Мережко. – Только так мы могли выжить. К этому сводилась тактика Чуйкова. Расстояние от нас до врага не должно было превышать пятидесяти метров, или ста метров – или даже дистанции гранатного броска. Когда мы бросали гранату, до взрыва имелось всего четыре секунды. А у немецких гранат запалы срабатывали через девять-десять секунд, поэтому наши солдаты успевали поймать вражескую гранату и метнуть ее обратно. Так мы пользовались недостатком немецких гранат – тоже благодаря Чуйкову».
Чуйков также усовершенствовал тактику штурмовых отрядов, очищавших здания, захваченные немцами. «В отряде бывало от пяти до пятидесяти человек, без вещевых мешков, налегке, вооруженных гранатами. Их задачей было врываться в дома, – вспоминает Мережко. – За штурмовым отрядом следовал отряд усиления. Штурмующие сминали немцев, а отряд усиления отражал контратаку».
Эти рукопашные схватки внутри зданий были ужасающи. Сурен Мирзоян – один из немногих выживших в ходе штурмовых операций; он в подробностях описывает обычное столкновение с немцами: «Внешние стены дома уцелели; внутри все было разрушено, за обломками прятались немцы. Один из них прыгнул на моего друга, тот ударил нападавшего коленом. Подоспел другой немец, и я полоснул кинжалом – нас вооружали кинжалами. Видели когда-нибудь, как брызжет сок, если сжать в кулаке спелый помидор? Я колол немца, кровь лилась ручьями. Я ощущал только желание убивать и убивать. Как дикий зверь. На меня с криком напал еще один немец, орал во всю глотку, потом упал. Слабых немцы съели бы живьем, на каждом шагу в Сталинграде нас поджидала смерть. Смерть дышала нам в затылок, ходила по нашим пятам».
В подобных первобытных стычках Мирзоян предпочитал не пользоваться новейшим оружием: «Избегал стрельбы, пользовался кинжалом либо отточенной саперной лопаткой. Иногда она бывала получше любого пулемета. Этой лопаткой копали траншею, этой же лопаткой убивали. Пулемет еще нужно перезаряжать, а лопаткой достаточно взмахнуть. Очень просто и удобно. Эти лопатки оказались незаменимы в бою».
В середине сентября немцы начали решительное наступление и сумели прорваться к узловой железнодорожной станции – Сталинградскому вокзалу. При поддержке 13-й гвардейской дивизии под командованием Чуйкова советские бойцы сумели сдержать натиск немецких войск. Решимость Чуйкова удержать берег или погибнуть заразила всех солдат. Каждый завод, каждая улица, каждый дом – все вокруг превратилось в поле боя.
Жесточайшие столкновения в развалинах Сталинграда были прямо противоположны тактике «блицкрига»: примитивные драки вместо изощренности стратегии. Гельмут Вальц, рядовой немецкой 305-й пехотной дивизии, лично столкнулся с советскими отрядами в фабричных руинах утром 17 октября: «Нам дали приказ идти в атаку, для чего нужно было подобраться по открытой местности к фабричным постройкам. Мы очутились в пустыне щебня. Все вокруг превратилось в развалины». Впереди, метрах в пятнадцати от того места, где они остановились, Вальц увидел советских солдат, укрывшихся в окопе: «Я прошел еще метров десять, так что нас разделяло всего пять-шесть метров, и спрятался за кучей обломков асфальта. Я крикнул им по-русски: “Сдавайтесь!” Те и не подумали сдаваться. Все вокруг пылало, пули свистели в воздухе; я метнул ручную гранату и увидел, как один из советских бойцов выбирается из окопа, весь в крови. Кровь лилась у него из носа, из ушей, изо рта… Я мало смыслю в медицине, но, увидев его, сразу понял, что этому человеку не выжить: что-то лопнуло внутри. И тут он нацелил на меня автомат – русский автомат с диском вместо рожка. Я сказал себе: “Нет, парень, тебе не взять меня!” И сам прицелился в него. Вдруг у меня искры из глаз посыпались. Цепенею: что это? Провожу рукой по лицу – хлещет кровь и сыплются мои зубы».
Один из товарищей Вальца, увидев, что происходит, перескочил через груду обломков. «Он прыгнул, ударил этого солдата каблуками в лицо, – рассказывает Вальц. – Никогда не забуду, как лицо хрустнуло – должно быть, солдат погиб на месте». Лейтенант жестом приказал Вальцу спрятаться в снарядной воронке и попытался перевязать его раны. Тут перед ними возник еще один советский солдат. «Направил на лейтенанта пулемет – и стальная каска слетела наземь: русский выстрелил точно в голову, – вспоминает Вальц. – Голова разлетелась вдребезги, я видел, как мозги вытекают вон самым настоящим потоком. Крови не было. Лейтенант поглядел на меня и опрокинулся». Русского, который убил лейтенанта, сразу же застрелил какой-то немец, а Вальц уполз искать медицинской помощи.
Под конец того октябрьского дня из семидесяти семи солдат немецкой роты «не осталось ни единого дееспособного бойца: одни были ранены, другие мертвы. Целая рота исчезла».
Столь близкое расположение враждующих войск приводило временами к странным, почти приятельским встречам противников. «Часто случались стычки прямо в домах, – рассказывает Анатолий Мережко. – Мы, скажем, укреплялись на третьем этаже, а немцы занимали первый и второй. К полудню все уже с ног валились, и они, бывало, кричали нам: “Эй, русские!” А мы им в ответ: “Чего вам, немцы?” “Водички не дадите?” – просили они. “Меняем воду на сигареты!” – соглашались мы. А через час мы вновь открывали огонь, опять воевали друг с другом. Или, к примеру, немцы отзывались так: “Сигареты кончились. Хотите хорошие часы?” Тогда воду меняли на сигареты, водку или шнапс – и честно прекращали огонь, покуда шла меновая торговля. Но потом или они выкидывали нас вон из здания, либо мы выкидывали их. Настоящий честный бой: побеждает сильнейший».
К такой войне немцы не были готовы. «Рукопашный бой, позиционная война, – говорит Иоахим Штемпель, – не хочу сказать, что нас этому вовсе не учили, – но учили как побочным навыкам. Мы были армией наступления, учились атаковать, не имели опыта русских солдат, которые были лучше подготовлены к таким боям благодаря своей привязанности к родной земле и душевному складу. У нас ничего этого не было, да и к матери-природе русские стояли поближе нашего – оттого и потери у них были меньшими. Перевес в рукопашных боях и окопной войне определенно был на стороне русских… Мы ведь служили танкистами, учились водить танки, воевать на танках, сокрушать врага танками, – а потом покидать поле боя и двигаться дальше. Но теперь это сделалось позабытым прошлым, далеким прошлым…”
Немцы просто скрипели зубами: ведь Волга виднелась так близко! “Еще! Еще! – повторяли нам. – Еще сто метров, и мы у цели!” Но как дойти до нее, если сил совсем не осталось? Атаки проходили совсем не так, как нас учили. Мы оставались на тех же позициях уже не первую неделю, бились за каждый клочок земли, пытаясь забрать у русских хоть десять-пятнадцать метров, – даже такая мелочь считалась большим успехом. Но самое главное, русские обороняли узкую прибрежную полосу, метров триста глубиной, спускавшуюся крутыми склонами к Волге, где и располагались командные пункты русских армий и дивизий. Их защитники фанатично относились к своей боевой задаче, неуклонно следуя распоряжениям свыше: “Удержать позиции любой ценой, ведь за вами – наши генералы!” Мы никак не могли пройти последние сто метров, которые и были, по сути, нашей главной целью».
Герхард Мюнх, служивший в то время командиром батальона, быстро понял, что с наличными воинскими силами и вооружением ни одна сторона не сумеет одержать верх в боях от дома к дому: «Если враг уже удерживает лестницу или первый этаж, не стоит даже пытаться захватывать [этот дом], ибо ничего не выйдет. Если ни одна попытка так и не увенчалась успехом, но если вам повезло и удалось вытащить своих раненых – остановитесь. Действия в этом районе так и не сдвинутся с мертвой точки… Изменить ничего нельзя, если, конечно, полдесятка новых дивизий не придут на выручку… Впрочем, боюсь, и тогда не поделаешь ничего».
Германское наступление захлебнулось по всему городу: советские снайперы, скрывавшиеся в руинах, делали всякое открытое передвижение в дневное время смертельно опасным. Снайперов боялись и ненавидели. С точки зрения многих немцев, они олицетворяли собой всю гнусность, подлость и бесчестность битвы за Сталинград. «Русского снайпера, орудовавшего в нашем секторе, снова и снова прославляли как великого героя, – рассказывает Герхард Мюнх. – Однако мне он представляется отвратительнейшим созданием. Думаю, их работа сопоставима с охотой на дичь из засады, но это уж не по-солдатски. Так я думаю».
«Нам приходилось все труднее, – вспоминает Иоахим Штемпель, – каждая атака стоила таких потерь! Нетрудно было понять: скоро в живых не останется вообще никого. И мы прекрасно знали, что каждую ночь русские переправляют через Волгу свежие войска. А у нас резервов не было, вот и приходилось держаться до последнего, точно прикованным к месту». Впрочем, немецкая сторона также получала подкрепления – однако неопытные солдаты быстро гибли в разрушенном Сталинграде: «Один эпизод навсегда останется в моей памяти: крики радости, которыми разразились бойцы нашего батальона, услышав о том, что вот-вот прибудет шестьдесят-семьдесят человек из резерва. Разумеется, эта новость вселила во всех такую надежду, что ни о чем другом и думать не могли. А потом они прибыли – совсем юнцы, лет восемнадцати-девятнадцати, прошедшие примерно четырехнедельную подготовку. Той ночью мы угодили в настоящий ад. Вначале ударила вражеская артиллерия, затем русские ворвались в наши окопы. Нечеловеческими усилиями – сам командир батальона пришел мне на помощь в бою – мы вытеснили русских вон из траншей. И в первом же бою выбыло из строя больше половины желторотых резервистов: кого-то ранили, кого-то убили. А все потому, что им не хватало интуиции, чувства опасности, которые необходимы в подобных схватках. Они просто не умели драться, как дрались мы, уже закаленные бойцы».
Ожесточенные бои велись и за Мамаев курган, древний могильный холм на окраине города. Кто занимал курган, получал полный обзор всего Сталинграда и Волги. В ходе Сталинградской битвы эта стратегически важнейшая возвышенность неоднократно переходила из рук в руки. Альберт Бурковский также участвовал в боях за курган. Его «усыновила» советская 13-я гвардейская стрелковая дивизия, в четырнадцать лет он стал одним из самых молодых защитников Сталинграда. «Помню, как ступал на Мамаевом кургане по разлагающимся телам, – рассказывает он. – Представьте только: ставлю ногу на землю, а когда поднимаю, вижу: к сапогу прилипли человеческие внутренности. Такое забыть невозможно… А самое страшное воспоминание связано с тем днем, когда я впервые убил немца. [На Мамаевом кургане] ежедневно бывало атак пятнадцать, а то и двадцать. Сначала бомбежка, потом артиллерийский обстрел, потом шли танки, а за ними – пехота. И вдруг вижу перед собой огромного немца: стоит и глядит куда-то в сторону. Не заметил меня, потому что я лежал, весь в грязи и земле. Я выстрелил, не поднимаясь. Когда стреляешь в упор, из человека просто вырывает клочья мяса и слышен запах опаленной одежды. Меня вырвало. Товарищи стали утешать: ничего страшного, это всего лишь немец… А меня трясло с головы до ног. Век не забуду».
Чтобы уцелеть в немецких бомбардировках, советские бойцы рыли подземные укрытия на берегу Волги. Штаб Чуйкова располагался глубоко под землей, всего в нескольких метрах от реки. «Без траншей и убежищ нам было не выжить, – рассказывает Бурковский. – Всюду кишели вши, помыться было нельзя. Но никто не болел – нервное напряжение было столь велико, что попросту защищало от недугов». В непосредственной близости от реки, в сточной трубе, жил некий советский командир, проводивший собрания на досках, выложенных прямо поверх проточной воды. Немцы никогда прежде не видели у бойцов Красной Армии подобной самоотверженности. «Думаю, только русские могут привыкнуть к таким лишениям и невзгодам», – говорит Анатолий Мережко.
Но Сталинград обороняли не только мужчины. На Западе сравнительно мало внимания уделяют огромному вкладу, внесенному в боеспособность Красной Армии солдатами-женщинами, хотя в ходе Второй мировой войны по меньшей мере восемьсот тысяч женщин служили в советских войсках. Тамара Калмыкова стала тем летом связисткой в 64-й армии. «Когда мы прибыли на фронт, – вспоминает она, – то узнали, что полагаться следует лишь на себя, что именно мы должны исправлять ошибки, допущенные в первые годы войны… Женщины оказались более выносливыми, хоть нас и называют слабым полом. Как сказал Чуйков, «на женщин можно положиться, можно быть уверенным, что приказ будет выполнен в точности, любой ценой». Ведь каждая женщина – это мать, дающая жизнь, она ничего не пожалеет, чтобы ребенка своего защитить, как животные защищают детенышей. А еще женщины не знают пощады. Они мстят за своих мужей или братьев, ведь почти в каждой семье кто-то погиб на войне. От их домов остался лишь пепел. Кто угодно, в какой угодно стране желал бы отомстить за такое. Именно это звало нас на фронт, именно это давало нам силу, терпение и смелость, чтобы взяться за столь тяжкое дело».
Хотя Калмыкова официально числилась связисткой, ей довелось участвовать в жестоких боях у окраины города: «В ходе битвы мы проверяли линию связи, как вдруг кто-то крикнул: пулеметчика убили. Мы с подругой, которая служила санитаркой, бросились к нему, она начала перевязывать его раны, но он был уже мертв. И тогда подруга моя залегла за пулеметом сама и стала стрелять, а я помогала, подавала ей ленту. Мы сумели отбить немецкую атаку. Подруга погибла. Я всем сердцем возненавидела немцев, убивших ее… Сердце кровью обливалось: ей было всего восемнадцать – девочка еще ничего не видала в своей жизни».
Очень скоро Тамаре Калмыковой представилась возможность отомстить врагу, но при этом она чуть не погибла сама. Линию связи с расположившимся неподалеку батальоном, повредили, поэтому командир направил двух солдат – мужчину и женщину – осмотреть кабель и устранить неисправность. Оба не вернулись. Тогда командир велел Калмыковой выяснить, что с ними произошло. «Я шла вдоль провода три километра, – рассказывает она. – Потом увидела нашего парня, с простреленной головой. Пошла дальше, и увидела девушку, убитую выстрелами в затылок и в спину. Забрала их документы, начала искать поврежденный участок кабеля, чтобы починить его.
Вдруг вижу: в кустах немецкий солдат. Решила, что мне конец. Попятилась, но плечо оттягивала тяжелая винтовка, передвигаться было непросто. У немца был автомат. Ему ничего не стоило открыть огонь и убить меня – да только он решил взять меня живой, допросить, потому что понял: я – связистка, а значит, мне многое известно. Но я успела выстрелить первой. Немец упал. Сначала я не верила, что он на самом деле мертв, подумала: притворяется, подпускает поближе. Подойти я осмелилась, лишь убедившись, что он и вправду не дышит. На лицо старалась не смотреть. Просто сунула руку в карман, нащупала документы. Чувствовала себя отвратительно, копаясь в его вещах, но если бы я этого не сделала, никто бы не поверил, что я действительно убила вражеского солдата. Командир увидал меня и удивился: немецкий рюкзак и автомат! Я рухнула на койку, мне стало нехорошо. И все же я поступила правильно: либо ты немца, либо немец тебя. Если стоять разинув рот, наверняка убьют. Стреляй, или самого застрелят. Просто и понятно».
Решительное сопротивление советских войск задержало немцев: они впервые прорвались к центру города лишь в сентябре. К октябрю, несмотря на яростные немецкие атаки, Красная Армия по-прежнему удерживала узкую прибрежную полосу. Гитлер терял терпение. 6-я армия насчитывала триста тысяч человек – почему они не могли окончательно захватить полностью один-единственный разрушенный город? Но беда, как утверждают нынче немецкие ветераны битвы за Сталинград, заключалась в том, что даже Паулюс в то время ничего не мог поделать: у него было недостаточно людей, чтобы выбить советских бойцов из зданий и подземных коммуникаций. Волга, близость которой немцы поначалу считали своим преимуществом (река не давала советским войскам отступать и затрудняла подход подкреплений), теперь мешала 6-й армии полностью окружить врага.
Пока немцы боролись с неожиданными трудностями, возникшими в сложившейся обстановке, Сталин спорил со своими генералами по поводу дальнейших действий. После майского разгрома в Харькове Сталин с каждым днем становился менее упрямым в военных вопросах. Младшее командование стало учиться немецкой тактике «блицкрига». «Вынуждена признать, мы научились драться у немцев, – говорит Тамара Калмыкова. – В частности, выучились военному координированию, рекогносцировке, связи и картографии».
Важнее всего было то, что через передовую стали высылать разведывательные группы, бравшие «языков» для последующего допроса. Ничего опаснее подобной вылазки представить себе нельзя. Летом 1942 года Сурен Мирзоян и один из его друзей попали в такую разведгруппу. Бойцы пробирались по ничейной полосе, пока не наткнулись на врага: «Мы выяснили, какие здания принадлежали немцам, а затем поползли по картофельным полям – все ползли и ползли, пока не увидали немецкого часового. Он был один, вышагивал туда-сюда с автоматом в руках. Я очень волновался – весь вспотел от напряжения, ибо знал, что нас ждет, если немцы всполошатся. Только часовой повернулся к нам, как я ударил его по голове. Силы мне было не занимать. Часовой с криком рухнул наземь, а я закрыл ему рот ладонью и незаметно потащил прочь. После того, как мы проволокли его несколько метров, немцы открыли огонь, но мы успешно доставили пленника в штаб, за восемь километров».
Группы захвата оказывали на немцев невероятное деморализующее воздействие. Гельмут Вальц, также участвовавший в боях в руинах Сталинграда, помнит, как на его глазах исчез один санитар: «Мы звали, а он так и не ответил». Во время поисков сослуживца немцы обнаружили крышку колодца, под которой располагались подземные туннели канализационной системы. Потрясенный Гельмут Вальц крикнул своим товарищам: «Вот куда они его затащили!»
От советских разведчиков требовали всевозможными способами выжимать из пленных любые полезные сведения, до последней капли. Зинаида Пыткина рассказала нам о том, как допрашивали в ходе военных действий. На первый взгляд эта женщина ничем не отличается от других старушек, ходящих по улицам русских провинциальных городов, закутанных в платки, спасающие от ледяного ветра. Но ее выдают пронизывающий взгляд и несвойственная обычным людям откровенность: Зинаида Пыткина служила во время войны в секретнейшей службе сталинской безопасности – в контрразведке СМЕРШ. До падения коммунистического режима она не осмеливалась рассказывать о том, чем занималась на поле боя, даже самым близким друзьям.
СМЕРШ (сокращенно от «смерть шпионам»), который так часто любят описывать в остросюжетных романах, существовал на самом деле. Официальное название этого органа – Главное управление военной контрразведки, он был учрежден 14 апреля 1943 года, через три месяца после освобождения Сталинграда, вместо Управления особых отделов Народного комиссариата внутренних дел при третьем отделе. Наша гостья по-прежнему осторожна в выражениях: по словам Пыткиной, она и ее коллеги должны были «следить за порядком», но «незаметно». Также в их функции входило выслеживание вражеских агентов и проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника. Сотрудники СМЕРШ также с целью борьбы с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии вели слежку за бойцами. Когда Пыткиной сказали, что ее отправляют служить в СМЕРШ (не просилась туда, просто получила назначение), Зинаида испугалась, решив, что, должно быть, сделала что-то не так: «Они искали нарушителей закона, я и подумала, что меня тоже причислили к преступникам».
Мы попросили Пыткину «рассказать о своей работе» в СМЕРШ, и она ответила: «Я должна была выполнять любые полученные приказы». Но чем же она занималась на самом деле? «Чем угодно, всем, что прикажут», – ответила Зинаида. Потом разоткровенничалась и призналась, что вербовала доносчиков среди советских солдат, чтобы те сообщали о вероятных дезертирах. Также участвовала в допросах немецких солдат, взятых в плен советскими группами захвата, – эту сторону своей работы она определяет как «трудную, хитрую, интересную».
Как же во время допроса военнопленных офицеры СМЕРШ узнавали, говорят ли им правду? «Мы с самого начала знали, что может рассказать нам тот или иной пленный, – рассказывает она. – И в СМЕРШ, и в разведке уже имелась часть ожидаемых сведений, а остальное проверяли знатоки своего дела».
«И как же ваши “знатоки” получали нужные сведения?»
«Если он [пленный] молчал, то его заставляли говорить».
«Каким образом? Наливали ему водки?»
«Никогда не видела, чтобы пленных угощали водкой: просто избивали по чем попало, – говорит Зинаида Пыткина. – Передо мной враг, и он отказывается говорить. А “умоешь” его разок-другой – и соловьем разольется… Именно за этим его и брали в плен – чтобы выложил нужные сведения».
«Умывать», как выяснилось, означало бить и пытать. Позднее мы снова спросили: «Как же вы заставляли немцев говорить?» Зинаида ответила еще более уклончиво, с откровенной иронией в голосе: «Скажем так: с теми, кто упорно молчал, обращались “нежно”. А никому ведь не хочется умирать».
Зинаида Пыткина не только при случае участвовала в допросах плененных немцев, но также помогала завершать их печальное путешествие по лабиринтам СМЕРШ – то есть казнила военнопленных. Однажды командир приказал ей «разобраться» с молодым немецким майором по окончании допроса. Снаружи, возле застенка, вырыли яму. Офицеру приказали встать на колени возле нее. Пыткина достала пистолет из кобуры («моя рука не дрогнула»), прицелилась ему в затылок и спустила курок. Тело рухнуло в яму. «Я стреляла с удовольствием, – признается Зинаида, – поскольку немцы не просили пощады, и меня это неизменно злило. А еще я радовалась тому, что исполнила свою задачу. Потом возвращалась в кабинет и выпивала водки».
Когда мы попросили ее рассказать более подробно о чувствах, которые она испытала после хладнокровного убийства немецкого офицера, она ответила следующее: «Я скорблю по нашим бойцам. Когда мы отступали, то потеряли так много совсем молодых ребят, лет семнадцати-восемнадцати. И что же, мне после этого сочувствовать немцам? Да, как член коммунистической партии, я видела в человеке, сидящем передо мной на допросе, врага, убившего моих близких… Да я бы голову ему оторвала, если бы меня попросили. Одним немцем меньше, радовалась я. Спросите его, скольких он сам убил, – неужели вы об этом ни разу не задумались?
Я понимаю, вы недоумеваете – как вообще женщина могла убить мужчину? Сегодня я бы ни за что этого не сделала. Разве только в случае, если бы началась война и я натерпелась столько же, сколько мне довелось пережить в той войне… Они попадали в плен, они не раз убивали русских солдат. Что, мне за это его расцеловать? Я сама просилась в разведку, чтобы лично брать немцев в плен, но мне так ни разу и не разрешили. Женщин на такие дела не посылали, но я очень хотела принять в них участие. Хотела подкрасться к вражеским позициям, взять кого-нибудь в плен и, возможно, даже убить».
Сталину пришлась бы по нраву беспощадность Пыткиной, ведь осенью 1942 года он требовал такого же хладнокровия от всех защитников Сталинграда. Но одной решительностью битвы не выиграть. В ходе операции «Блау» Красная Армия доказала, что научилась обращать в свою пользу даже отступления. Теперь советским бойцам предстояло проявить себя в наступлении. Впервые Красная Армия должна была показать, что может получить превосходство в ведении современной войны с современным вооружением и что теперь ее солдаты обладают не только доблестью, но и пониманием тактики.
Первые признаки этих перемен проявились в начале осени 1942 года в Москве. Сталин говорил по телефону, а Жуков обсуждал с Василевским (которого в 1942 году назначили заместителем народного комиссара обороны) возможные альтернативные сценарии, с которыми могла столкнуться Советская армия на юге. «В ходе этого разговора, – вспоминает Махмуд Гареев, который был в ближайшем окружении командарма, – Жуков сказал: “Нам нужно что-то новое”. Его слова случайно услышал Сталин, который тут же отвлекся от телефона и спросил: “И что же вы предлагаете?” Жуков и Василевский объяснили ему суть своего предложения, на что Сталин ответил: “Даю неделю на изучение ситуации, но никого из Ставки в свои дела не посвящайте”».
В результате этой беседы Красная Армия одержала первую важную победу в этой войне – в операции «Уран». План советских военачальников был весьма честолюбив: они собирались обойти немцев с флангов и окружить 6-ю немецкую армию. Как концепция, так и непосредственная реализация этой операции отчетливо дали понять: Красная Армия станет действовать совсем иначе, по сравнению с отчаянным отступлением под Харьковом пятью месяцами ранее. «Наши многому научились у немцев, – рассказывает Гареев. – Но не только – учились также на собственных ошибках». Планируя операцию «Уран», советские военачальники использовали не только печальный опыт поражения при взятии немцами русских войск «в клещи» в 1941 году, но также вспомнили инновационную теорию механизированных «глубоких операций», предложенную командирами Красной Армии в начале 1930-х годов, но так и не принятую на вооружение. Приняв точку зрения Жукова и Василевского, Сталин проявил не только гибкость, но и цинизм: кому какое дело, что советских офицеров в прошлом решительно осудили за подобную идею? Быть может, в этот раз это стратегическое решение и увенчается успехом.
Советские военачальники предлагали основной удар нанести не по мощным частям и соединениям 6-й немецкой армии, а по венгерским, румынским и итальянским войскам, стоявшим на флангах. Немцы вынуждены были воспользоваться подкреплением, полученным от своих союзников, чтобы восполнить потери в своих рядах – в такое бедственное положение немцы попали из-за того, что летом Гитлер приказал разделить ударную группу на две части.
Многие из предыдущих операций Сталина терпели крах из-за того, что немцы с легкостью предугадывали намерения СССР, но операция «Уран» в корне отличалась от всего предыдущего опыта Красной Армии, полученного в ходе первых лет войны. Это наступление известно тем, что именно тогда Советский Союз впервые прибегнул к военной хитрости – маскировке. Иван Голоколенко, будучи офицером 5-й танковой армии, участвовал в операции «Уран». В первую очередь и его самого, и его товарищей намеренно ввели в заблуждение относительно истинной цели предстоящей операции. «20 октября 1942 года мы получили приказ заготовить дров на случай сильных морозов, чтобы помочь Москве с тыловым обеспечением», – рассказывает он. Его подразделение доставило необходимый запас дров на железнодорожный вокзал, где выяснилось, что он нужен вовсе не для Москвы, а для маскировки танков, которые собирались погрузить на открытые товарные платформы. «Через два-три дня все три эшелона двинулись в путь, но никто не знал, куда мы отправляемся. О пункте назначения не знали ни командир бригады, ни даже железнодорожники, сопровождавшие нас в пути.
В ночь на 24 октября мы остановились на станции Кумылга к северу от Сталинграда. Затем мы проехали пятьдесят пять километров, не включая фар. Двигались в кромешной темноте, очень медленно, точно друг за другом… Помню, на одном перекрестке нам встретилась группа генералов, и один из водителей растерялся и включил передние фары. В ответ он услышал, как кто-то тихонько выругался и ударил палкой по фарам, разбив стекло. Затем пронесся шепоток: “Жуков! Жуков!”, и я действительно узнал самого Жукова в группе генералов. Оказывается, это он разбил фары, чтобы не выдать передвижения войск. Лично наблюдая за нашими колоннами, – вспоминает Голоколенко, – он уделял огромное внимание соблюдению маскировки, стремясь достичь желаемого результата… С теми, кто не выполнял его приказов, он был суров и беспощаден. Думаю, на войне иначе попросту нельзя».
Дезинформация врага касательно передвижений войск была не единственной целью маскировки и других военных хитростей, примененных в ходе операции «Уран». Часть Голоколенко вместе со всеми остальными получила приказ рыть окопы и строить другие оборонительные укрепления на открытой местности, чтобы убедить немецких разведчиков в том, что советские войска не планируют переходить в наступление. Мосты, которые отлично просматривались с воздуха, намеренно построили за много километров от предполагаемого места атаки: «Мы строили поддельные мосты, специально концентрировали войска подальше от направления будущего наступления. Эти мосты предназначались для того, чтобы отвлечь внимание врага от направления главного удара». Для возведения настоящих речных мостов, предназначенных для грядущего наступления, они использовали маскировку: «Некоторые мосты мы строили прямо под водой, на глубине пятидесяти-семидесяти сантиметров. С воздуха такие мосты засечь было гораздо сложнее».
Ожидая приказа на наступление, часть Голоколенко перед ответственной операцией практиковалась в координировании действий пехоты и танков – невероятно, но прежде они никогда такого не делали. Также они учились преодолевать один из самых больших страхов – «танкофобию»: «Мы сидели в окопах, а танки проезжали прямо над нами, мы должны были вынести весь этот ужас, оставаясь на месте, чтобы не испытывать страха перед движущимися над нами махинами». Эта проблема была для них серьезным испытанием: «Как только появлялись танки, пехота разбегалась кто куда. Страшнее я ничего в жизни не видел. Помню, не меньше мы боялись того, что немцы могут нас окружить. Стоило кому-то крикнуть: “Нас окружают!”, как у всех тут же начиналась паника».
Красная Армия готовилась к молниеносному наступлению, подобному тому, что в 1941 году применили против советских войск немцы. «Раньше мы использовали танковые части лишь для поддержки пехоты, – рассказывает Голоколенко. – Но теперь планы кардинально поменялись. Нам предстояло прорвать узкую линию обороны и направить через образовавшуюся брешь два танковых корпуса. Целью танковых корпусов было обойти с фланга укрепления противника и узлы сопротивления, а затем углубиться в стан врага и захватить стратегические точки, например, мосты и городские башни. Пехота должна была проследовать за танками и зачистить территорию – такого мы раньше никогда еще не делали».
Красной Армии помогло и то, что в ходе войны советские люди достигли невероятных успехов в военной промышленности, превзойдя немцев в производстве вооружения. Германия обладала на тот момент большими возможностями, и ее промышленность могла производить значительно большее количество оружия, чем Советский Союз, промышленная база которого была подорвана нападением вермахта. Однако промышленные предприятия Советского Союза перенесли на восток, и там, несмотря на ужасные условия, рабочие, среди которых женщины в 1942 году составляли половину, самоотверженно трудились и в конце концов превзошли немцев. В 1942 году в СССР было построено двадцать пять тысяч самолетов – на десять тысяч больше, чем удалось произвести немцам. При этом большая часть боевой техники (в том числе и модернизированные танки Т-34) качественно превосходила или была равна по мощности немецкой.
За счет глубочайшей секретности разработки плана стратегической наступательной операции «Уран» и достигнутой огромной скрытности сосредоточения сил (был задействован почти миллион солдат) была обеспечена стратегическая внезапность наступления. О колоссальном успехе скрытности и маскировки советских войск свидетельствует донесение Цейтцлера, которого Гитлер незадолго до этого (приказом от 23 октября) назначил на должность начальника штаба сухопутных войск (ОКХ) – менее чем за четыре недели до начала советской операции. В нем говорилось, что Красная Армия «не готовит в обозримом будущем крупных наступлений»3. В шесть утра 19 ноября – день, на который назначили начало операции «Уран» бригада Ивана Голоколенко преклонила колени перед войсковым знаменем, слушая, как зачитывали обращение Сталина: «Он обращался к нам будто бы по-отечески, как к родным детям: “Дорогие генералы и солдаты, к вам обращаюсь, братья мои. Сегодня вы пойдете в бой, от вас зависит судьба целой страны – останемся ли мы независимым государством или погибнем”. Его слова остались в моем сердце… Я едва сдерживал слезы, когда собрание подошло к концу. Ощутил настоящий прилив сил, духовный подъем».
Мы не знаем, многие ли восприняли обращение Сталина так же, как Иван Голоколенко. Нам никогда не удастся ответить на вопрос, воевали ли советские граждане из страха перед наказанием или же их вели в бой патриотические чувства, любовь к Сталину или вера в коммунизм. Скорее, все эти факторы имели значение, но каждый из них мог сказаться в солдате в разных обстоятельствах и в разное время. Большинство из нас, оглядываясь назад, недооценивает исключительную важность, которую представляла для населения Советского Союза личность самого Сталина. Учитывая то, что нам известно о сталинском терроре, достаточно легко представить себе, какой властью обладал этот политический лидер во время войны. Многие советские ветераны придерживаются той же точки зрения, что и Анатолий Мережко: «Мы ничего не знали о том, что Сталин якобы погубил миллионы людей. Идя в бой, мы кричали: “За Родину! За Сталина!” Теперь у нас нет никакой идеологии. Нет лозунгов, объединяющих людей, как было тогда: “Все для фронта! Все для победы!” А ведь под этим девизом трудились тогда на фабриках и заводах даже дети и женщины. Это были не просто громкие слова – люди искренне верили в то, что говорят».
Артподготовка, с которой началась операция «Уран», грянула в семь тридцать утра 19 ноября 1942 года. Детальная проработка операции и маскировка накануне – все в корне отличалось от предыдущих военных кампаний. И снова советские стратеги использовали немецкую тактику. «Раньше артиллерия давала залпы в течение десяти-пятнадцати минут перед наступлением, – вспоминает Голоколенко. – Но теперь большая ее часть – около пятисот орудий – сосредоточивались на узкой полосе фронта, обрушивая на нее всю свою боевую мощь».
Голоколенко вместе со своим батальоном добирался до линии фронта на грузовике: «Когда я услышал грохот артиллерии, как раз начался снег, видимость ухудшилась. Чуть позже мы услышали приказ о наступлении. Добравшись до вражеской линии фронта, мы тут же попали под мощный огонь. Один за другим, взорвались два наших танка, еще один загорелся. Грузовику, в котором ехал я, попали в радиатор. Мы с ребятами выпрыгнули из кузова и побежали за танками. Мы пробежали около трехсот метров, как вдруг танки остановились, и пехота залегла на землю. Я сильно испугался, ведь во всех предыдущих битвах, например, под тем же Ленинградом, все наши наступательные операции быстро заканчивались плохо, я боялся, что мы так ничему и не научились. И тут снова неудача, снова мы стали проигрывать, я совсем уже очаялся и растерялся».
Но его части просто не повезло: они столкнулись с теми частями противника, которые не пострадали от артиллерийского обстрела. На другом участке фронта отряды продвигались вперед достаточно успешно, так что вскоре и бригада Голоколенко поравнялась с остальными и двинулась на врага сквозь снежную завесу. Советские войска вошли на территории, удерживаемые немцами, в полной темноте. Немцы отдали румынам приказ удерживать фланги, но они заранее были обречены на провал. «Не хочу обижать румын, – признается Голоколенко, – но к сражению они были подготовлены хуже немцев. Бойцы вермахта были хорошо натренированы и действовали намного смелее. У румын не было настоящей цели в этой войне – за что им было бороться? Нельзя сказать, что мы совсем не встретили сопротивления, но в этом бою нам было, как никогда, победить легко. Они были абсолютно не способны к обороне».
Основной удар операции «Уран» пришелся на западную часть реки Дон, более чем в ста пятидесяти километрах от Паулюса, к северу от Сталинграда. Даже если бы немцы успели оперативно отреагировать на угрозу, они не смогли бы перебросить артиллерию, чтобы отразить советское наступление. Но руководство вермахта растерялось. Реакция Паулюса на угрозу окружения, растущую с каждой минутой, всецело зависела от необходимости консультироваться с Гитлером, который решил взять небольшой отпуск и уехал из ставки в Восточной Пруссии в Бергхоф, в Южную Баварию. Малочисленные соединения, отправленные немцами для отражения атак советских войск, также столкнулись со сложностями передвижения и проблемой плохой видимости из-за снега. На этот раз у немцев не было ни эффекта неожиданности, ни возможности осуществить молниеносную атаку.
Именно в этой битве подполковник Филиппов и его бойцы совершили легендарный подвиг: они смелым налетом захватили мост через реку Дон, отразив несколько контратак противника, а затем, несмотря на нехватку сил в отряде, атаковали хутор Калач, который с подходом передовых частей танкового корпуса был взят. Один этот дерзкий поступок свидетельствует об успехах Красной Армии, о храбрости ее солдат и тактической прозорливости. Они нанесли сокрушительное поражение немцам и их союзникам не только благодаря численному превосходству, но и благодаря тонкой стратегии советских военачальников. 23 ноября ударные группировки РККА соединились в окрестностях Калача, полностью окружив 6-ю немецкую армию. «Нас окрыляла победа, – с гордостью рассказывает Иван Голоколенко. – Мы были уверены в том, что сумеем одержать верх над неприятелем и что эта операция останется самым запоминающимся и самым ярким событием в истории. Помню, мне казалось тогда, что, будь у меня крылья, я бы взлетел ввысь, как птица. Прежде я чувствовал себя подавленным, но теперь ничто не могло бы меня остановить».
Даже зная, что их окружили, солдаты 6-й немецкой армии отказывались верить в то, что им угрожает опасность. Ведь они считали, что в Красной Армии служат лишь представители низшей расы, плохо вооруженные, неумелые. Кроме того, сам фюрер не позволит, просто не может позволить своим бойцам потерпеть неудачу. Их по-прежнему одолевала излишняя самоуверенность, которую вселили в них победы, одержанные немецкими войсками в ходе операции «Барбаросса». «Сталинград окружили, – рассказывает Бернхард Бехлер, немецкий офицер, также участвовавший тогда в боях против СССР. – Но даже тогда я верил, что фюрер не даст нас в обиду; что он не принесет в жертву 6-ю армию, что сумеет вытащить нас оттуда». Убеждения Бехлера в первые дни окружения разделяли многие немецкие ветераны Сталинградской битвы. «Всем казалось, что этот перевес в пользу Советского Союза не продлится долго, – говорит Герхард Мюнх, – от силы пару дней. Нам казалось, что положение, в котором мы оказались, было временным».
Гитлер, убежденный, что исключительно его воля уберегла вермахт от поражения под Москвой годом ранее, приказал Паулюсу не пытаться вырваться из окружения, а удерживать Сталинград в ожидании помощи извне. Геринг, в своем всегдашнем стремлении получить одобрение фюрера, самонадеянно пообещал, что с помощью люфтваффе организует для 6-й армии воздушный мост. Подобные прецеденты уже случались: в 1942 году, в Демянске, немецкие самолеты сбрасывали с воздуха провиант отрядам, оказавшимся в окружении, хотя операцию под Демянском едва ли можно сравнить с гораздо более масштабной поддержкой 6-й армии, благодаря которой та должна была сохранить всю свою боевую мощь. В то же время фельдмаршал фон Манштейн получил приказ прорвать блокаду вокруг окруженных под Сталинградом войск и вывести из окружения армию Паулюса. Его операция «Винтергевиттер», в ходе которой немецкие отряды устремились сквозь снег и слякоть пробить брешь в сомкнувшемся вокруг Сталинграда кольце, началась 12 декабря 1942 года.
Когда солдаты 6-й армии узнали о спасительной для них операции, они сочли ее верным знаком того, сколь высоко ценит свои войска фюрер. «Манштейн якобы был уже на подходе, – вспоминает Берхард Бехлер. – Нам каждый день повторяли одно и то же, многим уже стало казаться, будто они слышат рев танков армии Манштейна, что тот уже близко. Это казалось многим, хотя на деле этого не было. Люди боялись и верили в то, во что им хотелось верить».
Шестьдесят советских дивизий стали кольцом вокруг Сталинграда, так что у Манштейна не было ни одного шанса. 19 декабря 57-я танковая дивизия подошла к реке Медведица, в пятидесяти километрах от Сталинграда; ближе немецкому подкреплению подойти так и не удалось, поскольку уже в канун Рождества[19] отряды Манштейна и сами оказались под угрозой окружения, после чего Верховное командование отдало приказ о выведении войск.
К концу 1942 года стало ясно, что честолюбивые планы по созданию воздушного моста, предложенные Герингом, обеспечат лишь малую долю необходимых для удержания Сталинграда поставок провианта и боеприпасов. Те немецкие самолеты, которые отправлялись на эту миссию, часто сбрасывали припасы на советские позиции из-за ветра или изменений местоположения войск на линии фронта. С каждым днем условия существования 6-й армии стремительно ухудшались, вследствие чего вера солдат в то, что фюрер непременно вызволит их, серьезно пошатнулась.
«Тот, кто сам не был там, – утверждает Бернхард Бехлер, – понятия не имеет, через что нам довелось пройти. Когда я ложился спать и запускал руку себе под воротник, то каждый раз доставал из-за шиворота целую горсть вшей. Вши разносили тиф… Нам нечего было есть. Мы нашли несколько замерзших насмерть лошадей, взяли топор и отрубили от их мертвых тел несколько кусков мяса. Пришлось подогреть его в котле, чтобы съесть хоть что-нибудь. Мы просто лежали на земле, погибая от голода, и мерзли, нам было страшно… Представьте только: степь, все в снегу, градусов двадцать-тридцать мороза… Солдаты лежали на земле, и наши танки, не замечая своих же бойцов, ездили прямо по ним, потому что у тех не было сил подняться и дать о себе знать. Я все думал про себя: если бы наши близкие увидели нас, если бы они знали, какой страшной смертью гибнут здесь наши солдаты! В мое сердце все чаще закрадывались сомнения, я спрашивал себя: что ты делаешь здесь, в Сталинграде? Что держит тебя, простого немецкого офицера, здесь, в тысячах миль от дома? Разве ты защищаешь здесь Родину, свою Германию? Зачем тебе все это?»
После того как Манштейн потерпел неудачу и немецкие войска вынуждены были встретить в Сталинграде Рождество и Новый год, некоторые офицеры 6-й армии впали в такое отчаяние, что стали подумывать о самоубийстве. «После нашей рождественской “вечеринки”, – вспоминает Герхард Мюнх, – я отправился в штаб полка, пожелать сослуживцам счастливого Рождества. И там мне рассказали, что несколько офицеров артиллерийского полка застрелились. А в канун Нового года ко мне пришли командиры роты и сказали, что жизнь утратила всякий смысл, что пора поставить точку, и предложили всем вместе пустить себе пулю в лоб. Мы всю ночь спорили друг с другом о том, что же нам делать дальше. В конце концов решили, что несем ответственность за солдат, которые должны идти в бой под нашим командованием, а потому не имеем никакого морального права на самоубийство».
В январе того года Иоахим Штемпель встретился со своим отцом, который еще до войны был профессиональным военным и теперь, получив чин генерала, командовал 371-й пехотной дивизией. Его дивизия сражалась в другой части «Сталинградского котла». Эта встреча стала поворотным моментом в жизни Штемпеля: «Я приехал на его командный пункт на джипе, чтобы обсудить наше положение, о котором ему, как командиру дивизии, должно было быть известно гораздо больше, чем мне, командиру небольшого взвода. В тот день я понял, насколько плохи наши дела. Отец без лишних намеков сказал: “Нас принесли в жертву, чтобы спасти остальных”. И тут открылась дверь, и в бункер вошел Паулюс. Отец поприветствовал его и спросил: “Мне отослать сына?” Паулюс разрешил мне остаться и присутствовать при их разговоре. Они обсуждали сложившуюся ситуацию, и в конце Паулюс сказал следующие слова: “Моей гордости, 6-й армии, выпал жребий, которого она не заслужила. Для последней миссии, Штемпель (обратился он к моему отцу), нам и нашим бойцам потребуются великие силы. Как генерал вермахта, вы знаете, что требуется от вас в конце нашего пути. Наши люди должны защищать наши позиции в бункере, пока русские не войдут внутрь, после чего бункер взорвут вместе с нами. Пусть удача в этой последней битве будет на вашей стороне”. Произнеся эту речь, он пожал руки нам обоим и ушел».
После того как Паулюс покинул бункер, Иоахим Штемпель с отцом стали обсуждать услышанное, но слова военачальника прозвучали весьма однозначно: «Отец подтвердил, что ни один из генералов не должен попасть в плен, такого исхода нельзя допустить, как и объяснял командир. “Ты еще можешь попытаться, – советовал он. – Ты ведь еще совсем молодой. Попытайся сбежать из этого пекла, как-то вырваться из окружения… Но я застрелюсь. Не хочу стать обузой для своих штабных офицеров на случай, если они тоже попытаются скрыться. Мне уже пятьдесят, я им лишь помешаю. Так что я остаюсь. Пущу пулю в лоб, когда русские войдут в мой бункер, здесь, в этой самой комнате… Так поступают капитаны тонущих кораблей. Капитан никогда не уплывет на шлюпке, он останется и погибнет вместе со своим судном. Мои люди погибнут здесь за свою страну и больше не увидят свой дом. Мой долг – разделить их участь. Я остаюсь”».
Иоахим Штемпель в последний раз обратился к отцу: «Я поблагодарил его за все – за воспитание, за учебу, за прекрасный дом, за тепло и ласку, а также за то, что мне позволили выбрать профессию по душе. Пожелал ему всего наилучшего и отдал ему честь, на что он ответил: “Мы скоро увидимся снова, там, на небесах, куда попадают все доблестные воины. Береги себя, сын”. Я снова отдал честь и вышел на улицу, где меня дожидались товарищи».
Десятого января 1943 года Красная Армия начала операцию «Кольцо», чтобы сдавить петлей 6-ю армию, и к 26 января передовые отряды уже соединились с 62-й армией Чуйкова у Волги. К концу того же месяца у немцев не осталось сил сопротивляться. «Однажды у окопа, где я жил вместе со своим адъютантом – молодым лейтенантом, – появились трое русских солдат, – рассказывает Бернхард Бехлер. – Командный пункт нашего полка располагался всего в нескольких метрах от нас – и вдруг эти солдаты так близко. Мы тут же подумали: все, нам конец, ведь у нас не осталось никаких боеприпасов. Они застрелят нас на месте или возьмут в плен. Что делать? В этот момент я увидел, как мой адъютант вытаскивает из кармана фотографию.
Взглянув на нее, я увидел его молодую жену с двумя малышами на руках. Он посмотрел на снимок, порвал его на мелкие кусочки, достал пистолет и застрелился. Это произошло на моих глазах, так что я с уверенностью могу сказать: вы представить себе не можете, что значит видеть, как прямо перед тобой умирает человек. В следующее мгновение возле меня уже стоял солдат Красной Армии – он приставил пистолет к моей груди, но так и не спустил курок. Как только я понял, что он не собирается меня убивать, я будто заново на свет родился».
Как только немецкая оборона была прорвана, Герхард Мюнх, который всего несколько недель назад отговорил своих офицеров от самоубийства, убедив их остаться со своими людьми до конца, неожиданно получил сообщение от полковника из штаба 51-го корпуса. «Вас заберут сегодня самолетом», – сообщили ему. Мюнха отобрали как одного из последних офицеров для особых поручений: он должен был вывезти из Сталинграда самые важные документы. К самолету на наспех сооруженной взлетной полосе Мюнха провожали отчаявшиеся немецкие солдаты. «По нам стала бить русская артиллерия, и солдаты, которых не взяли в самолет, пытались уцепиться за шасси. Пилот старался сбросить их на землю, и они сорвались. Это невозможно описать словами, это можно только увидеть: на моих глазах погибла надежда этих несчастных выбраться отсюда».
Люди Мюнха остались в окружении – ему даже не позволили позвонить в родной полк, чтобы попрощаться: «Внутренне мне тяжело было смириться с тем, что я, по сути, изменил собственным принципам, с которыми шел по жизни, – не бросать своих. Еще много лет я не мог успокоиться… Солдаты верили в меня, наши отношения основывались на доверии, которое во многих ситуациях играло решающую роль. И вот, в самый ответственный момент, я бросил их на произвол судьбы».
Когда дальнейшая судьба 6-й армии стала ясна даже Гитлеру, он повысил Паулюса в чине до фельдмаршала. Прежде ни одного фельдмаршала не брали в плен, поэтому смысл этого «продвижения по службе» был очевиден: фюрер велел Паулюсу совершить самоубийство.
Тридцатого января, когда советские войска наконец окружили штаб Паулюса, который тот устроил в универмаге на площади Павших Борцов, Герхард Хинденланг, командир батальона, получил радиосообщение с новостями о повышении. Хинденлангу приказали передать Паулюсу эту весть и сводку, полученную от разведки, согласно которой Красная Армия вот-вот должна была сломить остатки немецкого сопротивления: «Я вошел в штаб и сообщил генералу, что услышал по радио о присвоении ему звания фельдмаршала. Также я вынужден был сказать ему, что он должен объявить о сдаче, потому что русские окружили универмаг (где располагался его командный пункт), и что дальнейшее сопротивление бесполезно. Он ответил мне примерно следующее: “Хинденланг, я – самый молодой фельдмаршал вермахта, и теперь меня ждет судьба военнопленного”. Я был поражен, его слова потрясли меня до глубины души, и он, заметив удивление на моем лице, спросил: “Вам самоубийство кажется лучшим выходом?”, на что я ответил: “Фельдмаршал, я поведу людей в бой и не оставлю их до последнего момента. Я стану военнопленным, если потребуется, но у вас нет больше армии”. Он покачал головой: “Хинденланг, я – христианин. Я отказываюсь накладывать на себя руки”».
На следующий день Паулюса взяли в плен. До нашего времени дошел протокол экстренного совещания у Гитлера от 1 февраля 1943 года. Разъяренный фюрер пришел в замешательство, узнав новости с фронта. «Больше всего мне жаль того, – сказал он, – что героизм стольких солдат перечеркнула слабость одного человека… Что есть жизнь?.. Мы все когда-нибудь умрем. Но благодаря смерти одного будет жить целая нация. Как можно бояться момента освобождения от оков этой юдоли печали, когда чувство долга велит ему предстать перед лицом смерти!» Позднее, на том же собрании, Гитлер не раз повторял, как он жалеет о том, что наделил этого человека такой властью: «Больше всего лично я жалею о том, что не сдержался и повысил его до звания фельдмаршала… Это был последний фельдмаршал в этой войне. Цыплят по осени считают… Не понимаю… Он мог освободиться от оков этой юдоли слез, кануть в вечность, остаться вечно живым в памяти нации – а выбрал Москву. Как он вообще мог на такое решиться? Безумец». Судя по этому протоколу, фюрера гораздо больше поразили действия Паулюса, чем поражение в битве за Сталинград4.
Гюнтеру фон Белову, который служил при Паулюсе начальником оперативного управления и отправился в плен вместе с ним, отказ фельдмаршала от самоубийства кажется вполне объяснимым. «Он [Паулюс] говорил: “Как живой человек и, прежде всего, христианин, я не могу лишить себя жизни”. Я и сам в этом вопросе придерживался того же мнения… Это – не трусость. Мы выполняли свой воинский долг и выбрали плен вместе со своими солдатами. Самоубийство – вот удел настоящих трусов, вот во что я искренне верю».
Однако Иоахим Штемпель тут же опровергает слова фон Белова о том, что Паулюс не пошел на самоубийство лишь потому, что предпочел отправиться в плен вместе со своими солдатами: «Это, должно быть, шутка, потому что генерал и минуты не провел со своими войсками: его в московский Генеральный штаб везли в отапливаемом скором поезде, где на полке было чистое постельное белье, а на окнах занавески». Паулюса везли отдельно от его людей, это подтверждают фотографии, запечатлевшие довольно комфортные условия содержания фельдмаршала в плену. Эти снимки до сих пор хранятся в российской службе безопасности. Он жил если не в роскоши, то по меньшей мере значительно лучше, чем его подчиненные, которых ждали ужасы советских лагерей. Под Сталинградом в плен попали более девяноста тысяч немецких солдат; из них погибло девяносто пять процентов рядовых солдат, пятьдесят пять процентов младших офицеров и всего пять процентов старших офицеров5.
«Я был разочарован, – вспоминает Иоахим Штемпель свои чувства, когда услышал весть о том, что Паулюс сдался в плен. – Мне больше не во что было верить. Ведь теперь я знал: слово генерала ничего не стоит». И действительно, Штемпель своими ушами слышал, как в разговоре с его отцом Паулюс прямо призывал старших офицеров совершить самоубийство. «Если бы отец только мог заподозрить ложь в его словах, он бы явно задумался: если уж сам главнокомандующий Паулюс планирует сдаться, то почему бы и мне, командиру дивизии, не последовать его примеру?»
В то время как Паулюса везли в Москву, где-то в Сталинграде Валентина Крутова вместе со своими братом и маленькой сестричкой лежали без сил на койке – на тот момент они уже слишком ослабли, чтобы хотя бы попытаться добыть себе что-нибудь из пропитания: «Мы с братом лежали по краям, а сестра устроилась между нами. Мы думали только о том, где взять еду. Мы умирали от голода. До сих пор не верю в то, что мы пережили то время… Мы просто лежали на кровати целый день, не произнося ни слова, сжимая друг друга в объятиях. Пытались согреть нашу сестричку. Мы поворачивались на бок и тесно прижимались к ней, пытаясь передать ей хоть крупицу тепла своих тел». Но вдруг они услышали стук в дверь: «Мы услышали, как кто-то крикнул снаружи (по-русски): “Зачем стучите? Вдруг там немцы, они же нас застрелят. Бросайте гранату”. Но один солдат открыл, наконец, дверь и стал осматриваться по сторонам – нас совсем не было видно. И мы закричали: “Не убивайте нас! Мы – русские!”. Солдат остановил своих: “Здесь дети”. Когда они вошли и увидели нас, то не смогли сдержать слез».
Для Красной Армии победа в Сталинграде была не просто военным триумфом: она вдохнула в советских бойцов веру в победу. «В тот день я поднял тост за победу, – вспоминает Сурен Мирзоян, – и сказал себе, что после Сталинграда я больше ничего не боюсь». Анатолий Мережко после этой победы почувствовал нечто необыкновенное: «Я поверил, что не погибну на этой войне. Когда я увидел, как немцы сдаются, и понял, что пережил Сталинград, то почувствовал, что доживу и до победы. Я истово верил в нее и в то, что сумею выжить».
Но Сталинград был не единственным решающим моментом в ходе войны на Восточном фронте, как некоторые утверждают сегодня. Немцы не сдались после этого поражения, и упорное сопротивление 6-й армии позволило немецкому командованию безопасно вывести группу армий «А» из Калмыцких степей и с Кавказа на юг, спасая ее тем самым от участи пожертвовавших собой соратников. Но это нисколько не умаляет значения поражения вермахта под Сталинградом. Никогда больше немцам не пришлось оказаться снова на берегу Волги.
В то время как на фронте разворачивались эти драматичные события, в сотнях миль от мест боевых действий нацисты совершали страшное преступление без срока давности – тотальное истребление евреев.
Глава 8
Дорога в Треблинку
Изображения аушвица (освенцима) принадлежат к числу наиболее легко узнаваемых на нашей планете: бесконечные ряды бараков, истощенные люди-скелеты пристально глядят на нас с кадров старых кинохроник. Об Освенциме существуют фильмы и фотографии потому, что Освенцим – это и трудовой лагерь, и центр истребления, а это тоже в некоторой мере объясняет, почему из него вышло на свободу большее количество узников, чем из других лагерей. Но Освенцим, хотя и страшное место, все же не является самым типичным примером созданного нацистами кошмара. Нацисты создавали и другого типа кошмарные лагеря, которые были только фабриками смерти, предназначенными исключительно для того, чтобы умерщвлять. Эти лагеря, устроенные вдалеке от исконно немецких территорий, выполнили свое зловещее предназначение и перед окончанием войны были ликвидированы и снесены, чтобы скрыть следы чудовищных преступлений. Вот таким местом и была Треблинка. Посети вы в наши дни то место в польской глубинке, где находился лагерь Треблинка, то ничего бы, кроме леса, не увидели и ничего бы, кроме щебета птиц, не услышали. И все же вы бы стояли на месте, которое знаменует собой величайшие подлость и варварство, ниже которых человек не опускался еще никогда. На мемориальном камне, на месте, где когда-то начиналась ограда лагеря, написано: «Никогда больше». Но там не хватает слова, которое пылало бы днем и ночью: «Помните».
Самюель Вилленберг, которого немцы схватили в одной из облав на евреев в городке Опатуве, на юге Польши, в 1942 году, очутился в поезде, направлявшемся в Треблинку. Он ехал в вагоне для перевозки скота и, проезжая мимо железнодорожных станций, слышал, как польские детишки кричали: «Евреи! Вас пустят на мыло!» Когда поезд полз по сельской местности, Самюель услышал, как другие евреи в товарняке перешептываются: «Плохо дело. Мы едем в Треблинку». И все же никто в вагоне не хотел признать, что может существовать место, где просто так истребляют невинных людей. «Трудно было поверить, – говорит Самюель Вилленберг. – Я здесь был и до сих пор не могу в это поверить».
Поезд остановился на станции Треблинка, двери товарных вагонов с грохотом открылись, и тут же раздались крики: «Шнель, шнель!» Украинцы в черной форме СС гнали евреев с платформы через ворота в нижнюю часть лагеря. Мужчин направляли направо, женщин – налево. Молодой еврей с красной повязкой на рукаве и кусками бечевки в руках приказал разуться и связать ботинки. Парень показался Самюелю знакомым: «Я спросил его: “Послушай, откуда ты?” Он ответил и задал мне тот же вопрос. Я сказал: “Ченстохова, Опатув, Варшава” – “Из Ченстоховы?” “Да”, – подтвердил я. – “Как тебя зовут?” – “Самюель Вилленберг” – “Скажи, что ты – каменщик”, – посоветовал он и отошел». Эта случайная встреча и четыре слова совета спасли Самюелю жизнь. Он сказал охранникам, что он – каменщик, благодаря чему оказался среди той горстки евреев, которых нацисты отобрали для работы в лагере, а не отправили сразу на смерть.
За тринадцать месяцев, с июля 1942 года по август 1943-го, в Треблинке было истреблено около восьмисот тысяч человек (по другим источникам – свыше миллиона). Для того чтобы это совершить, понадобилось только пятьдесят немцев, сто пятьдесят украинцев и чуть более тысячи евреев, вынужденных помогать. Когда стоишь на поляне, где раньше был лагерь, то прежде всего поражают его размеры: всего четыреста метров на шестьсот. Становится очень тяжело на душе, как только осознаешь, что если людей собираются убивать, то много места и не надо.
Планировка лагеря едва ли могла быть проще. Жертвы прибывали поездом, после чего их гнали с полустанка сразу на центральный двор лагеря, где мужчинам приказывали раздеться. С одной стороны двора находились бараки, где раздевались женщины и где им обрезали волосы. «И тогда, – рассказывает Самюель, – у женщин появлялась надежда: ведь раз уж их собираются стричь, то, значит, по крайней мере, убьют не сразу, ясное дело, в лагере необходима гигиена». Они, конечно, не знали, что немцы набивали волосами матрасы. Нагота жертв также была нужна немцам. «Босые и голые люди больше не люди, они больше не принадлежат самим себе, – рассказывает Самюель. – Несчастный пытается прикрыться руками, ему неловко, возникает множество проблем, с которыми он не сталкивался в обычной жизни, потому что никогда ему не приходилось ходить голым в присутствии других людей, друзей – разве только в детстве. И вдруг все нагие! А немцы, понимаете, этим пользуются. А тут еще подгоняют плетями: “Быстрее! Шнель! Шнель!” В этот момент хочется бежать, куда-нибудь, что есть мочи». Так мужчин, женщин и детей гнали метров сто по дороге, которую немцы называли «аллеей вознесения» или «дорогой на небеса» до газовых камер, где их умерщвляли. Трупы мертвых затем сбрасывали во рвы неподалеку от камер.
На весь этот процесс – с момента прихода поезда и до момента, когда труппы сбрасывали в ров, – уходило не более двух часов. Большинство жертв часто до последней минуты не понимали, куда они попали и что их ждет. Прилагались все усилия, чтобы несчастных обмануть относительно их судьбы. Полустанок Треблинка был убран как настоящий вокзал, с часами и расписанием. Жертвам говорили, что они прибыли в пересыльный лагерь, где они примут душ. Высокие заборы из колючей проволоки, покрытые сосновыми ветвями, окружали весь лагерь так, чтобы никто не мог увидеть, что с ними будет в этом месте.
После уничтожения очередной партии несчастных Треблинка превращалась в сортировальную площадку. В огромном дворе с восточного края лагеря евреи из рабочей команды, такие как Самюель Вилленберг, должны были сортировать вещи, которые совсем недавно были чьим-то ценным имуществом. «Это походило на восточный базар, – рассказывает Самюель. – Раскрытые чемоданы, расстеленные простыни, на каждой простыне – различные вещи. Нам нужно было их рассортировать: брюки отдельно от рубашек, шерстяные вещи раздельно… Золото складывали в специальные сумки. Перед каждым лежало по простыне, на которую мы складывали фотографии, документы, дипломы». Самюель работал под присмотром одного садиста, эсэсовца-охранника с кукольно-невинным выражением лица, которого евреи, работавшие в лагере, прозвали «Лялька» («Кукла»). У Ляльки был сенбернар по кличке Барри, которого тот выдрессировал нападать на людей, рвать их зубами, отгрызать у мужчин гениталии по команде «Человек, куси пса!» (во время суда над «Лялькой» выяснилось, что «псами» он называл узников)1. В любую минуту пребывания Вилленберга в Треблинке, на протяжении всех семи месяцев до побега, его могли убить из-за одного только каприза беспощадного эсэсовца.
Даже спустя более полвека Самюель Вилленберг не может полностью осмыслить то, что ему довелось увидеть. «Они выходили из поезда, ни о чем не подозревая, будто приехали на курорт. Но здесь, на этом крошечном клочке земли, совершалось величайшее преступление в Европе, во всем мире. Профессор Меринг (учитель истории Самюеля, который работал вместе с ним в Треблинке) перед смертью сказал слова, которые навсегда останутся в моей памяти: “Ты знаешь, я пытаюсь смотреть на это с точки зрения истории”. “Как так?” – удивился я, посмотрев на него как на сумасшедшего».
По ночам Самюель и другие евреи, вынужденные работать в лагере, тщетно пытались понять, почему с ними случилось это: «Люди тихонько спрашивали друг друга: “За что?” Один и тот же вопрос все время – за что? почему? что мы сделали? В чем вина маленьких детей? в чем виноват я? в чем виноваты мы, каждый из нас? Ответа не было». Те же вопросы звучат и сегодня. Что побудило немцев отдать приказ о поголовном истреблении евреев? Организовать его? Ведь это происходило не только в Треблинке, но и в Освенциме, Белжеце, Собиборе и других «лагерях смерти». За всю историю человечества не было преступлений равных этому. Никто прежде не прибегал к убийству мужчин, женщин и детей в таких масштабах. И никто прежде не оправдывал эти убийства на том простом основании, что «они – евреи», или «цыгане», или «гомосексуалисты». То есть, что они – не такие, как все, что они – нежелательный элемент. Как же люди допустили саму возможность появления на Земле такого места, как Треблинка?
Ни одна причина сама по себе не является достаточной, чтобы это объяснить. И тем не менее существует ряд предпосылок, без которых не было бы принято окончательное решение о массовом истреблении евреев. В первой главе мы уже говорили о возникновении антисемитизма в Германии после Первой мировой войны и о том, как отдельные радикальные партии правого толка выступали с речами, в которых содержался призыв убивать евреев. Однако до своего вступления в должность канцлера Германии сам Гитлер никогда открыто не призывал – по крайней мере, в своих произведениях и публичных выступлениях – к уничтожению евреев. В 1930-х он ограничивался лишь призывами к лишению евреев немецкого гражданства и массовой высылке их из страны. Многих евреев это впоследствии вынудило уехать из Германии, и такой способ решения созданного нацистами еврейского вопроса существовал практически до того дня, как был отдан приказ об истреблении.
И все же за идеей «очищения» Германии от евреев стояла куда более зловещая философия. Еще 21 марта 1933 года в одной лейпцигской газете появились следующие строки: «Если пуля угодит в нашего благословенного лидера, все евреи в Германии будут немедленно поставлены к стенке, и мы устроим им такую кровавую баню, какой еще свет не видывал». По словам Арнона Тамира, антисемитизм нацистов можно описать всего несколькими простыми словами: «Всегда и во всем виноваты евреи»2.
Эта идея вины является ключевой. Даже умственно отсталые, которых нацисты презирали, никогда персонально не несли вины за свою болезнь. Но евреев обвиняли во всем: они были виноваты в поражении в Первой мировой войне и стояли за распространением страшного большевизма. И не важно, что этот анализ был просто неверным и упрекали их абсолютно незаслуженно: нацисты все равно находили возможным в это верить. В конце концов Германия действительно потерпела поражение в войне и в результате подверглась унижениям Версальского договора. Более того, нацисты обвиняли в случившемся каждого еврея, потому что, согласно нацистской пропаганде, евреи были все частью однородной массы, более преданные друг другу, чем фатерлянду. Если один еврей совершил преступление, значит, преступление совершили все евреи.
Но из этого вовсе не вытекало, что расправа с евреями была неизбежной с момента прихода нацистов к власти. Все же большую часть 1930-х годов евреи жили в гитлеровской Германии относительно мирно. После отдельных проявлений насилия по отношению к евреям в первые месяцы нацистского режима и безуспешного бойкота торговцев-евреев 1 апреля 1933 года насильственное притеснение евреев было меньшим. Безусловно, сегрегация и дискриминация никуда не исчезли, но многие евреи сумели смириться с каждодневными оскорблениями. Затем 9 ноября 1938 года наступила «Хрустальная ночь». Ужас той ночи отражен в опыте восемнадцатилетнего Руди Бамбера, который позвонил в полицию сообщить, что штурмовики крушат дом его семьи, и понял, что помощи от полиции ждать не приходится и что полиция не на его стороне. «Хрустальная ночь» является исключительно важным этапом в эскалации антисемитизма нацистов, потому что наглядно демонстрирует тот факт, что евреев сообща винили во всех преступлениях. Еврея, застрелившего немецкого дипломата в Париже, считали не отдельным преступником, а клеткой целостного организма, состоявшего из всех евреев.
Руди Бамбер пытался понять, почему штурмовики выбрали именно его семью: что они сделали не так? Но нацисты думали иначе. За преступления, совершенные отдельными представителями их народа, в ответе были все евреи. И не важно, что они могли быть незнакомы с тем евреем, могли осуждать его; один еврей – это все евреи.
Это все говорило о том, что в нацистской Германии евреи оказались в беззащитном положении. 30 января 1939 года Гитлер выступил с речью, в которой были следующие слова: «Если международные еврейские финансисты внутри и за пределами Европы еще раз преуспеют во втягивании европейских наций в мировую войну, то ее результатом будет не большевизация всего мира и победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе…» На первый взгляд эти слова звучат более чем недвусмысленно: Гитлер говорит об «уничтожении еврейской расы в Европе» – чем не открытое обещание устроить холокост в случае войны? На самом же деле эти слова не столь уж однозначны. Уже упоминалось о том, что администрация гетто в Лодзи в 1940 году не знала ничего о каком-либо планируемом истреблении, вместо этого она даже разработала систему, с помощью которой гетто функционировали как фабрики рабского труда. Другой важный ключ к тому, какой была позиция нацистов в 1940 году, мы видим в докладной записке Гиммлера (май 1940 года) «Некоторые мысли об обращении с инородцами на востоке». Предложив свести школьное образование в Польше к минимуму и забирать у родителей всех польских детей, похожих на представителей арийской расы, Гиммлер добавляет: «Каким бы трагичным и жестоким ни казался каждый отдельно взятый случай, коль скоро мы признаем большевистский метод физического искоренения народа из своих внутренних убеждений как негерманский и невозможный, то метод “золотой середины” представляется лучшей альтернативой». Таким образом, Гиммлеру весной 1940 года «физическое искоренение народа» казалось «негерманским и невозможным». Конечно, мы не можем судить о его искренности по этой докладной записке. Уже тогда он мог знать о тайных планах тотального истребления евреев, которые вынашивал Гитлер. В таком случае почему он не сказал правду в докладной записке, предназначенной лично фюреру? Гиммлер не побоялся бы показаться бесчеловечным, знай он о том, что существует план Холокоста. В своей речи в Позене (Познани) в октябре 1943 года Гиммлер, говоря об «истреблении еврейского народа», заявил следующее: «У нас есть на это моральное право. У нас есть долг перед нашим народом – уничтожить этот народ, который хотел уничтожить нас», и «…мы уничтожим эту бактерию, потому что не хотим в конечном итоге заразиться и умереть»3.
Таким образом, даже несмотря на речь, произнесенную Гитлером в 1939 году, едва ли до 1941 года у него были какие-то определенные планы по истреблению евреев. Но о его тайных намерениях мы не можем знать наверняка. Возможно, он хотел этого, но решил выждать нужный момент, когда мог бы сделать подобное безнаказанно. Гитлер всегда презирал и ненавидел евреев и просто хотел избавиться от них. А нацисты, в свою очередь, были вольны сами выбирать способ исполнить желание фюрера. Изначально, очевидной политикой была политика высылки евреев из страны. Еще до войны, сразу после аншлюса Австрии, Адольф Эйхманн руководил в Вене эсэсовским «Центральным учреждением по эмиграции евреев», которое эффективно изымало у австрийских евреев деньги за разрешение на выезд. В определенном смысле это также работало на «упразднение» еврейской расы в Австрии.
Грандиозный план по изгнанию евреев с территории Европы сложился в 1940 году во времы победной войны с Францией. На первый взгляд в этот план едва ли можно было поверить, таким невероятным он казался: взять и выслать евреев на Мадагаскар. Однако 3 июля 1940 года Франц Радемахер, начальник еврейского отдела в Министерстве иностранных дел Германии, составил следующую докладную записку: «Предстоящая победа даст Германии возможность и, на мой взгляд, даже обязанность решить еврейский вопрос в Европе. Самое желаемое решение: всех евреев – вон из Европы… По мирному договору, остров Мадагаскар должен быть передан колониальной державой Францией под управление Германии, после чего все европейские евреи будут переселены на этот остров. Франция должна переселить с острова 25 тысяч французов и выплатить им компенсацию. Остров будет передан под мандат Германии… Евреи должны будут за остров совместно заплатить. Их активы в Европе будут переданы для погашения долга в европейский банк, специально созданный для этой цели. Если этих средств окажется недостаточно для покупки земли и всего необходимого для развития острова, тот же банк ссудит евреям требуемую сумму»4. Этот нелепый план был бы логическим завершением политики изгнания, которой в то время придерживались нацисты. План «Мадагаскар» был самым претенциозным из всех: немцы хотели выслать евреев на остров у побережья Африки, присвоив себе их деньги и заставив заплатить за собственное изгнание, притом что Мадагаскар вряд ли стал бы для евреев тропическим раем. Было предложено, что организация перевозки евреев на остров будет возложена на начальника Канцелярии руководителя партии Филиппа Боулера – того самого, который предложил бесчеловечную нацистскую политику эвтаназии.
Однако план «Мадагаскар» не был осуществлен. Для его реализации немецким судам был необходим безопасный морской путь до Африки. Но поскольку шла война с Великобританией, то ни о какой безопасности не могло быть и речи. Конечно, когда Радемахер составлял свою докладную записку в июле 1940 года, то нацисты думали, что очень скоро сумеют заставить Англию просить мира. Гитлер никогда не хотел воевать с Великобританией, а потому готов был обсудить условия мира – но лишь такого, по которому Англия стала бы сателлитом Германии, как Франция при режиме Виши.
К началу 1941 года амбициозный план «Мадагаскар» так и не сдвинулся с места. Снова начались депортации поляков и евреев в Генерал-губернаторство, но не столь масштабные, как хотелось бы Грайзеру. Ганс Франк постоянно сетовал на то, что в Генерал-губернаторстве не хватает ресурсов для содержания депортированных, а потому в марте 1941 года переселение приостановили. Постоянные споры между нацистскими гауляйтерами в Польше о судьбах польских «нежелательных элементов» не прекращались.
В это время начались приготовления к вторжению на территорию Советского Союза – событию, которому предстояло стать катализатором радикальных изменений в нацистской политике относительно евреев. На этот раз существенно более важная роль отводилась айнзацгруппам.
О предполагаемом масштабе задач айнзацгрупп свидетельствуют полученные ими распоряжения от 2 июля 1941 года: «4. Экзекуции. Экзекуции подлежат все представители коминтерна (большинство из которых также являются кадровыми политиками); чиновники высшего и среднего звена и члены центрального комитета, а также обкомов и райкомов; народные комиссары; евреи – члены партии и занятые на государственной службе… Не препятствовать чисткам, инициированным антикоммунистическими или антисемитскими элементами на оккупированных территориях. Напротив, им следует оказывать всяческое тайное содействие»5. Таким образом, глава Главного управления имперской безопасности и приближенный Гиммлера Рейнхард Гейдрих, который отдал эти распоряжения, в открытую призывал казнить только «евреев – членов партии и занятых на государственной службе». Но тот факт, что чистки, в ходе которых убивали женщин и детей, предлагалось поощрять лишь тайно, демонстрирует явное противоречие в распоряжениях, если только ссылка на «евреев – членов партии и занятых на государственной службе» не указывает на минимальное количество евреев, которых предусматривалось истребить.
Посмотрим на то, как одна из айнзацгрупп выполняла поставленные задачи. Айнзацгруппа «А» находилась под командованием генерал-майора полиции и бригадефюрера СС доктора Вальтера Шталекера. Они вступили на территорию Литвы вслед за германской армией 23 июня 1941 года и довольно скоро вступили в Каунас, второй по величине город республики. Учитывая, что в 1940 году Литву насильно присоединили к Советскому Союзу (согласно секретному протоколу пакта Молотова – Риббентропа), Шталекер надеялся, что литовцев и самих можно подбить наброситься на своих врагов. Нацистский миф о том, что коммунизм и иудаизм – это практически одно и то же, также распространился и в Литве во время ее недолгого пребывания под властью коммунистов. Согласно донесению Шталекера, «задача сил безопасности – поощрять чистки и направлять их в нужное русло, чтобы поставленная цель ликвидации еврейского населения была достигнута в кратчайшие сроки»6.
Сразу после того, как немцы вошли в Каунас, шестнадцатилетняя литовка Вера Силкинайте проходила мимо гаражей, недалеко от центра города, возле которых она увидела группу мужчин, и вначале решила, что те затеяли пьяную драку. Но подойдя поближе, разглядела, что они столпились вокруг мужчины, который лежал на земле и тяжело дышал. Над ним стоял другой мужчина, с дубиной в руках. Это не была пьяная потасовка: недавно освобожденные немцами из тюрьмы литовцы избивали до смерти безоружных евреев. «Я испугалась, – вспоминает она, – растерялась, не знала, что делать, куда бежать. Не могу описать, что я чувствовала в тот момент. У меня до сих пор та картина стоит перед глазами». Случайные прохожие присоединялись к толпе, собравшейся вокруг несчастных, и криками: «Бей жидов!» подстрекали погромщиков, а один мужчина даже поднял на плечи своего ребенка, чтобы тому было лучше видно. Вера Силкинайте не могла глазам своим поверить – ребенку показывали, как совершалось жестокое убийство: «Кем вырастет этот малыш? Если, конечно, он понимал тогда, что происходит. А чего хорошего можно ждать от человека, который подстрекает убийц? У меня было такое впечатление, что он вот-вот войдет сейчас в этот гараж и тоже возьмет в руки дубину».
До нашего времени дошли отчеты некоторых немцев, которым довелось стать свидетелями таких же жестоких убийств. В одном донесении армейского офицера написано следующее: «Среди толпы я видел много женщин, они поднимали детей на плечи, ставили на стулья или ящики, чтобы тем было лучше видно. Я сначала решил, что они празднуют победу или что устроили какое-то спортивное состязание, потому что время от времени раздавались радостные крики, аплодисменты и смех. Но когда я спросил, что происходит, мне ответили, что “ковенский убийца” снова взялся за работу… Повинуясь небрежному жесту убийцы, следующий несчастный молча сделал шаг вперед, и его забили дубиной самым зверским образом…»7. Один немецкий фотограф свидетельствовал, что «после того, как целую группу людей забили насмерть, один парень отставил в сторону ломик, схватил аккордеон, забрался на гору трупов и сыграл литовский национальный гимн»8.
Увидев этот кошмар, Вера Силкинайте бросилась в часовню на кладбище неподалеку. «Мне было стыдно, – говорит она. – Добравшись до кладбища, я подумала: “Господи всемогущий, я слышала о том, что в домах выбивали стекла и всякое такое, в это можно было поверить, но в такое зверство – как можно было забивать насмерть беспомощного человека… Это переходит все границы”».
С самого начала айнзацгруппа «А» проявляла большую жестокость, чем остальные три группы. Это доподлинно известно из документации, которую вели сами же группы. Оказывается, разные айнзацгруппы трактовали приказы руководства по-разному, но даже группа «А» воздерживалась от убийства женщин и детей в первые недели оккупации.
Риве Лозанской, жительнице местечка Бутримонис, которое находится примерно посередине между Каунасом и столицей Литвы, Вильнюсом, когда пришли немцы, был двадцать один год. До войны она жила счастливо в родном местечке вместе с отцом, матерью и двумя сестрами. Они были евреями, но до войны этому никто не придавал значения, потому что все как-то ладили между собой. «Когда началась война, – вспоминает Рива, – то, хотя мы и слышали о страданиях польских евреев, но никак не могли поверить, что именно это может случиться и с нами. Разве можно арестовывать и убивать невинных людей? Папа не раз говорил, что без суда и следствия никому нельзя причинять вред». Но по мере приближения немецких войск все чаще Рива слышала от знакомых, что надо бежать. До них дошли слухи о евреях, которых немцы казнили в соседнем городе, и о том, что там все улицы «усеяны трупами». Семья Ривы собрала вещи и перебралась за десять километров на соседний хутор, где надеялась укрыться. Они все еще верили, что советские войска отступили лишь временно и вскоре выгонят немцев с территории Литвы. Скоро, однако, стало ясно, что русские не вернутся, а их семье нет смысла скрываться на хуторе. «Люди на хуторе перестали нам помогать, – рассказывает Рива, – и нам некуда больше было идти». Поэтому Лозанские вернулись в родной дом в Бутримонисе, хотя жить там было небезопасно.
В течение нескольких дней немецкой оккупации всех молодых евреев местечка собрали на площади и увезли. Остальным евреям сообщили, что молодых людей отправили на работу в соседний Алитус (Олиту). Во время первых арестов забрали и отца Ривы. Через несколько дней местные, позвав Риву и ее мать, сказали, что для них есть хорошие новости. «Эти милые люди, которых мы всю жизнь считали друзьями, пришли к нам, – рассказывает Рива, – и сказали: “Мы видели вашего отца, не плачьте!” Вайткевичюс обрадовал нас: “Вот письмо, которое мы получили от него. Мы прочтем вам его, а вы передадите ему через нас посылку”. Этот человек был другом моему отцу. Я побежала к соседям, рассказать, что все наши живы. “Не плачьте! Мой отец жив, я передам ему что-нибудь из еды и одежды, через Вайткевичюса”. А соседи просили: “Рива, у тебя такие добрые друзья. Может, мы заплатим ему, чтобы он передал посылки и для наших?” Вайткевичюс милостиво соглашался. Мы собрали передачи и отдали их все ему. И с других улиц – тоже». Но оказалось, что это было обманом, поразительным по своей бессердечности. Перед расстрелом мужчин заставили написать письма домой с просьбами прислать денег, одежду и еду. После этого полиция передала эти письма местным, чтобы те могли поживиться за счет семей убитых. К тому времени, когда соседи рассказывали Риве, что видели ее отца, тот уже был мертв.
После того как их отца забрали, Лозанские ни разу не ночевали дома. Они спали в огороде в высокой картофельной ботве или у соседей, не задерживаясь нигде более чем на одну ночь, но никогда не уходили от дома слишком далеко, возвращаясь туда днем. Потом в сентябре 1941 года по местечку поползли слухи о новой политике немцев в отношении евреев. Говорили, что немцы приказали убить всех евреев в Литве, в том числе женщин и детей. «Одна наша знакомая сказала, будто слышала, что уже вырыты ямы для трупов, – рассказывает Рива, – но мы думали, что, может, эти ямы под овощехранилище… на военное время. А та женщина бегала по гетто и кричала: “Они перебьют нас всех уже завтра, бегите!”, а люди думали, что с ними этого не произойдет и что эти ямы – для чего-то другого. Вот какими глупыми мы были… Мы представить себе не могли, что они придут за нами уже так скоро. Пожилые евреи говорили, что раз наступает какой-то праздник, то у нас есть в запасе несколько дней».
Поскольку на 9 сентября приходился церковный праздник, то многие евреи в Бутримонисе думали, что в этот день их не тронут. Однако они ошиблись: тем утром литовские полицейские при поддержке местных жителей согнали на площадь всех еврейских женщин, детей и стариков, которые еще оставались в Бутримонисе. Риву и ее мать вместе с остальными вывели колонной за местечко и погнали ко рву, вырытому на лугу среди деревьев в паре сотен метров от дороги, километрах в двух от местечка. Евреи едва тащились, ослабев от голода; многие из них были измождены, после того как долго скрывались вне дома. «Я понимала, что они убьют всех, а оставшиеся в живых позавидуют мертвым, – вспоминает Рива, – но все же надежда не оставляла меня до самого конца». Метрах в пятистах от места казни Рива увидела тропинку, ведущую в лес. Она схватила мать за руку и потащила за собой, и они спрятались в кустах. Конвоиры к тому времени совсем расслабились, потому что остальные евреи подчинялись им беспрекословно, и женщин никто не хватился. Вскоре они услышали выстрелы. «В окрестностях залаяли собаки, должно быть, испугавшись стрельбы, – рассказывает Рива. – Мама воскликнула: “Стреляют!”, но я постаралась ее успокоить, сказав, что это всего лишь собаки. Я боялась, что она сойдет с ума от ужаса».
В тот же день Альфонсас Навасинскас со своим другом Косимой шел лугом. «Мы видели, как из Бутримониса вели толпу людей, – говорит он. – Во главе колонны кто-то ехал верхом, за ним шли несколько полицейских и несколько гражданских – владелец магазина и служащие, которые выдавали продовольственные карточки. Их собрали, чтобы они вели евреев, вручили палки и какое-то чудное ружье». Навасинскас и его друг последовали за ними и услышали, как евреям приказали лечь на землю. «Поом подошли мужчины, которые должны были стрелять и приказали евреям встать». Навасинскас заметил, что на земле остались лежать изорванные в клочья банкноты. Евреи порвали свои деньги, чтобы убийцы не смогли на них нажиться. «Я выждал немного и подошел поближе, – вспоминает Навасинскас. – Я слышал, как они приказали несчастным построиться». Затем он увидел еще одну группу евреев, которых подвели к краю рва и заставили раздеться. Те выполнили приказ и стали кидать одежду знакомым, шедшим за колонной. Они не хотели, чтобы их вещи достались палачам. Позднее Навасинскас слышал, как его односельчанин хвастал, что один обреченный еврей отдал ему перед расстрелом свое пальто: «Если бы евреев не убили, у меня бы не было пальто. Надену его сегодня на танцы!» А еще он видел, как перед казнью одна еврейка бросила знакомому свою шерстяную кофту со словами: «Возьми, отдашь жене!» Пуговицы на ней были обтянуты тканью, но сделаны из царских червонцев. Новый владелец, не подозревая об истинной стоимости полученной вещи, бросил кофту в курятник. Со временем цыплята проклевали дырки в ткани, и золотые монеты заблестели. «Он уже умер, но признавался раньше мне, что его, должно быть, сам Бог благословил, послав ему эти монеты».
Навасинскас наблюдал, как возле рва расстреляли пять групп евреев, после чего пошел домой один, а друг его остался, чтобы собрать с земли разорванные деньги. «Я все оборачивался, беспокоясь, не идет ли кто-нибудь следом. Было такое жуткое чувство. Никто не заступился за евреев, все промолчали, словно эта расправа была обычным делом».
Еще одному жителю Бутримониса Юозасу Грамаускасу, видевшему расстрел евреев, был тогда двадцать один год. «Женщин, детей и стариков расстреливали прямо во рву, – рассказывает он. – Дети бросались от одного взрослого к другому, звали маму и папу. Кто-то, наоборот, звал свою маленькую дочку. И тут вышел какой-то очень толстый парень с пистолетом…Бах! Бах!.. От криков и стонов умирающих сердце разрывалось. Я до сих пор не могу забыть то, что слышал там в тот день. До сих пор не могу поверить, что это произошло на самом деле».
Расстреливали евреев литовские полицейские, выполнявшие приказы немцев. На расправе присутствовали и сами немцы, но они только наблюдали за кровавой баней. Резня продолжалась до вечера, когда разожгли костры, чтобы видеть, не шевелится ли кто во рву. «Эти звери до сих пор стоят у меня перед глазами», – рассказывает Юозас Грамаускас.
Весь ужас того страшного дня зафиксирован в отчете айнзацкоманды-3 следующим образом: «9 сентября 1941 года, Бутримонис: 67 евреев, 370 евреек, 303 еврейских детей, итого – 740». Некоторые очевидцы, однако, утверждают, что расстрелы проходили 8, а не 9 сентября, и вспоминают, что видели, как на казнь вели по меньшей мере девятьсот евреев. Но в этих диких обстоятельствах вести точные подсчеты едва ли возможно.
Трудно поверить, что люди способны были сотворить такое. Проще сказать, как это утверждают некоторые, что те, кто участвовал в этих расстрелах, – настоящие безумцы, но факты редко подтверждают такие выводы. Сохранился дневник австрийца из айнзацкоманды Феликса Ландау. По профессии он был краснодеревщиком, к нацистам примкнул в 1931-м, в двадцать один год, а в 1938 году стал сотрудником гестапо в Вене. В июне 1941 года он вошел в состав айнзацкоманды, сперва для службы в Польше. Его дневник – исключительный документ, потому что в нем переплетаются его воспоминания о беспощадных расстрелах и тоска по возлюбленной. Так, запись от 3 июля 1941 года гласит: «У меня нет склонности убивать беззащитных людей, пусть даже и евреев. Лучше бы сойтись в честном бою с врагом. А пока спокойной ночи, зайка моя»9. Два дня спустя он пишет о расстреле участников польского сопротивления: «Один из них оказался необычайно живучим. Мы уже забросали первую группу тонким слоем песка, как вдруг из-под него высунулась рука, которая стала показывать на что-то, – должно быть, на его сердце. Прогремело еще несколько выстрелов, и кто-то – наверно, тот же поляк – крикнул: “Стреляйте скорее!” Что же такое человек?» В следующем абзаце он пишет: «Кажется, сегодня нам впервые за долгое время удастся поесть чего-нибудь горячего. Нам выдали по десять рейхсмарок, чтобы купить все самое необходимое. За две рейхсмарки я купил себе кнут»10.
Двенадцатого июля 1941 года он записывает следующее: «Разве не странно: ты любишь сражаться, а приходится убивать безоружных людей. Сегодня пришлось расстрелять двадцать три…Их разделили на три захода, потому как не хватает лопат. Удивительно, но меня это совершенно перестало трогать. Я не чувствую жалости, вообще ничего не чувствую. И так день за днем»11.
Из дневника Феликса Ландау мы видим, что угрызения совести ему чужды. Он низкий эгоист, но не безумец.
Благодаря таким дневникам мы можем увидеть события ушедших лет глазами их современников. Однако они не заменят дополнительной способности проникнуть в суть происходившего с помощью непосредственного общения с участниками событий, и поэтому мы пытались найти кого-нибудь из членов расстрельной команды, действовавшей тогда в Литве. В конце концов нам удалось найти одного литовского полицейского, который принимал участие в расстрелах евреев вместе с немцами из айнзацкоманды и который отбыл за свои преступления двадцатилетний срок в Сибири. Петрас Зеленка родился в 1917 году в крестьянской семье. На фоне других крестьян округи его семья жила более зажиточно: родители держали небольшое хозяйство с двумя коровами. Во время советской оккупации до него доходили слухи о том, что «в застенках НКВД людей пытают главным образом евреи. Они, дескать, приставляют неугодным шурупы к голове и стискивают их, пытая, таким образом, учителей и профессоров». По его словам, он пошел служить в литовскую армию «из любви к Литве, потому что чувствовал себя настоящим ее гражданином… Меня всего привлекало военное дело, я всей душой хотел послужить на благо Родины».
Петрас Зеленка стал свидетелем массовых расстрелов евреев в Седьмом форте в Каунасе в первые дни немецкой оккупации, когда айнзацгруппы расстреливали преимущественно мужчин. Как охранник, он патрулировал на валах, а потому видел, как евреев делили на группы по пятнадцать человек и потом расстреливали на краю рва, вырытого на территории форта. Каждый штабель трупов забрасывали землей, затем следующий – все повторялось, пока рядом с этой братской могилой не оставалось больше ни одного еврея. Он вспоминает, что люди шли на смерть, почти не оказывая сопротивления, как «бараны на убой».
С августа 1941 года нацисты начали убивать женщин и детей, живших в деревнях неподалеку, и Зеленка сам стал участвовать в расстрелах. Мы спросили его: «Когда вы впервые выстрелили в безоружного человека?» – он даже немного растерялся: «Где же это было… Может, в Бабтае? Нет, должно быть, возле Ионишкиса, где-то там… Мне приказали увести их. Забрать их из гетто и отвести куда-то». Как подтверждают его показания, данные советских властей после окончания войны, Зеленка участвовал в таком огромном числе массовых расстрелов, что даже не может припомнить, когда впервые убил человека.
Описывая свой обычный распорядок дня, он рассказал, что солдатам его батальона часто после завтрака просто давали команду «Выступаем!», сажали на грузовики и везли в неизвестном направлении. На душе у него было «неспокойно»: «Иногда я думал, что придется стрелять и в невинных людей» (его понимание невинности было нечеловеческим, так как исключало всех евреев, даже женщин и детей).
Добравшись до нужного места, они выгоняли евреев из домов и вели их к заранее подготовленному месту расстрела. Немцы отбирали у несчастных золото, драгоценности и часы, затем приказывали лечь на землю, пересчитывали и отправляли часть группы ко рву, где их ждала смерть. Батальон Зеленки сопровождал специальный отряд вермахта. «Без немцев мы не могли бы это делать, только у них были пулеметы. Мы же должны были только расстреливать».
Прямо во время расстрелов палачам разрешали пить водку. «Так мы чувствовали себя смелее, – признается Зеленка, – пьяному и море по колено». Иногда после казни немцы благодарили литовцев за помощь. Давая показания после войны, Зеленка рассказывал, чем занимался со своими товарищами после того, как они расстреляли в Вилькии пятьсот человек: «Закончив, мы пошли обедать в один ресторанчик в Кракесе, выпили». Только что совершенная резня нисколько не испортила им аппетит.
Все палачи были добровольцами. Нет подтверждений, что кого-то расстреляли или заключили в тюрьму за то, что он отказался участвовать в расстреле. Это реальность, которую Зеленка отказывается признавать и сейчас.
«Вы ведь могли отказаться», – говорим ему мы.
«Хочешь – стреляешь, не хочешь – не стреляешь, – отвечает он. – Просто спускаешь курок – и готово. Невелико дело».
«А вы не думали отказаться от участия в расстрелах?»
«Сложно это объяснить сегодня, стрелять – не стрелять… Не знаю даже. Остальные делали это хотя бы потому, что искренне ненавидели евреев… Евреи думают только про себя, так что…»
Мы спросили его о расстрелах женщин и детей: «Скажем, перед вами стоит еврей – не мужчина, а женщина или ребенок. Ребенок ведь никак не может быть коммунистом, а вы все равно лишаете его жизни. В чем его вина?»
«Это – трагедия, большая трагедия, потому что… Как бы мне объяснить… Должно быть, это было просто любопытство – спускаешь курок, стреляешь. Есть поговорка: “Молодость – глупость”». Позднее, говоря об убийстве детей, он заметил: «Некоторые обречены – вот и все».
Мы напрасно пытались вызвать в человеке, участвовавшем в массовых убийствах, хоть какие-то эмоции. «Кого вы убили первым? Вы помните этого человека?» – спрашивали мы.
«Нет, не могу припомнить ничего определенного, – отвечал он. – Мы убивали только евреев, от наших рук не пострадал ни один местный литовец. Только евреи».
«Но ведь среди них тоже были мужчины, женщины, дети…»
«Что сказать – это мог быть кто угодно. Спустя столько лет тяжело помнить все, что происходило в те далекие времена».
Я попросил нашего переводчика жестко поставить перед этим осужденным убийцей вопрос об очевидном у него отсутствии раскаяния. Неужели он совсем не чувствует стыда? Из его ответа нам стало все ясно, как и то, что продолжать этот разговор нет смысла.
«Мой коллега, англичанин, попросил перевести для вас такой вопрос: англичане, посмотрев этот фильм, едва ли смогут понять – как так, что кто-то, солдат, раньше расстрелял сотни людей и не чувствует при этом вины».
«Они могут обвинять меня, если хотят. Я двадцать лет отсидел за это. Коротко и ясно. Я был виноват, и я провел двадцать лет… на каторжных работах».
«Но это был официальный приговор. А совесть вас не мучит?»
«Не знаю. Не хочу отвечать на такие вопросы… Я не стану больше оправдываться и объяснять вам что-либо».
Так наше интервью подошло к концу.
Встречу с Зеленкой можно считать из ряда вон выходящей. Редко удается найти того, кто готов в открытую признать, что совершал во время войны ужасающие преступления, пусть даже он и отбыл в наказание долгий срок на каторжных работах и ему больше не грозит судебное преследование. И все же вот перед нами сидит человек, убивавший вместе с айнзацгруппой, который не пытается ни скрыть этот факт, ни гордиться им. Он сидит и рассказывает о том, что принимал участие в массовых расстрелах, спокойно, без эмоций.
Когда читаешь документы, связанные с массовыми казнями, проводившимися карателями из айнзацгрупп, то всегда существует соблазн считать, что люди, которые творили такие зверства, не были, вообще говоря, людьми. Возможно, они были все вместе безумны. Однако Петрас Зеленка производит впечатление человека в здравом уме. Если вы встретите его на улице и познакомитесь с ним, то не заметите в нем ничего необычного. И все же он хладнокровно убивал, стоя в шаге от жертвы. Сегодня, когда серийные убийцы, о которых мы читаем в прессе, бульварными газетами подаются как безумные чудовища, очень важно встретиться воочию с человеком, подобным Петрасу Зеленке, который убивал людей куда больше, чем любой убийца из газеты. Он сидел при этом перед нами таким же сдержанным и нормальным, как любой пожилой человек.
Зеленка участвовал во многих убийствах в Литве, однако отрицает, что когда-нибудь бывал в Бутримонисе. Но даже если не он сам, то это такие же, как он, из литовской армии расстреливали соседей-евреев Ривы Лозанской, которой в последний момент едва удалось сбежать.
После расстрелов в Бутримонисе Рива стала испытывать отвращение к односельчанам, наживавшимся на исчезновении евреев. Она вспоминает, что, как только ее и других евреев увели на казнь, многие из местных жителей бросились грабить их дома. «Даже жены двух священников едва не подрались друг с другом из-за вещей», – рассказывает она. Также Рива узнала, что одна женщина из местных помогала раздевать евреев перед расстрелом, чтобы забрать себе их одежду. «Белье, как ее об этом ни просили, не разрешила оставить. Не дала пропасть добру… – рассказывает Рива. – Когда пришли русские, ее дети надевали в кино ту самую одежду, иногда даже вещи раввина».
Все время немецкой оккупации Рива и ее мать жили в постоянном страхе, что кто-нибудь донесет на них. «Многие тогда доносили властям о тех счастливчиках, которым удалось сбежать, – рассказывает она. – Даже те, кто всегда по-доброму относился к таким, как мы. Один еврей пришел как-то к своим знакомым, русским, надеясь, что они позволят ему пожить у них некоторое время. Сначала его даже накормили, но затем пришли полицейские и отвели его на казнь вместе с остальными. В то время так делали все, потому что хотели нажиться на смерти евреев – ведь все считали, что у них полно золота… И откуда только взялись эти слухи о несметных богатствах? Евреям ведь точно так же не хватало еды, не было даже картошки».
Рива Лозанская всю свою жизнь искала ответ на вопрос, который терзал в свое время и Самюеля Вилленберга в Треблинке: за что? «Прошло уже пятьдесят лет, а я до сих пор не понимаю, как люди могли сотворить такое. Я всегда верила в то, что все люди – разумны, я любила и уважала людей. Но после того, что я видела… То, что делали немцы, не поддается никаким разумным объяснениям. Они ведь представители развитой культурной нации, у них такая прекрасная литература – Гете, Шиллер, Гейне…» Даже несмотря на то, что евреев Бутримониса расстреляли литовские солдаты, она больше винит в этом немцев. «Именно они – причина всех наших несчастий. Литовцы никого из наших не убили до прихода немцев».
Бесчисленные убийства, организованные нацистами в первые месяцы оккупации Литвы, были зарегистрированы в так называемом «Отчете Егера». Согласно этому отчету, с середины августа 1941 года число убитых евреев, особенно женщин и детей, резко возрастает. До 15 августа дети ни разу не упоминались среди жертв казней, но к концу августа в списке убитых значатся уже тысячи несовершеннолетних (только в Расейнском районе в период с 18 по 22 августа было убито 1609 еврейских детей)12.
Август 1941-го стал поворотным моментом в истории массового истребления евреев. Конечно, женщины и дети и раньше гибли в гетто от болезней и голода, но это было иное. С этого времени они превратились в конкретную цель хладнокровных массовых убийств.
На эти изменения повлияли многие факторы. Для нацистов решающую роль сыграла чисто «практическая» причина: после истребления евреев-мужчин возникла необходимость кормить этих, так называемых, «нахлебников» С точки зрения нацистов, было невообразимо содержать этих людей за счет германской армии.
Идеологические факторы также имели место в принятии этого решения. В июле Гитлер объявил, что хочет создать для немцев «рай земной» на Востоке, и, подразумевалось, что в этом новом нацистском рае нет места евреям. (Не случайно убивать всех евреев, включая женщин и детей, Гиммлер приказал после нескольких июльских секретных встреч с Гитлером с глазу на глаз; без одобрения фюрера подобное решение было бы невозможно.)
Нельзя, однако, делать вывод, что именно тогда и была принята вся программа нацистского «окончательного решения еврейского вопроса», охватывающая миллионы евреев Европы. Возможно, один документ действительно предполагает связь между двумя этими событиями, но он не настолько является решающим, как кажется на первый взгляд.
Тридцать первого июля Гейдрих получил за подписью Геринга документ следующего содержания: «Согласно предписанию от 24 июля 1939 года Вам поручено осуществить наиболее выгодный в настоящее время вариант решения еврейского вопроса в форме эмиграции или эвакуации. В дополнение к этому я передаю Вам полномочия провести все необходимые приготовления для организации экономического и материального обеспечения окончательного решения еврейского вопроса в Европе на территориях, подконтрольных Германии». В контексте этого документа особенно важна дата: Геринг наделил Гейдриха соответствующими полномочиями в этом вопросе, как раз перед тем, как нацисты стали убивать на Востоке еврейских женщин и детей.
Тем не менее недавняя находка в Московском спецархиве заставляет усомниться в особом значении постановления от 31 июля. В этом документе содержится записка Гейдриха от 26 марта 1941 года, которая гласит следующее: «По еврейскому вопросу я кратко докладывал рейхсмаршалу [Герингу] и представил ему мой новый проект его решения, который Геринг одобрил с одной лишь поправкой касательно сферы полномочий Розенберга и приказал подать его вновь с внесенными изменениями»13. Новый проект Гейдриха, очевидно, был реакцией на изменения в нацистской антисемитской политике, вызванной предстоящим нападением на Советский Союз. От идеи переселения евреев в Африку отказывались, поскольку в начале 1941 года Гитлер предложил Гейдриху разработать новый план депортации евреев на территории, контролируемые Германией. Поскольку нацисты рассчитывали, что война с СССР завершится через несколько недель, еще до наступления зимы, то было бы разумным, должно быть, полагали Гейдрих и Гитлер, планировать на осень в рамках внутреннего решения еврейского вопроса, созданного ими же, депортацию евреев на Восток. На безлюдных территориях востока России евреев ждали бы серьезные мучения.
Из предписания Геринга от 31 июля понятно, что еще в начале 1939 года Гейдриху поручили разработать план окончательного решения еврейского вопроса в форме эмиграции или эвакуации, так что обсуждение сферы его полномочий и пространства для маневра в рамках нацистского государства по этому вопросу, похоже, шло уже с той поры. Альфред Розенберг, упоминавшийся в записке от 26 марта, назначенный официально Гитлером 17 июля 1941 года рейхсминистром восточных оккупированных территорий, представлял потенциальную угрозу для власти Гейдриха на Востоке, и предписания от 31 июля вполне могли быть составлены для того, чтобы помочь Гейдриху уяснить свои собственные должностные обязанности.
Поэтому, принимая все во внимание, этот новый документ не поддерживает прежде преобладающую точку зрения, что существовало уже некое конечное решение, принятое Гитлером весной или летом 1941 года, о приказе истребления всех евреев Европы, важной частью которого является предписание от 31 июля. Однако более вероятным сценарием развертывания событий является то, что правящая верхушка нацистской партии сосредоточила тогда все свое внимание на войне с Советским Союзом, и решение об уничтожении женщин и детей на Востоке рассматривалось как практический способ решения безотлагательной и конкретной проблемы.
Прежде всего эти массовые убийства практически тогда не коснулись евреев, проживавших на территории Западной Европы и Германского рейха. Нацисты по-прежнему планировали, что, как только закончится война, которая, по оптимистичным подсчетам Гитлера, Гиммлера и Гейдриха, должна была завершиться осенью 1941 года, «переселят» евреев на Восток. Дальнейшая же судьба тех евреев, которые «после войны» будут туда переселены, оставалась неясной: ведь там еще не было нацистских «лагерей смерти», готовых их принять. Скорее всего, евреев собирались отправить в трудовые лагеря, расположенные в районах оккупированных российских территорий с самым суровым климатом. Однако и там геноцид все же имел бы место, хотя и приобрел бы более оттянутый и длительный характер, нежели предстоящее быстрое массовое истребление в газовых камерах в Польше.