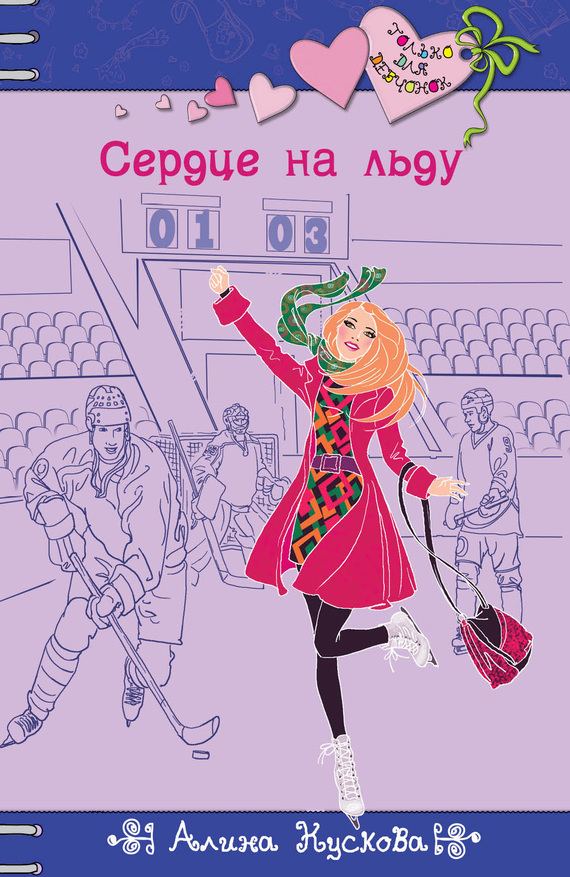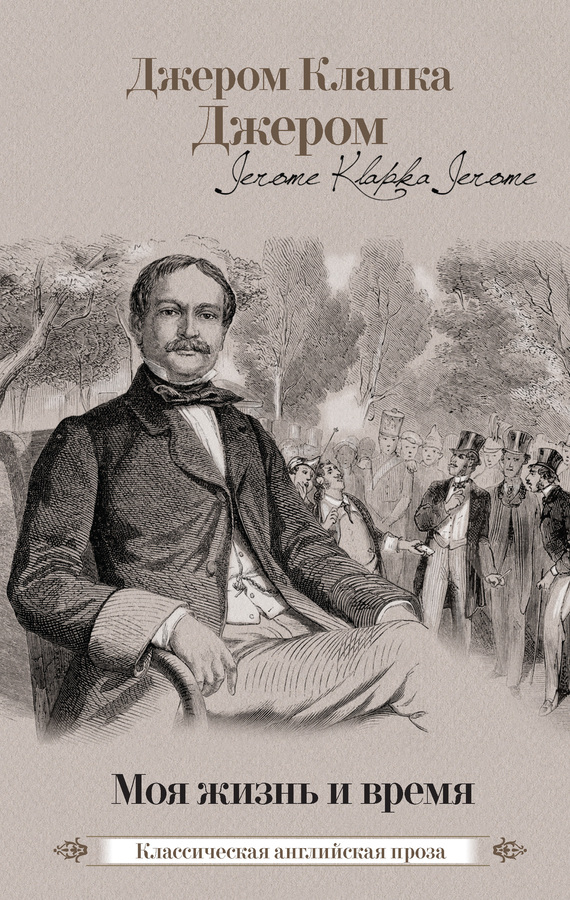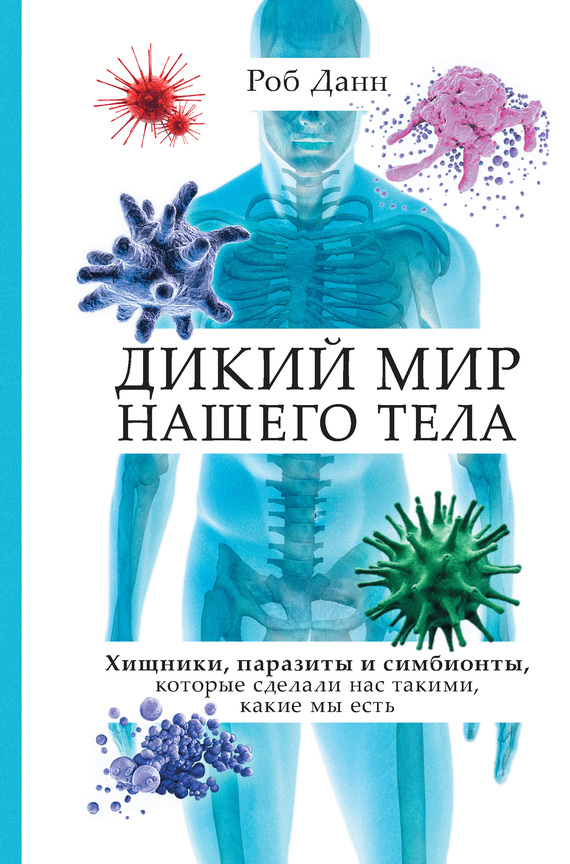Арабески Покровский Александр

Господи, договорились! Был бы у меня на голове колпак, сбросил бы его, был бы парик – запустил бы его в потолок. Ура! Мы договорились с Каракасом! Вы не знаете, кто такой Каракас? Этого никто не знает, но договорились. Вот только бонус зачем было платить?
В один миллиард?
А Пасху они встретили в храме Христа Спасителя. Неужели это поможет избежать мук ада?
Все это трещины бытия. Все, что вокруг нас, – это эти самые трещины. В них можно легко заглянуть и удивиться их сложному внутреннему устройству, не всегда доступному незамысловатому разуму.
Как раз такому разуму, как мой, например.
Перед нашим домом на улице Рыбацкой, что в городе славном Санкт-Петербурге, лежат рельсы. Давно лежат. Когда-то мимо дома шел трамвай, а потом его отменили, кое-где рельсы сняли, закатали, заасфальтировали. Но перед моим домом оставили. Мало того, тут между рельсами асфальт выкрошился и обнаружились огромные ямы, проемы, так сейчас все это дело ремонтируется. Вы думаете, что начали снимать наконец сами рельсы? Нет. Ремонтируется как раз дорожное полотно между рельсами. Аккуратно, чтоб не повредить бывшие трамвайные пути, срезали асфальт и теперь кладут новый и закатывают.
Вам все это кажется абсурдом, несуразицей, глупостью?
Все это жизнь, ребята. Мы с вами так живем. Грязь и толстый слой пыли после зимы, липкие окна и кашель с мокротой называется культурной столицей, а рельсы, видимо, реставрацией, возвращением первоначального облика.
Тут у нас все слова обозначают совсем не то, что должны. Тут у нас каша, мешанина из слов, значение которых если и прописано в словарях русского языка, в действительности несет совершенно иную смысловую нагрузку.
Мы скоро рухнем от этой нагрузки. Мы не выдержим, ляжем в колею, как утомившийся вол, а над нами будут витать, летать и образовывать рой потерявшие свой смысл слова.
Коррупция – господи, что это?
Мздоимство, кормление, кумовство, протекционизм, казнокрадство – вот только малая толика слов, потерявших свое начальное значение.
Искажение – вот наша реальность. Искажение всего и во всем.
Теперь нет сознания, потому что сознание – это вместе «со знанием», а как ты можешь быть с ним заодно, если пользуешься словами, утратившими смысл? Сознание говорит с человеком словами. Слова – это разум.
Так что наш удел – это абсурд, неразумное.
Но неразумным оно кажется только на первый взгляд.
Вы загляните в трещины – там вы найдете удивительное внутреннее устройство.По данным ООН мужчины в России сегодня живут в среднем 60 лет, женщины – 73.
Если брать обычное среднее арифметическое из этих двух цифр, то получается 66,5 года.
Видимо, наше руководство берет не совсем обычное среднее арифметическое, а какое-то другое, но среднее, вот поэтому у него и получается, что в 2009 году эта цифра приблизилась к 68 годам. Есть и более смелые расчеты – почти 69 лет.
На этом простом основании господин Дворкович посчитал, что и пенсионный возраст можно сдвинуть – всем понятно куда.
А тут еще и среднее образование хотят сделать платным.
А медицинское обслуживание в России давно уже платное. Оно платное не по закону, а по факту.
А что же у нас с детским и дошкольным воспитанием? Оно у нас давно платное. И плата за него разная. В зависимости от региона.
А рождение? Как у нас с рождением? Оно у нас бесплатное?
Кое-где. Кое-где и кое-как – остальное платное.
То есть рождение, детские сады, медицина, школа, университет – все это в России платное, а бесплатное только «кое-где» и «кое-как».
Любые услуги – цены завышены, иногда в несколько раз.
А пенсии хотят отодвинуть.
А вот призыв в армию – это бесплатно, это долг, причем священный.
То есть все, что должно тебе государство, – это за деньги, и за все это ты еще и должен по жизни в виде долга и вовсе священного.
Это все очень интересно.
То есть нет никаких механизмов, скрепляющих нацию.
То есть смена этого правительства, скажем так, на иноземное, это всего лишь смена одних менеджеров, слабоэффективных и вороватых, на других.ТУ-154 президента Польши упал, не долетев километра до взлетно-посадочной полосы аэропорта Смоленска. Теперь говорят, что и аэропорт – так себе, и полоса – так себе, не говоря уже о деревьях – главных виновниках трагедии. Погибли люди.
Уже говорят о мистике. Мол, Катынь не насытилась, забирает. И все такое прочее.
Но, ребята, при чем же здесь небесный диспетчер, если их и на земле полным-полно.
Ведь он же заходил на посадку четыре раза, и всякий раз ему говорили, что садиться опасно, что туман, что видимость почти нулевая, что лучше бы в Минске сесть.
Конечно, за все на борту самолета, парохода и даже звездолета отвечает командир.
Именно он принимает решение, и никто не в праве ему противоречить.
Расскажу для примера одну историю. Везли как-то летчики одного нашего очень уважаемого маршала. Время было послевоенное, и маршал был боевой, только что с войны. Но и летчики были боевые, ему под стать.
И вот летели они, летели и прилетели, и пришло время садиться на один наш очень секретный северный аэродром. А на аэродроме ветер – чуть ли не ураган. И принимает решение командир садиться не на этом аэродроме, а чуть ли не в ста километрах от него, на другом аэродроме – там и погода ничего, и природа.
Но вот только маршала это все не устраивает, и приказывает он летчикам садиться на то, что имеется. Мне понравилась та тирада, которой тут же разродился командир в ответ на маршальское приказание. Если ее основательно почистить от мата и всячески пригладить и литературно причесать, то выглядеть она будет примерно так: «Я у вас в кабинете, товарищ маршал, не командую, и поэтому попрошу не командовать в моем кабинете. Я тут отвечаю и за маму, и за папу, и за Отца Небесного, и за душу, и за мать! И за вашу драгоценную жизнь я тоже отвечаю! И поэтому попрошу вас убедительно сесть, пристегнуться, чем бог послал, и не маячить у меня за ушами! Иначе вас пристегнут принудительно! И садиться мы будем там, где я решу! А эту встречу, вашу мать, с Всевышним я на сегодня отменяю! А снимать меня с должности вы будете на земле, а не в воздухе! Я понятно изъясняюсь?»
После этого оторопевший маршал повернулся и сел, а после того как командир на него еще раз свирепо зыркнул, маршал немедленно пристегнулся.
И посадил командир самолет на запасном аэродроме, и пришлось маршалу в ту ночь еще сто километров по нашим северным дорогам трястись, пока он до места добрался.
К чести маршала надо сказать, что летчикам тем ничегошеньки не было. Мало того, после приземления маршал подошел к командиру и сказал ему: «Прошу меня простить!» – на что командир ему ответил: «С кем не бывает, товарищ маршал!»А вот в небе над Смоленском, скорее всего, не посмел командир корабля президенту противоречить.
А жаль.
Все бы сейчас были живы.
Умных не хранит небо. Небо хранит недоносков. Сколько раз наблюдал: как только дурак, хлыщ и ветрогон, – так сразу же госпожа Фортуна и отворяет перед ним все имеемые двери.
А все потому, что его желания находятся в пределах планеты и хранимы ее магнитосферой. И не страшны им солнечные ветры.
Умный может расширить свой разум до размеров Вселенной, потому и опасен.
Кстати, среди тех, кто думает только о своей утробе, немало чиновников. Так что им ничего не грозит.У меня все закипело внутри – в городе на Неве начали поливать улицы. Устройство и назначение наших поливочных машин поставило бы в тупик все внеземные цивилизации разом. Представьте себе: идет человек по тротуару, и тут вдруг мимо него с визгом проносится машина, а из нее вбок бьет струя.
Когда та струя достигает человека, она уже состоит из песка, грязи, воды и пара.
В городе на Неве пыль, как в Сахаре. О чем это говорит? О том, что у нас цивилизация Сахары. Пустынная цивилизация – бедуины, рот надо прикрывать платком, и мужчины и женщины должны быть закутаны с головы до ног в большие синие шали.
Птицы. Всё птицы. На великих развалинах. Могут только сидеть, а вниз с них будет непрерывно стекать гумус.
Скоро в культурной столице откроется книжная выставка. Книги никому не нужны. Под обложкой может ничего не быть. Продается только обертка. Обертка – главное достижение человечества, а профанация – это непочтительное отношение к достойному.
Позвонил знакомый и заговорил о патриотизме. В который раз говорю, что есть во всем этом, на мой взгляд, лингвистическая ошибка. Патрио – это же не мать. Это отец, Отечество. Сын воспитывается отцом. Так, во всяком случае, следует из этого слова.
Отец сначала охраняет и оберегает, а потом уже он вправе рассчитывать на сыновний долг. Вечный вопрос о яйце. Кто кому должен. Мне кажется, яйцо никому и ничего не должно. Вот ему все должны, а уж вылупится из него или не вылупится и что из него вылупится – это от степени заботы.
Я сказал знакомому, что из российских яиц ничего не вылупится. Хоть замораживай их, хоть насиживай всем стадом.
Клянусь копытами осла, вот это канонада! Она бы разнесла в прах всю Вселенную, если бы нам ее открыть, – тут я все еще про канонаду Но увы! Все эти взрывы, разрывы, опрокидывающиеся повозки, лошади ржущие, запутавшиеся в стременах, куски тел и катящиеся сами по себе оторванные головы – все это происходит внутри только одного человека – нашего премьера, когда он говорит с неразумными учеными.
Они даже про лен не могут ему правильно все рассказать, а ведь так хорошо все начиналось: ему незапланированный вопрос, а он на него незапланированный ответ.
То есть живенько так все и должно было происходить – а вот не вышло, не вышло!
Уродливо все как-то. И вопросы уродливые, и лица, и тела, и разговоры, и титулы, и звания.
И лен этот долбанутый – урод!Плачевно! Даже если собрать вместе все-все отрицательные величины, из них никогда не сложится ни одной положительной величины. О чем это я? Это я о процессе формирования партии. «Зачатый на склоне дней твоего отца…» – я хотел бы так начать свою вступительную речь на съезде этой самой партии, но меня туда не пригласили, так что пропала и сама речь, и ее начало.
Хотя кто его знает! А вдруг! Сижу себе спокойненько, а тут вдруг как пригласят.
А начало мне все-таки очень нравится: «Зачатый на склоне лет…».
О чем я пишу? Я пишу о мусоре, я его певец. Я пишу о том, что меня окружает. Всякий настоящий певец поступает точно так же. А меня окружает мусор, значит, о нем наша песня. «Когда б вы знали, из какого сора…» – написала как-то Ахматова, и теперь многие помнят ее именно за эти строчки. Мусор лежит, мусор реет, мусор правит.
И слова – не слова, и законы – не законы.
И мысли, и чувства.
И милиционера тут называет «мусором» одна сто сороковая часть населения, и не только она. Сидит она, эта часть. В тюрьме. Потому и называет. А что такое тюрьма, как не прах и не тлен?
Подумайте только: в тюрьме сидит одна сто сороковая.
И такая же часть только готовится туда сесть и сменить ту, что сидит. Вот такая ротация.
А почему? А потому что они лишние – слизь, нечистота.
Тут много лишних – это очень богатая страна. Чем богаче страна, тем больше в ней лишних. На всех не хватает.
А те, на кого хватает, держат свои денежки в другой стране. Но им всегда могут там сказать: «А ведь у нас лежат ваши денежки!» – и они все сделают для их сохранения.
Все! Они огорчатся, очень. Что может сравниться с этим огорчением? Ведь их замыслы раскрыли, им не сокрыться, они все на виду, и в любой момент могут прийти и отнять.
Так что они предадут страну, где так много всякого сора.
Так что стране не вырваться – он будет летать, лежать, править.
Сюда можно привезти и чужой мусор – положим, радиоактивный.
Мне скажут, что его тут перерабатывают, но вы видели когда-нибудь, чтоб здесь перерабатывали мусор? Его просто сваливают, как грех. Это грех, свальный грех. Его сваливают, разбавляют, спускают – под землю, под воду, в реки, в озера, в горы, моря, в небеса.
На мусорных кучах дерутся до крови, дерутся до смерти. Тут часто дерутся, бьются, с мечом или без меча.
«На обслуживание трубы нужно тридцать миллионов» – вот она, главная национальная идея. Ее долго искали, а она всегда была рядом. С ней ходили, бродили, думали, решали.
А она из сердца. Идея для нации.
Ее оттуда надо только достать.Несомненно, сэр! Несомненно! Все мы жаждем спасти нашу бедную душу и убежать от всех обольстителей сразу. Потому-то мы и бросаемся в музыку. Волнуй, взрывай, гони – это я музыке – при могучем ударе смычка твоего – это я все еще музыке – смятенная душа грабителя на миг почувствует угрызения совести, а бесстыдство и наглость невольно выронят слезу перед созданием таланта.
Вы, несомненно, знаете, где у нас сегодня ночует бесстыдство и, что особенно, наглость.
Только не надо слушать седьмую симфонию Шостаковича. От нее возникает желание стрелять.
Президент будет бороться с коррупцией – вот ведь незадача какая.
Лучше послушаем сказку. У Змея Горыныча было три головы. И вот однажды сошел Змей Горыныч с ума, и начали его головы бороться друг с другом. Откусили одну, откусили другую. И осталась одна голова. Но и с одной головой Горыныч остался Горынычем.
Правда, тронутым.
Все пустое в сравнении с тем огорчением, что Россия никуда не движется.
А мы-то думали, а мы-то полагали…
Мы полагали, что если начальство и воскликнуло как-то невзначай: «Россия, вперед!» – то это как в повозке с лошадью, стоит только гаркнуть, а уж лошадь-то потянет. Можно еще добавить: «Вперед, родимая!» или «Пошла, хорошая!» и «Но! Но, старая кляча!».
Если она в ближайшее время так и не двинется с места, то в ход пойдут дубинки.
Всем правят жизненные духи. Это они пробудили в Исландии вулкан Эйяфьядлайокудль, и он плюнул в небо пеплом, который и помешал нашему бесстрашному премьеру полететь сегодня в Мурманск на рыбное совещание. Пепел затрудняет работу памяти.
Фантазии и живость ума были все рассеяны, приведены в замешательство и недоумение, расстроены, разогнаны и посланы к черту.
А президента удивили пробки в Буэнос-Айресе. Знаете ли, очень.
И стоял он там, в пробке, как и обычные, нормальные люди.
Несмотря на все предосторожности, теория его самым жалким образом была опрокинута вверх дном, и жизнь грубо выдернула плод из чрева матери – вот таким поэтическим образом можно было бы описать итоги этого визита.
Пора, пора положить конец следованию несчастному. Следованию несчастному образу жизни. Пора зажить жизнью счастливой и удачливой. А для этого всего лишь и надо поехать и удивиться чужой расторопности.
Чужая расторопность, как и собственная неуклюжесть, видна на сборищах, встречах и саммитах.
Силы моего воображения, как и мощности телесные, быстренько пошли на убыль, когда я узнал, что мы отдали Китаю более чем девятьсот шестьдесят гектаров земли вдоль реки Амур.
Никто нас особенно об этом не просил, но мы отдали.
И если раньше граница шла вроде как посередине этой великой реки, то теперь там, где у нас имеется, например, такой бывший русский остров, как Даманский, граница проходит тоже посередине, но уже считай от берега этого острова. То есть когда-то мы имели половину реки, а теперь нам остается только четверть.
Да, вот еще что: поскольку русло Амура гуляет, а граница устанавливается именно по нему, то всегда можно подогнать с той стороны кучу бульдозеров, и они одним разом сдвинут берег. То есть Амур теперь может гулять только в нашу сторону.
А еще приезжал чиновник к хабаровчанам, у которых очень сильно вдруг закипело внутри, и убеждал их в том, что все-все сделано хорошо и правильно и что эти земли «исконно китайские». А теперь мы приведем слова песни тех незабываемых времен, шестидесятипятилетие которых мы скоро будем с большой помпой праздновать: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».
Кстати о вершках.
Тут Япония насчет Курильской гряды постоянно суетится, и на очередной встрече в верхах вопрос о статусе Курил с японской стороны в очередной раз был поднят.
Так что отдадут, я полагаю, и эти вершки.
Во всяком случае, российское население с островов потихоньку убирается.
Нашими.
И тут самое время вспомнить справедливо отмеченных нашими руководителями молодых, неугомонных патриотов, амбициозных, ярких и прекрасных, дивных, чудных и талантливых, которые по-настоящему лю-юю-бят свою родину.
Что-то по поводу отданной китайцам земли я от них ничего неприличного не слышал.
Думаю, что и передача Курильских островов пройдет просто на ура.
Что же касается всяких там писателей, размышляющих о родине с маленькой буквы, то, как говорили когда-то безграмотные, но неунывающие хунвейбины, «им несдобровать!».Всюду наблюдается всеобщее устремление к чудесной науке.
Аллюром, аллюром с курбетом, бойким галопом, скорым скоком – все вскочили и понеслись. К науке, к ней.
Она, она наш единственный спаситель, она наш утешитель, созидатель – так и пустились в путь с самыми лучшими намерениями даже самые захудалые ослы.
А наши руководители выучили некоторые слова. Кое-что у них было и от природы, конечно, потом от улицы, от места обитания, но остальное – это уже от ума.
Так и блещут им в толпе собственных почитателей, а также всех прочих примкнувших поэтов, живописцев, скрипачей, певцов, танцоров, биографов, врачей, психологов, гадалок, логиков, законоведов, актеров, богословов, попов и проходимцев.А вообще-то, все должны быть на своих полочках – поэты на поэтической, а плясуны на дансической. И хорошо бы, чтоб полочки эти были огорожены со всех сторон барьерами на манер ящичков. А ящички надо бы вставить в шкаф. Выдвинул – а вот тебе и поэты, задвинул и взялся за плясунов и предсказателей.
Все должны появляться в свое время. Вот это и называется государственным устройством.
По мере оскудения дарования, отпущенного мне создателем, все сильнее ощущаю отвращение к предметам настоящего искусства. Под настоящим искусством мы, разумеется, понимаем кино. В нашем кино остались только некоторые фамилии, утомленные солнцем несколько раз. Не знаю почему, но все время тянет сказать слово б…ядь!
Есть разные способы подкупать соседние государства. Например, можно начать войну.
Но сначала, наверное, надо использовать все-таки наличные. Так говорили классики нерусской литературы.
Когда я услышал о том, что мы поможем Киргизии деньгами, то почему-то сразу же вспомнил про подкуп, а когда услышал запоздалое «Надо защитить русское население», – то про войну.
Вот послушаешь «Наше Всё», выступающее в Думе, и подумается: «Господи! Как хорошо!» – а потом взгляд падает за окно, а там «Здравствуй, немытая Россия!».
Министр обороны обещал срочной службе пятидневную рабочую неделю и два выходных. И еще побудка должна происходить в 7.00, а не в 6.00, а отбой – в 23 часа вместо 22.
А еще послеобеденный сон, и на территории и в столовой будут работать гражданские, а военные будут учиться. Военному, смею надеяться, делу. Меня попросили все это прокомментировать. Я сказал, что если они полагают, что в навозе может появиться бриллиант, то это тот самый случай.
Может быть, армия поворачивается лицом к человеку? То есть нигде в России лицом к человеку не поворачиваются, и вот в армии вдруг начался этот самый разворот?
Кругом черт его знает что, а тут – как к людям?
К солдату у нас никогда не относились как к человеку. Это раб, бессловесное, вещь, клеточка для галочки – и так это было всегда. Вернее, я привык думать, что так было всегда. Особенно в XX столетии.
Меня спросили, а что я вообще думаю об армии. Я ответил, что армия как общественный институт, если его сейчас можно назвать институтом, существует тысячелетия.
И она особенно не меняется. Армия всегда состоит из двух частей – регулярной армии и ополчения.
Регулярная армия нужна для первого удара. Она его или наносит, или принимает на себя. Она должна выстоять или погибнуть. Если эта армия погибает, войну выигрывает ополчение. И тут я говорю прежде всего о той войне, которую мы все называем Великой Отечественной. Это с ней связаны все сегодняшние разговоры о патриотизме. Но патриотизм, патрио – это отец, падре, отсюда и Отечество, Отчизна.
Вспомните Пушкина: «Отечество нам Царское Село». Во весь голос об Отечестве в России заговорили еще при царе Петре. После победы в Северной войне он принял на себя титул «отца Отечества». Потом будет 1812 год, и слова «Отечество», «Отчизна» опять зазвучат во весь голос.
А слово «родина» начинает чаще встречаться с начала XX века. Начинается она с робкого есенинского «дайте родину мою» и дорастает потом до призыва «Родина-мать зовет». Об Отечестве вспоминают в дополнении, объявляя войну Великой Отечественной.
Почему произошла подмена? Не потому ли, что Отечество, отец, чтоб заслужить сыновнюю любовь и благодарность, должен хоть что-то делать – растить, оберегать, учить, выхаживать, заботиться, а вот матери мы обязаны по самому факту рождения.
Мать – это мать, она в утробе носила. Это отец должен доказывать сыну свое отцовство, а мать не должна.
Это ей все должны. И начинается этот долг с появления на свет.
То есть тебе организуют гражданскую войну, продразверстку и голод в Поволжье, а ты все равно должен матери-Родине. Кровью должен. И поэтому можно эшелонами бросать в бой совершенно без оружия. Можно оставлять в окружении, а когда они выйдут из него, – направить их в штрафбаты. Не застрелился и в плен сдался – пойдешь под суд. В оккупации был – на фронт, не переодевая, кровью искупать.
Слова «Отечество» или «любезное мое Отечество» в XX веке станут очень редкими, разве что когда Пушкина вспомнят, царя Петра или XIX век, а вот «Родина-мать» – это гость частый. Она очень важна в тех случаях, когда надо бросить в бой ничему не обученное ополчение.
А вот с регулярной армией сложно. Тут Отечество нужно, тут нужно пестовать. Офицера прежде всего. Офицер – это тот, на кого равняются. Он в бою первый. Он смерти придан. Это каста. У нее свои законы. Она не может быть придана кому-то персонально. Она Отечеству отдана. Это цари на Руси прекрасно понимали. И возглавить старались эту самую касту. То попечительствовали в гвардии, то полковниками служили, а то и марш-броски совершали с армией. Офицер считался основой государства. Его можно было воспитать, но нельзя было купить.
Так что в Великую Октябрьскую в стране истребляли прежде все офицерство. Его долго истребляли. Сначала на службу приняли в Красную Армию, а потом – к стенке поставили. За ненадобностью.
Потому что своего офицера стали воспитывать, но без касты. Вернее, каста все же немного была, но с техникой заодно: летчик воспринимался только вместе с самолетом, подводник – с подводной лодкой. Чуть в сторону от матчасти – и топтать начнут, истреблять.
Каста ворам, проходимцам и негодяям – большая проблема. Она давить свой собственный народ не даст. Народ с Отечеством очень крепко ассоциируется.
А воспитывали касту выборностью. И до Петра Великого, и во время оного офицеры сами выбирали себе командира. Они выбирали того, кто их на смерть поведет. Так у нас в России Суворов появился. Александр свет Васильевич.
И Суворова пестовали, растили. Сам Ганнибал, друг семьи, хлопотал. А отец у Суворова – генерал-аншеф и сенатор, крестник Петра Великого.
И Ганнибал следил за его службой, направлял. И книжки Александр Васильевич с раннего детства читал правильные – все больше о фортификации да о военном деле.
Хорошая у отца его библиотека была. Без библиотеки офицер не может, не получается. Он читать должен. Там и просиживал над книгами будущий генералиссимус часы долгие, лет этак с шести.
Вот так и воспитывается каста – пестуется, отслеживается, выбираются лучшие, достойнейшие. Самими офицерами выбираются. Голосованием тайным.
Ведь офицеры всегда знают, кто и чего стоит.
А без этого нет офицерства, касты нет и Отечества.Видимо, придется менять свои взгляды на гуманизм.
Конечно-конечно, на дворе XXI век, и пора бы даже к человеку в форме относиться не как к временно задержанному, а как к существу, наделенному душой. Я лично не против, я только за.
Но при этом, полагаю, в отношениях «командир-подчиненный» ничего особенно не меняется, да и дедовщину пока еще никто не отменял.
Просто из семи дней, отпущенных на нее, уберут два, и останется пять.
Мне сейчас же зададут вопрос: а как это повлияет на саму службу?
Отвечаю: а куй его знает. Это же эксперимент. Проба пера. А вдруг получится.
В России принято пробовать.
К самой боевой учебе это все отношения не имеет.
Солдата можно обучить и за три месяца автомат в руках держать.
Или ничему не научить его и за три года.Как ни страстно я желал, как ни прилежно старался заметить хоть что-то, потрясающее ум либо нежащее душу во всех перипетиях нашего движения вперед, но – увы! – перед взором моим всякий раз возникали только сытые свиные рыла.
Ими украшен мир. Без них он был бы пустыня и без пения катился бы по своему пути.
А так – он катился с пением, потому что те звуки, которые издают эти рыла, несомненно являются пением.
А как только наши руководители выезжают за рубеж, так я сейчас же пускаюсь в пляс. Никакого нет удержу от этого стройного кружения в порыве вакхических движений. Всюду слышатся мне тимпаны, и чувство красоты окружающего мира пронзает меня насквозь – просто входит вот тут, а выходит отсюда.
Все мгновенно, все порывисто.
Я только на миг какой-то задержался в прыжке, чтобы узнать, посетит ли он Сильвио Берлускони. Оказалось, что посетит, – и сейчас же обновленные жизненные силы отправили меня в очередной скачок.В Австрию, в Австрию, все должны ехать в Австрию. Вы еще не были в Австрии?
Там встречаются потоки – говорливые потоки, льющиеся из утренних труб с той же силой, что и из труб вечерних.
Там люди, чувственные и прекрасные, все поют и веселятся, а если и говорят, то только на забытых с детства иностранных языках.
Вот так вдруг – раз! – и заговорили, защебетали, и никакого тебе в том нет сопротивления.
Завалим! Мы их завалим. От щедрости своей и доброты.
Ах, Вена, Вена, ты сердцу солгала. Сначала солгала Италия – просто вся с севера до юга, а потом за ней и Вена.А посему возвращение всегда печально, Эйяфьядлайокудль его побери.
Как только ступаешь на родную землю, так сейчас же и думаешь о пропитании. Как-то все это связано – возвращение и питание. И не победит эту связь своенравное и непринужденно-шутливое обращение с читателем.
Тут что-то глубинное, из самых недр естества.
Может быть, во всем повинна серость – все вокруг какое-то серое. Может быть, хапать и жрать тут хочется от серости, разлитой везде?
Как я понимаю всех их, внезапно возвратившихся.
Свирепый вопль сострадания только и способен вырваться из сердца моего.
Так и хочется сказать им: «Ничего, бедняги, когда-нибудь отдохнете и вы!»Из меня опять исторгнулся вопль – сострадания, разумеется, – ну что тут поделаешь!
Кому? Никому, вообще сострадания. Я сострадаю вообще. Эпизодически. Я тщусь.
Кстати, Сильвио пригласил нашего – того, который чуть выше того, другого, посетить храм. Вовремя. Я полагаю, вовремя. Пора, а то хвост отрастает.
Вы знаете, посещение храма препятствует росту хвоста. Это давно замечено: как только неудобство какое – так и бегом в храм.
Что же касается меня, то я все время ощущаю себя под сенью платана или же в тени мраморных колонн, вдали от площади, кипящей живым, своенравным народом.
Народ – он ведь нечисто дышит. Он мешает чувству красоты пластической.
А вы знаете, ведь все дело в ориентации. Надо быть правильно ориентированным. Все это для того, чтобы выйти туда, куда следует, выдержав долгие, глубокие чувства, исключающие негу и самодовольство языческого мира.
Вот спроси у меня некто: как я ориентирован? И я сейчас же отвечу, что я ориентирован правильно, традиционно, по образу и подобию.
К чему это я? Это я к тому, что вопросы задают – то про НАТО, то про не НАТО.
Тяжкая это доля – быть руководителем. Ты то подобен Посейдону, то богине красоты, стыдливо выходящей из волн, белой, млечной, сладострастной.
Тут-то тебя и настигают вопросы об ориентации.
Уф! Чего не сделаешь в пылу страстей, в сильном порыве, когда человек является гордым, прекрасным и атлетическим.Я чего-то пропустил – вот ведь незадача какая! Я все время что-то пропускаю.
Оказалось, что Россию контролирует народ, а не президент с премьером – представляете?
Мать его ети, народ! Мать и отец, его ети!
Это мы на встрече в Копенгагене заявили. Датским журналистам. Они тут пытались нас спросить: кто же контролирует ситуацию, а им так прямо и заявили – народ!
После этого душой должно овладеть только одно желание: вырваться побыстрей из тела. Вот она – наша принадлежность нового мира! Она останется нам навсегда! Вот они порывы, воздвигающие дух, когда на нас со всех сторон наступает стяжательство и похоть!