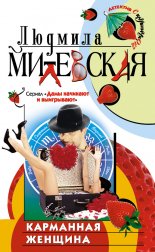Модель Удальцов Николай
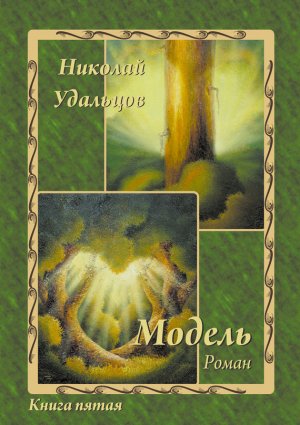
…Хотя, пожалуй, о том, кто такой Бог – вообще никто не знает.
А наш персональный разговор с этой девушкой о Боге в этот момент даже не планировался, хотя уже намечался.
Как разговор и еще об очень многом.
Правда, ни она, ни я об этом пока не догадывались…
– …Ну, ладно, – сказала девушка, и было непонятно: примирилась она со своим обманом или с моей правдой. – Спросите меня еще о чем-нибудь.
– Как тебя зовут? – я выбрал самый простой и в то же время самый назревший вопрос.
– Злата.
Только не говорите мне, что это имя мне очень идет.
– Это имя тебе действительно очень идет; но я не скажу тебе об этом, если тебе это неприятно.
– Приятно, но просто все на свете так говорят.
– А разве ты уже познакомилась со всеми на свете?
– Так говорят все, кого я встречала.
– Значит все, кого ты встречала, говорили тебе приятные слова. – Я с самоуверенностью старого дурака вел ее по разговору.
И вот тут-то Злата меня поймала:
– Да.
Хотя в каждом человеке обязательно есть что-то хорошее. Только почему-то я не хочу, чтобы вы – оказались таким, как все.
А потом она поймала меня еще раз:
– Впрочем, вы не ширпотреб. – Этими словами она продемонстрировала мне, что мои предыдущие слова не пропадали втуне.
Хотя мне захотелось уточнить
– А что такое, по-твоему, ширпотреб?
– Может – вы мне сами объясните? – ответила она мне вопросом на вопрос; и получилось так, что на свой вопрос мне пришлось отвечать самому:
– В настоящем искусстве обязательно должно быть что-то непонятное.
Что-то, до чего люди должны дорастать.
А потом оценить то, что в них изменилось.
Ширпотреб – это то, в чем нет ничего непонятного.
– Значит, я была права.
Главное – мне дорасти до вас.
– Нет, девочка.
Главное – тебе перерасти меня.
– Мне уже интересно с вами, – девушка смотрела мне прямо в глаза.
Будь я цветком, от этих слов красавицы я расцвел бы, не дожидаясь весны, хотя, вообще-то, она была временами странной.
Во всяком случае, в словах: то скажет, что хочет прочитать Библию, то – что в каждом человеке есть что-то хорошее…
…Мы помолчали секунд восемь.
Для меня – мало, для нее, как оказалось, – много.
И она перебила наше молчание:
– Сколько вам лет?
– Для разумной жизни я слишком молодой, а для молоденьких девушек – я уже старый.
– Да какой же вы старый? – в ее голосе прозвучала не порожденка цивилизации – лесть, а куда более древнее чувство – удивление.
И это было самой большой лестью для меня:
– Дело в том, девочка, что у любого возраста есть и своя молодость, и своя старость.
– Я сейчас угадаю – сколько вам лет? – сказала она, но игра в угадайку не входила в мои планы; и я остановил поток мысли моей новой знакомой:
– Не гадай.
Мне – пятьдесят пять, – Я не собирался ее удивлять; просто мне действительно не хотелось, чтобы девочка ломала голову.
Тем более что в датах всегда есть что-то непонятное для меня.
Я, например, до сих пор не знаю – какая дата важнее: рождения или смерти?
– Пятьдесят пять?! – Девушка была явно потрясена свалившейся на нее цифрой:
– Это – когда же мне столько будет?!! – В этом вопросе знак вопроса явно был окружен восклицаниями – словно речь шла не о пятидесяти пяти годах, а о пятидесяти пяти веках.
И я вернул девушку в нынешнее столетие.
В эру, которая называется новой:
– Когда – уверенность в том, что приобрел жизненный опыт, окажется в прошлом, а попытки формировать взгляды на жизнь – все еще в будущем.
– А какое будущее у вас? – В вопросе Златы не было ничего неожиданного, но я подзадумался:
– Не знаю.
– И вас это не расстраивает?
– Нет.
Но меня утешает одна надежда, – сознался я; и девушка уточнила мое представление о сознании:
– Какая?
– Надежда на то, что у моего будущего окажется вполне приличное прошлое…
– … Мы тут как-то встречались с одноклассниками и говорили о том, какими мы будем в зрелом возрасте, – сказала девушка; и я, оценив ее слово «зрелый», деликатно заменившее слово «старость», уточнил:
– И где вы встречались с одноклассниками?
– Как – где? В кафе.
– Так вот, зрелость – это когда одноклассников чаще встречаешь не в кафе, а в поликлинике…
– …Вы так много жили и, наверное, много чего помните? – Девушке явно хотелось сделать мне комплимент, но ее личное человеческое лицемерие, видимо, еще не натренировало ее формы общения:
– У вас наверняка хорошая память.
Я отозвался микстом из кивка и улыбки.
Не говорить же мне ей было, что в моем возрасте если еще помнишь, что у тебя склероз, значит, с твоей памятью все нормально…
– …Скажите, а в вашем возрасте еще есть любовь? – После разговора о моем возрасте ее вопрос о любви был естественным.
Впрочем, вопрос о любви естественен после любого разговора.
И даже – до.
– Да, – ответил я, – Только в вашем возрасте цена любви – восемнадцать прожитых лет, а в нашем – пятьдесят.
Наша любовь ценнее.
– Почему?
– Потому что наша любовь взрослее.
И мы лучше знаем ей цену.
– Какой вы умный, – девушка отступила на пол маленького шага, словно стараясь осмотреть мой ум со стороны:
– Вы таким стали с возрастом?
Куда мне до вас.
На ее слова я просто улыбнулся, и эта улыбка стала ответом:
– Не бывает такого возраста, в который нельзя было бы умнеть, – сказал я правду.
Впрочем, я сказал ей не всю правду.
Я не сказал девушке, что, как бы человек умен ни был, своей возможностью сделать глупость он всегда сможет воспользоваться.
Да и вообще, мы страна, в которой иногда глупо быть умным…
– У вас такой большой личный жизненный опыт, – сказала Злата; и я не понял – к чему?
Но она тут же пояснила свою мысль так, что мне пришлось улыбнуться:
– Наверное, он помогает вам жить.
Улыбнулся я молча потому, что мне не хотелось открывать главную тайну каждого человека такой молодой девчонке – тайну, которую далеко не все люди открыли для себя: «Личный жизненный опыт – самая ненадежная опора в жизни…»
– …А какая у вас машина? – сделала она мне комплимент, после того как вопросы о возрасте, уме, любви опыте показались ей исчерпанными.
Наверное, моя внешность показалась ей такой презентабельной, что я тянул на БМВ.
А может, даже, на мечту идиотов – «Хаммер».
Но все дело в том, что водить машину я так и не научился.
Зато с тех пор как разобрался в том, как это делается другими людьми, стал переходить улицу только по подземным переходам.
– У меня нет машины. – Мой ответ вызвал у нее не разочарование, а удивление.
И она искренне отреагировала на него:
– Разрешите обалдеть.
– И как же можно жить без машины? – спросила Злата, после того как справилась со своим обалдением.
– Очень просто.
Нужно регулярно есть фрукты, а по утрам делать зарядку…
– И все?
– Нет, не все.
– А что же еще?
– Остальное – каждый должен решить сам…
– …Скажите, – спросила она, – а жизнь – сложная вещь?
– Не сложная, – ответил я, подключив свой ненадежный жизненный опыт, – раз в ней разбираются даже дураки…
…Вот так я встретился с этой девочкой из поколения, задремавшего где-то между Че Геварой и Окуджавой.
Притом о существовании ни первого, ни второго – не подозревавшего.
В тот момент я думал, что ее поколение еще не научилось тому, чему научилось наше поколение: лицемерить и скрывать то, что мы представляем собой на самом деле.
Только потом я узнал, что она была из того поколения, которое научилось откровенно рассказывать о том, что оно собой представляет – то, чему наше поколение так и не научилось.
Если мы, в эпоху Гагарина, выбирали между Доном Кихотом и Гамлетом, то они, в эпоху Леди Гаги, выбирали Леди Гагу.
Впрочем, все, возможно, было не совсем так, как я подумал в тот момент.
Возможно, все было проще.
Между Василием Блаженным и Василием Теркиным мы вначале выбрали Василия Теркина; потом Василия Теркина забыли, а тем, кто такой Василий Блаженный, так и не поинтересовались…
…А о том, что мое поколение оказалось банальным историческим провинциалом, я в тот раз даже не подумал подумать…
…Как-то я сказал моему другу, поэту Ване Головатову:
– Знаешь, похоже, своего велосипеда они не изобретут. – И он ответил:
– Зато обязательно научатся орать во весь голос о том, что они лучшие на свете велосипедисты…
…Я спросил своего друга, художника Григория Керчина:
– О чем они задумываются и что такое они знают из того, что не знали и не задумывались мы в их возрасте? – И Гриша улыбнулся, правда, сделал он это как-то грустно:
– Они не задумываются о том, что Земля круглая, но знают – что такое пересадка во Франкфурте.
И пусть черт его знает, когда она там была – Куликовская битва.
Мне ничего не осталось, как согласиться с Григорием:
– И – Ледовое побоище…
…Злата прервала мои мысли самым незамысловатым образом.
Она вновь захотела сказать мне что-нибудь приятное:
– Знаете, а я ведь о вас где-то слышала. – Но я разочаровал ее, оказавшись не падким на популярность:
– Тогда – не верь.
Это – вранье.
– Вы не верите даже тогда, когда о вас пишут хорошо? – удивилась девушка; и я ответил так, как думал – хотя мой экспроментальный ответ удивил меня самого:
– Я не верю даже тогда, когда обо мне пишут плохо…
…И тут мне пришло в голову предложение, хотя и не претендующее на эксклюзивность, но все-таки на что-то годное:
– Злата, а ты не хотела бы попозировать мне для картины?
– Это в смысле – голая? – насторожился ее голосок.
– В принципе, ты определилась совершенно верно.
– Значит – голая? – утвердилась она, а я вздохнул:
– Значит – в смысле.
– Интересно, – призадумчиво прошептала девушка.
– Что тебе интересно?
– Интересно, как вы меня изобразите одетой только в один смысл?
– Это уже моя забота, – призадумчиво прошептал я, представляя себе эту девушку одетой только в мой взгляд.
– А это – как?
– Это так, что я хочу написать с тебя картину; но до тех пор, пока мы не начали, у тебя есть возможность отговорить меня от этой затеи.
– А почему вы хотите написать картину именно с меня?
– Потому что я создаю спорные произведения искусства, а ты – произведение искусства бесспорное…
– … А вы всегда говорите правду? – спросила она, помолчав секунды полторы.
– Да, – честно соврал я…
– …Понятно, – вздохнула Злата.
– Что тебе понятно? – переспросил я, уточняя – к чему относится этот вздох: к тому, что ей нужно будет раздеться, или к тому, что мне придется писать картину?
– Понятно, что вы меня распнете, а я даже не буду знать – зачем мне это нужно?
Может, объясните?
– Не объясню, Злата, – я говорил серьезно; и мою серьезность подтверждала улыбка.
– Почему?
Сами не знаете?
– Знаю.
– Что знаете?
– Знаю, что любой человек найдет тысячу аргументов в пользу того, чтобы распять другого человека.
И две тысячи – в пользу того, чтобы не быть распятым самому…
…Ее мысли довольно замысловато побродили по лицу и вылились в вопрос, довольно неожиданный, если вдуматься.
А если не вдумываться – то вполне нормальный:
– Вы целомудренный человек?
– Наверное, – ответил я, – Только в моем возрасте это называется уже по-другому…
…Ее слова заставили меня задуматься.
Когда, не стерпев моего пьянства, все жены по очереди оставили меня, а я бросил пить – мне как-то удавалось обходиться подружками моих бывших жен.
Потом пришло время обратиться к совсем уже посторонним женщинам – самим бывшим женам.
А теперь я, случается, обращаюсь к кому попало.
Кто-то скажет, что это – верх целомудренности.
А кто-то, что целомудрие и я – жители с разных улиц…
…И, помолчав немного, я добавил:
– Злата, возможно, я просто не знаю: что это такое – целомудрие. – И тут же нарвался на ответ:
– А мне что-то и не хочется разбираться в том – знаю я или не знаю, что такое целомудрие.
Вот так и выходило, что ее поколение могло то, что недоступно нам.
Например, задумываться о целомудренности, не тратя время на выяснение того, что это значит…
– … А вы часто рисуете обнаженных женщин?
– Не часто, но рисую.
– Но ведь голая женщина – это зло, – девушка явно проверяла ремонтоспособность моего здравого смысла. – Так говорит религия.
Я оценил эту проверку; и мне не оставалось ничего, как улыбаясь смотреть ей в глаза: «Самое красивое на свете явление – обнаженную женщину – христианство назвало злом.
Уже за одно это – все мужчины должны стать атеистами», – И Злата явно поняла, о чем я думал. Во всяком случае, она укрепила свой аргумент:
– Так говорят все религии; а на них стоит человечество.
И я опять промолчал в ответ: «Один из нас – либо я, либо человечество – делает большую ошибку, утверждая, что обнаженная женщина это плохо.
И так как не может быть, чтобы так сильно ошибался я, то, скорее всего, ошибается человечество.
Я утверждаю, что обнаженная женщина – это прекрасно; и достаточно взглянуть на такую женщину всего один раз, чтобы понять, что право не человечество, а я».
Не знаю, каким образом Злата забралась в мои мысли, но она их явно прочитала:
– А вы не сексуальный маньяк? – Возможно, этот вопрос девушки мог быть простым уточнением диспозиции.
– Думаю, что – нет, – ответил я; и тогда у меня появилась возможность сравнить ее мысли с зайчиками, которые прыгают по солнечной лужайке в поисках то ли пищи, то ли развлечений.
И мне оставалось только моргать – смотреть на нее пунктиром.
Потому что на мои слова о том, что я не сексуальный маньяк, девушка выразилась неоднозначно:
– Жалко…
…Злата посмотрела на меня и тоже заморгала.
Тогда я еще не знал, что под ее ресницами прячутся чертики в таком огромном количестве, что можно организовывать ферму по их промышленному производству с последующей реализацией через розничную сеть по сходной цене.
Я узнал об этом потом.
Как раз перед тем, как узнать, что это совсем не черти, а ангелы…
…Так уже выходило в моей жизни не в первый раз – общаясь с женщинами, я зачастую путал ангелов с чертями.
И – наоборот…
– … Скажите, а разве одетых женщин рисовать нельзя?
– Можно, Злата.
– Почему же вы их не хотите рисовать?
– Потому что одетая женщина – это женщина.
И – только.
– А раздетая?
– Это символ.
– А разве красиво одетая женщина не может быть символом? – спросила она.
– Символом – чего? – переспросил я.
– Ну, например – символом скромности, – девушка изобразила персональную скромность, опустив глазки; и я про себя улыбнулся в ответ на ее уловку: