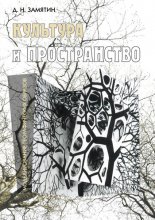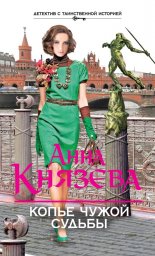Валька Родынцева Чекасина Татьяна

так была хороша:
Не болела бы грудь,
не томилась душа…»
– Поёт Игнат.
Например, чего хорошего в том, что она так и не смогла ничего рассказать Никите из своей жизненной истории? О том, как она не поддалась на неправильное воспитание, выросла активной строительницей коммунистического завтра? Никиту интересовала только её медицинская история. Спросил, болела ли она корью, желтухой, есть ли у неё прививки от других опасных болезней, не состоит ли она на учёте в туберкулёзном диспансере, какими болезнями болела. Попросил показать зубы, горло, язык, будто на работу принимал в строгое учреждение. На номерном заводе, куда её хотели принять табельщицей, да что-то раздумали, прошла много врачей, даже мозг сфотографировали. Рассказала об этом Никите. Он спросил: «Сотрясения мозга не было?» «Нет» (никаких болезней, кроме менингита). «Но отец твой пил, ты – дочь алкоголика, плохая наследственность…» Она хотела исправить: «Отец стал пить только после мамы», но промолчала. Никите не нравились её зубы кроличьи (он, оказывается, не был от них в восторге). Считал «рудиментарным признаком отягчённой наследственности, остаточными явлениями генетической олигофрении». Но что она могла ответить на это? Все советские люди не помнят своего родства. Она одного своего деда не видела, бабок обеих не застала. Но жизненные подробности не интересовали Никиту. Только медицинские. Всё выспросив, приступал к тому делу, ради которого её и позвал. И, как ей подумалось теперь, хотел свести это «дурацкое нехитрое дело» тоже к одной для себя самого полезной медицинской процедуре, но забывался, рассказывая о себе.
…О том, как всё детство его заставляли учиться на отлично не только в общеобразовательной школе, но и в музыкальной, где преподаёт его мама, пианистка. Папа у него ещё строже, а потому случилась трудность завести женщину в своём маленьком городке. Сразу бы узнали его родители и все знакомые, а потому он не решался, занимаясь спортом и музыкой, отвлекавшими от физиологии, обычную школу закончил с золотой медалью. Поступив в институт, он боялся опозориться с первой же девицей. Все однокурсники, кроме близкого друга Олега, старшего на целых пять лет, его считают давно не мальчиком, но умело скрывающим свои связи. Теперь-то он хорошо освоился. «А ещё, Крольчиха, хорошо бы восстановить публичные дома, а в них “жриц любви”». Тут Валька чуть не ляпнула, что такого же мнения и её близкая подружка Капустова, с которой она не согласна. И услышала неожиданное: «Ты могла бы пойти работать в такой дом. Правда, у тебя нет внешних данных, но губы толстые…» Промолчала, не выйдя из немоты, словно её самой тут не было, да и, заговори она, он бы, наверное, удивился. Вот и помалкивала, и он будто говорил наедине с собой, покуривая в полутьме (свет чуть проникал из кухни).
При этом незначительном свете она смотрела на него сбоку неотрывно, подняв голову на локте, ловя каждое движение его губ, бровей, даже ресниц. Не смотрела, – жила в нём, растворившись, готовая отказаться от собственного существования. Это её желание на этот момент судьбы было её огромным счастьем. «Физиология» не полюбилась ей, она даже поняла, что боится этого большого мужчину, стараясь лежать тихо, молчать о себе, об отце и его нынешней семье, о работе на стройке. Да, и зачем, нет никакого смысла в её собственной жизни, когда есть Никита.
Пожалуй, зря иногда молчала, не исправляя кое-что. Вот, например, неверно решил: дочь алкоголика, «пьяное зачатье». Это тоже медицинский вопрос. На медицинские отвечает. Спросил, когда была последняя менструация. Об этом и с мамой не говорили, а только с тётенькой-врачом при поступлении на обувную фабрику, а потом при устройстве на «почтовый ящик», куда не взяли, но не из-за того, что она не смогла назвать число. Никите – прошептала; этот день запомнила случайно: ездила на домостроительный комбинат заказывать столярку, оделась неудобно, мучилась всю дорогу. Никита объяснил, что есть дни, в которые не надо предохраняться от беременности. И эта ночь, как тут же высчитал, была «удобной». Презервативы (испытал один) ему не понравились, забросил в огромный портфель с выпуклой кожей, пошутив: «Кусок крокодила». В ту вместительную, подробную ночь под завывание вьюги Валька Родынцева прожила большую часть своей маленькой жизни. Теперь, вспомнив что-нибудь важное, удивляется: опять какая-то минута той именно ночи! Видимо, до Вальки не знал Никита, как подступиться к студентке отличнице Анне… Впервые так плохо, так трезво думая о Никите, сравнила: у Игната никаких вопросов.
Игнат считает её не противной, хотя и немного смешной пацанкой («сестрёнка»). Вчера, поднимаясь на перекрытия после обеда (каблук с лестницы – чирк, а перила ещё не поставили), подхватил её, случайно оказавшись рядом, а заодно (чего ему стоит) вынес на перекрытия, но никаких распусканий рук (не Киряев). Как-то в вагончике (морозы и два этажа) Игнат закончил обед, а другие не вернулись из стекляшки, и они разговорились даже. Он рассказал, что в молодости (сейчас ему за тридцать) пел для публики в ресторане много разных песен, и тут же продемонстрировал:Ах, зачем же, зачем от родимого края
улетели туда навсегда журавли…
Стёкла вагончика зазвенели так же, как звенят они, когда под мостом просвистит электровоз. Она сказала ему об этом, он засмеялся. Вообще, он весёлый…
Ей даже захотелось пригласить его домой: вдруг, поймёт? После работы они перешли через мост над железной дорогой, зашли в старый особняк, где проживала она согласно прописке. Она стала отставлять картины от стен и разворачивать их лицом к миру и к людям… Игнат сидел на стуле посреди комнаты, он вертел головой, потом встал, ходил и рассматривал. «Тебе, сестрёнка, надо поступить в художественное училище. Ты прямо молодец! А это ты меня нарисовала?» Он говорил то, что говорил отец. Поглядел так, покачал головой и ушёл задумчивый.
Его жена не похожа на простую жену каменщика, разодетая фифа. У него даже есть уже немаленькая дочка с длинной косой. Она приносят ему обед, так как живут они неподалёку. Столовую, куда ходят остальные, он называет тошниловкой. Бесшабашно-заунывное пение Игната вызывает в душе Вальки радость. Такую же радость у неё вызывают краски и карандаши. Даже радостно ей красить ногти и лицо… Но как же тогда коммунизм, который ей надо строить своими не очень мозолистыми руками?– Стоп, машина! – заорал Валерка Киряев. И машина замерла.
Низкий мостик, под ним – речка с плывущими небольшими сине-зелёными, бурыми и серыми льдинами. По берегам и вдоль дороги – лес, с одной стороны переходящий в забор. Оглядев глушь, не смогла бы теперь Валя-начальница приказать: «Поехали!» Крепче схватившись за сумочку обеими руками, она стала вычислять, с какой стороны набросится тощий гад: с той, где рычаги, вряд ли. Скорей, от дверцы, взялась за ручку на ней. Так и есть – выпрыгнул из кабины, сейчас обойдёт машину… Водитель открыл капот, откуда, словно из кипящей кастрюли, вырвались клубы пара. Валькин страх, будто этот пар, растаял. Но никакое приказное «поехали» теперь бы не сдвинуло грузовик. Встав ногой на узенькую неудобную для каблуков ступеньку, второй нащупала мост:
– Что случилось? – поинтересовалась голосом большой руководительницы.
– Топай пешком, – имея злобно-озабоченный вид, склонился к мотору Валерка, будто с ним и разговаривал. – Видишь забор? Это и есть кирпичный завод.
Успокоенная (на этой стройке, как всегда, всё плохо, ей бы в самые первые ряды строителей), сошла с моста на дорогу. Светило солнышко, не по-городски назойливо, а по-лесному ласково. Птицы (не воробьи!) щебетали из прекрасно пахнущего леса. Валька обрела свою прыгучую смелость, радуясь высоким каблукам, сумочке из жёлтой свиной кожи, юбочке синей дерматиновой, курточке из красного нейлона. Придерживая для надёжности, чтоб не слетела в грязь (лужи приходилось оппрыгивать), бабочку-капустницу шляпы, очутилась она перед забором, в сторону которого махнул рукой с зажатой в ней грязной ветошью Валерка Киряев. Но и без его «ценных» указаний на всём видимом пространстве заблудиться было невозможно. Несколько мрачных домишек устало глядели немытыми оконцами частной собственности в грунт с восходящими из него в облака красивыми деревьями и кустами, лохматыми от веток.
Загляделась, прикидывая, чем их лучше рисовать? Учитель рисования говорил, что китайцы рисуют деревья тоненькой кисточкой. Надо сказать отцу, чтобы купил. Ей так захотелось немедленно нарисовать все эти деревья, а не идти к какому-то подозрительному заводу «Новострой». Люди этой деревни не показывались. По другую сторону было тоже безлюдно – на пару километров, не меньше, был забор, далеко тянулось это удивительное заграждение.
Родынцева – не какая-то малявка и школьница. Она ездила за арматурой на завод, также огороженный внушительным забором. По ту сторону его металлической конструкции была отлично видна территория с корпусами и снующими между ними арматурщиками, грузовики с грузом, чистенькие легковушки с начальством. Стена, перед которой она оказалась теперь, напоминала своей непроницаемостью и высотой забор вокруг «закрытого» предприятия «Почтовый ящик номер тридцать шесть», куда Вальку не взяли по непонятной причине на высоко оплачиваемую чистую работу табельщицы. Но ещё этот забор имел натянутую поверху колючую проволоку, скрученную ровными кольцами. Уставясь на незнакомое изделие, напомнившее картинку в детской книжке про волка, угодившего в капкан, так загляделась, что и не вспомнила историю со снабженкой, слышанную не только от Валерки Киряева. Бригадир каменщиков Лукин рассказывал мужикам, а он – не какое-то трепло. Настойчиво позвонила Валя деловая в звонок на глухих воротах. Ожидала, что распахнётся калитка, и добродушная тётенька-сторожиха спросит: «Чего тебе, дочка?» И Родынцева объяснит, с каким важным поручением она прибыла от прораба Арсения Ивановича. Накладная на «деревянной» бумаге, слегка подмоченной её слезами, где вместо «красного» кирпича, значится «шамотный», в сумочке… Никакой толстой тётеньки, открывшей проходную арматурного завода, здесь не было. В неожиданно отворившемся оконце показалась хмурая усатая рожа под военной фуражкой с красным (цвета красного знамени) околышем и гаркнула:
– Посылки по пятницам! – Стук-бряк, – ворота опять слились в непроницаемую стену.
Позвонила ещё, успев выпалить:
– ОКС завода коммунального машиностроения! За кирпичом!
– А-а! – взял протянутый ею паспорт (захватить велел Арсений Иванович). – Номер автомашины!
– …э-э, вон она, на мосту, сломалась…
– Без машины на территорию не положено…
– Мне к учётчику Завельскому, он перепутал в документах название кирпича! – прокричала Валька в опять захлопнувшееся окошко.
Как же ей убедить этого сторожа вести себя по-товарищески?.. Хорошо, Валерка прикатил на отдышавшейся «шаланде». Выдали пропуск, и они въехали в заводской двор, по виду обычный. Посредине – дорога, по сторонам – корпуса (здесь – низенькие) из красного кирпича, который и просто лежал повсюду в огромном количестве под навесами (и серый есть, шамотный, как ошибочно значится в накладной). Радуясь, что с машиной опять всё в порядке, Валерка проявил человеческую словоохотливость. Объяснил, что мотор перегрелся, закипела вода в радиаторе. Пришлось ему долить холодной, но сначала подождал, пока немного остынет, чтобы не ошпариться, даже крышку от бачка (что за «бачок», она не поняла, но согласно кивнула от приятности разговора) нельзя было сразу отвинчивать.
– А почему меня без машины не пропустили? – спросила, желая продлить культурное общение.
Но Валерка, крутя руль, дёргая рычаг переключения скоростей, успел повертеть грязным пальцем себе у виска:
– Ты чё, дебилка? Это ж зона!
Дальше спрашивать бесполезно: «Что такое «зона»? Она никогда не была ни на какой «зоне». Скорей всего, это название исправительно-трудовой колонии. Как и слово «зэки», обозначающее «заключённых». Так никогда не говорят по радио, так говорят только «кирпичники», шофёры, лебёдчик и стропаль. Она не слышала, чтоб так выражался и вечно куда-то убегающий прораб Арсений Иванович: «зона», «зэки»… И смекает: сказка про снабженку не совсем сказочная. На территории зоны, как и за её непреступным и для преступников, и для нормальных людей забором, – неразборчивое солнце стремилось согреть всех, и строителей величайшего будущего, и тех, кто и от настоящего изолирован на время своего полного исправления. «Шаланда» остановилась на небольшой площадке со знакомой техникой (автокран-лебёдка) и незнакомой: погрузчик со специальной полкой, на которой он перевозит перед собой всё те же надоевшие одинаковые кирпичи (Валька разрисовала бы каждый).
– Встану в очередь за кирпичом, – сказал Валерка, – а ты пока разберись с документами, – и, выпрыгнув, пошёл к другим бортовым, ожидающим погрузки.
Ещё распоряжается! Как же, спросила этого, полностью не исправившегося на какой-то тоже «зоне». Он что-то проорал, убегая, про какой-то звонок в какую-то запертую дверь. Очень нужно выслушивать указания от Киряева, пусть указывает своей невесте по имени Анна. Плевать она хотела на эту Анну, и на ту Анну, которая колола дрова с Никитой. Никаким Аннам не сочувствует, кроме одной, бросившейся на рельсы из-за короля своего сердца Вронского, и пошёл отсчитывать состав: «Чип-та, чип-та, чип-та…» Смело выкинув ножонки в «зону», спрыгнула Валя-строительница на бетон площадки и огляделась…
Неподалёку был кирпичный барак, только что тихий, вдруг, оживший. У каждого распахнутого настежь окна оказалось много людей! Вон и табличка на стене: «Обжиговый цех». Засомневалась: какое ей надо крыльцо? И вместо того, чтоб вернуться срочно в кабину грузовика, броситься к Валерке с уточнениями, а то и с просьбой сбегать к учётчику Завельскому, она, исполненная важности, двинула к тому крыльцу, которое было ближе. Киряев что сказанул охраннику, когда они въезжали на территорию: «Эта девчонка со мной, числится на стройке, вроде, экспедиторки»! «Девчонка», «числится» (не работает, а так)… Ступая задрожавшими ногами, открытыми от голенищ лиловых сапог до мини-юбки сплошным блестящим капроном, направилась Валька вдоль окон плохо проторенной дорожкой. Ноги у неё ровные, будто два карандашика, недостаток – тонкие, но и сама худенькая. В следующий миг она понимает, что это за народ смотрит на неё с неотрывным интересом.
Уйма полуголых зэков с бритыми налысо головами высыпала к окнам (видно, жарко им в их обжиговом цехе). Весь их коллектив, спаянный чем-то гадким, глядел в сторону погрузки, где из автомашины выпорхнула она, разноцветное создание. До спасительного крыльца далеко, в коленях дрожь. Продолжала Валя свой путь с напряжением босого йога, идущего по стеклу. Ужас не в том, что множество пар глаз уставилось на неё с психическим интересом, ощутимым даже кожей, будто обдираемой вместе с капроном, а в том, что они стали орать, по-разбойничьи присвистывая. Похабнейший призыв повис среди солнца, дробясь в лужах, замирая в нагретом воздухе весны. Сапожки чавкали по глине как-то неприлично. Она спешила. Мимо окон, расположенных вровень с ней. Наконец, стала дёргать ручку на каких-то запертых дверях. Никто не открыл, и она помчалась обратно. Опять вдоль цеха под ещё больший крик, под рёв… Подскочив к другой двери, она увидела на ней засов (как глупо он приделан – с внешней стороны!) и попыталась сдвинуть с места эту металлическую щеколду, но внезапно кем-то жёстко схваченная со спины, потеряла сознание от боли, пронзившей руку от локтя до сердца.«Коммунизм – это молодость мира,
и его возводить молодым».
«Страна моя героев воспитала,
отчизна-мать зовёт и любит нас».
«Вперёд, комсомольское племя».
«Комсомольцы-добровольцы,
мы сильны нашей верною дружбой,
сквозь огонь мы пройдём, если нужно,
открывать молодые пути…»
…В кабине грузовика Валька Родынцева сидит, съёжившись, словно ёжик. Чей-то авторитетный голос заявляет в ней: Не человек ты, не гражданка огромной страны с фамилией звучной Родынцева, похожей на великое слово «Родина», с именем Валентина (как у первой женщины-космонавта), а безымянное маленькое животное, юная щуплая крольчиха, беззащитная перед разнообразным населением большой страны и перед небом, необъятным надо всей Родиной, почему-то не желающей защищать свою дочку, как мать. Сколько юных жизней было отдано за тебя, Родина! Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская… Но и Валька Родынцева тоже готова к подвигу на благо отечества. Валерка Киряев матерится сплошняком. Это он показал накладную учётчику и тот выписал ещё одну, правильную:
– Такую надо взаперти держать, а не доверять ей работу, непосильную для тупой башки…
Рука у неё болит… Весна свирепствует. Сияя, весна действует на нервы. Она нагревает стекло кабины, придавливая слабое существо чрезмерной яркостью и напором, будто радио на столбе. Весна – марш трудовых свершений, и надо много сил, чтоб маршировать. Надо иметь немалую силу и нешуточную радость за победы на пути к ещё более яркому солнцу, к ещё большему венцу побед в отдельно взятой стране, родине Вальки Родынцевой. Крольчиха, бездомная собачонка, у которой, как таковой родины нет, и нечем ей гордиться.
– Да, не реви ты, руку тебе не сломали, даже не вывихнули… Это лучше, чем «снабженка номер два».
За окном кумач плакатов: страна продолжает бурлить. Спутники летают, космонавты возвращаются из космоса, идёт борьба за мир во всём мире… Простой советский рабочий не должен проводить время в бесплодных разговорах о том, есть бог или нет, будет коммунизм или не будет. Он должен строить светлое общество, смело смотреть прямо в солнце новых побед глазами, не прикрытыми зеркальными очками, на которые всё равно нет денег. Плохо, ох, как плохо, что она в стороне от больших дел, едет в кабине «шаланды». Работа у неё – сплошное безделье. Раньше и не знала, что на стройках иным строительницам делать нечего. Теперь в курсе: такая должность называется кладовщица, склада нет. Вернее, есть, в квартире на первом этаже (ключи в сумочке). Там – стеллаж, ящики с гвоздями, арматура, две бухты. Прораб Арсений Иванович сказал, что с началом отделочных работ склад будет полон: завезут сантехнику и краску. Вальке Родынцевой плевать: скука. А квартира-склад удивляет отсутствием в ней естественного света, но сейчас хотела бы кладовщица в тот сумрак и прохладу мелкого одиночества, на порог одиночества громадного.
Её работа считается хорошей. Она и перед прорабом не обязана отчитываться, а только перед Дубло Кириллом Глебовичем. Это через него Валька попала на эту должность. Кирилл Глебович Дубло – начальник ОКСа (отдела капитального строительства), он-то и есть «покровитель» (Капуста зовёт Кириллом). Работяги на объекте побаиваются Вальку, она – знакомая самого Дубла! Однажды при ней стали поносить начальство, но опомнились, задумавшись от её присутствия в вагончике. Капуста не понимала, зачем её подруга бегала по крупным заводам, научно-исследовательским институтам и проектным организациям, ведь так просто: заиметь Дубло, – и горя мало. Но раз уж она хочет гнуть спину, пожалуйста. Одного звонка хватило, чтоб приняли Родынцеву на эту стройку с приличным окладом плюс премиальные и с перспективой получения отдельной квартиры в третьем по счёту доме (этот – первый). Дотянет ли до заветного Валя-строительница? Первый дом, то есть, этот дом сдадут только к седьмому ноября, великому празднику, затем второй дом, потом третий. Года через три может получить отдельную однокомнатную со всеми удобствами – это рай, но ждать долго и уже надоело торчать на этой стройке.
После оформления Вальки на работу Капуста пригласила в ресторан, где кроме Кирилла Глебовича был ещё один дядька, тоже лысый, но ещё более противный, быстро опьяневший. Валя, конечно, понимала: друг Дубла по фамилии Гумно, – важная птица, а её специально «устроили» этому Гумну. Вместо того, чтобы пойти с ним в номер гостиницы «Спорт», Родынцева проявила неспортивное поведение, удрав через окно в туалете. Капуста вздохнула: «Хорошо, что Гумно напился в лоскуты, а то было бы неудобно: ты оказалась неблагодарной».
Удивительно меняются люди! Мать Капустовой снова спустилась по лестнице в холл гостиницы, где они, накрашенные с большой яркостью, сидя на диване, в открытую покуривали сигареты «БТ». На сей раз мать Капустовой не стала выгонять дочку в шею, а наоборот, пресмыкаясь, поднесла ей зелёную шляпу: «…Левадия, ты такую хотела?» Капуста скосила глаза: «Нет. Иди к этой шляпнице… А, ладно, – поглядев на Вальку, нахлобучила шляпу подружке на голову: – тебе хорошо». Валька Родынцева взяла, ей понравился цвет первой робкой зелени. Мать Капустовой, похожая скромной одеждой и трудовыми руками на обычную работницу, каких на фабрике полно, прекрасно знала о «покровителе». «Где же денег взять, – сказала, будто извиняясь, – шубка нужна, туфли, сапоги…» Вот это да! Недавно какую-то Зинку честила пропащей… Взрослая тётенька, всё равно, если б мама такое сказала…
Вечером она глядела в окно на памятник архитектуры, на умирающую без ремонта церковь. Из всех зданий и сооружений, выстроенных людьми, только церковь похожа на человека: не разрушается, а умирает от тяжёлой болезни. Может быть, у этой рак поджелудочной железы, как у мамы. Валька Родынцева, передовая строительница светлого завтра, сидя у тёмного окна, не могла понять, отчего такое тёмное «сегодня», если «завтра» должно быть светлым? Подумала Валентина даже про замужество, хотя не считала его великим делом жизни. Пример: Надежда Григорьевна, передовая женщина, начальница почты, вышла замуж за отца и не жалеет, наоборот, – рада и называет его Юриком. Она больше не поддразнивала Вальку («Ну, что, какаду?»), не критиковала её вид, а даже прикрикнула на Димку, выглянувшего из своей комнаты: «Эй, разноцветная, дай шляпу поносить!» Они оба с отцом смирились, что девочка не такая, как они, успокоились, и показались ей весёлыми детьми.
Отец всё напоминал про учёбу: «Давай в ПТУ, и мама говорила…» Валька прервала: «Хочу медиком…» Рассказала про Олега, будто он её не выгнал, и они до сих пор дружат. Отец согласился с тем, что Олег Павлович ему помог, но профессию не одобрил: «Какую работу выбрал, с психами. Нет, ты лучше в ПТУ…» Надежда Григорьевна спросила: «…при обувной фабрике?» «Нет, чайники расписывать», – объяснил отец, принёс из кухни белую эмалированную кружечку. «Ну-ка, Димка, где краски?» «Это эмалью надо, а тут акварель», – сказала Валька запевшим голосом, но не напористо (не советская песня труда и борьбы). «Других нет», – сожалея, сказал мальчик. «Ну, я же для примера, чтоб Григорьевна убедилась», – попросил отец. Валька глянула на кружку, на её белую поверхность, а потом на краски (медовые с лаковым блеском). Дальше никого не видела и не слышала (ну, как обычно). В эти минуты она будто спряталась от серой жизни с неясным великим будущем, ушла в цвет. Всегда с ней так, при любом рисовании, даже при покраске ногтей и лица.
…В школе у них был необычный учитель, он ходил в свитере, со всклоченными волосами и с пятнами краски на руках. Он иногда забывал, что в классе есть и другие ребята. Он останавливался возле Родынцевой, бормоча волшебные названия: «Кадмий, берлинская лазурь, графика, акварель…» Он помогал ей рисовать на вольную тему неземные цветы. В это время остальные ребята могли хоть по партам прыгать… Этого учителя вскоре уволили. Теперь он преподаёт рисование в ПТУ художественных промыслов. Однажды, встретив на улице идущих к маме в больницу отца и дочь, он спросил: «Знаете, где ПТУ…? Вот адрес». Отец обрадовался, рассказал маме, она тоже порадовалась короткой радостью больницы. Ещё два года назад их белый свадебный сервиз из шести чашек, двух чайников, сахарницы и молочника Валька разрисовала масляными красками. Диковинные цветы прорастали и прорастали, пока вся посуда не стала такой, что все, приходившие к ним, спрашивали: «Где купили? Импортная?» Один друг отца принёс свои чашки серого цвета, ну, и они расцвели. Взамен подарил папку с бумагой и краски: уголь, сангину, сурик и темперу. Но Валька не может заниматься глупостями, погружаясь в рисование, ей надо быть деятельной комсомолкой, шагать в ногу со всей страной… «Господи, я эту кружечку теперь не стану мыть, чтоб краска не смылась, пусть украшает сервант», – сказала Надежда Григорьевна. Димка попросил: «Нарисуй и мне что-нибудь». И нарисовала. Для мальчишки должно быть интересно: недостроенный дом над обрывом, автокран с лебёдкой, Игнат кладёт стенку, поёт песню… Облака плывут за горизонт, там они, возможно, разольются первым весенним дождём…
Поскорей вернулась домой, где зябко, одиноко. Старалась Валя утешить себя Капустовскими словами, вспоминая её бравые повадки и смелые ухватки. Как поглядела на шляпу: «Носишь? Носи». Да, носила, нравится цвет, в который можно смотреть с радостью, если снять шляпу. Капустова не удержалась: «Что же такими нечуткими оказались твои медики? ‘’Общество’’ твоё ‘’высшее’’?» Родынцева пропустила мимо ушей: не до мелких обид. На церковь смотрела недолго: дверь, как обычно, соскочила с крючка. Может, от сквозняка, возникающего всякий раз, когда кто-нибудь входит с улицы в общий коридор… А, может, мама… Так и есть, она… Выдали им в морге её, обёрнутую простынёй, но отец ругался и кричал. Выскочив, заплакал. Не хотел получать неживую маму из дверей морга, похожего на холм большой могилы, ходил ругаться с врачами, говорил, что они лечили плохо, будто предлагал перелечить по-хорошему. Дома маму одели её сёстры-монашки в халат, в нём и положили. Но отец настоял на кремации (мама об этом строго наказала). …Входит мама… Валька не хотела ей рассказывать про своё горе, но она и сама где-то прознала: «Что я тебе говорила: сиди в углу, чайники разрисовывай, это и есть твоё счастье…» «Ладно уж», – Валька отвернулась, а мама тихо ушла. Долго будет такое продолжаться, эти её приходы?
Вспомнила Валя-дочь, как умирая, мама сказала такое, что они с отцом переглянулись у неё за спиной (не верили, что она умирает совсем). И, если умрёт, – думали они, – то кто же об этом скажет что-нибудь особенное (такое, чего не говорит радио?) И услышали: «Не страшно». Она хотела ещё что-то сказать, но улыбнулась чуть-чуть. Они уехали домой, а она в этот вечер скончалась. Оба поняли: «Отдавать богу душу не страшно». Как-то в один из вечеров Валька её уж не ждала, легла спать и слышит: идёт, тихо ступая, прошла мимо кровати, села в кресло у окна. «Ты у меня доченька хорошая, душа добрая, не оставит тебя господь, он таких, как ты, любит, доченька, и за все твои страдания наградит…» Валька слушала-слушала это мракобесие, а потом повернулась к ней, посмотрела на неё, сидевшую в кресле лицом к церкви: «Не уходи, мама. Никогда». «Сама ко мне придёшь», – ответила, да так сурово, как в жизни не говорила эта женщина. Валька обвила голову руками, уснув. Утром, конечно, мамы не было.Никакой весны не надо: у неё горе. Вчера, когда вновь пришла мама, Валька пожаловалась: «У меня горе». Да какое ужасное: Никита замахнулся портфелем (тяжёлый, в точности – крокодил). Мама, конечно, стала ругать, как всегда. А потом ушла в холодную весеннюю ночь, растаяв за окном, одетая в тот же голубенький в цветочках халат, в котором и положили. Валька выглянула: нет ничего и никого, кроме церкви, бездействующей, безжизненной, пустой. Решив и сама умереть, представила, как её также отдадут отцу в простыне, и Надежда Григорьевна наденет на неё халатик в цветочках, мол, не в этом же «какаду» класть в гроб. В ту великую (по её понятию) ночь Никита спросил: «А шизофрения у вас была в роду? Обычно: если есть, то уже была». «А разве есть?» – спросила в ужасе. «С мамой-то всё беседуешь?» «Не тронь мою маму!» – хотела строго выкрикнуть Родынцева, но промолчала, чтоб не обидеть Никиту. Не надо было ей говорить Олегу про «беседы»: сразу приписали шизофрению. Она не сама с собой, с мамой разговаривает. Конечно, если послушать со стороны… Просто, Валька ничего не может забыть.
…Они с отцом пришли в онкологическую больницу, а им велят получать человека из морга. Отец не хотел получать, сел возле железных ворот на железную скамейку и так плакал, что Валька не знала, как ей быть и побежала в морг сама. А там дядька в коротком белом халате, будто продавец в мясном отделе гастронома, с большими руками, голыми до локтей, выкатил столик длинненький, простынку отдёрнул: «Эта?» «Да, эту», – говорит Валька, глядя на маму (губы синие, лицо жёлтенькое, но всё равно видно – она). «Забирай, а то в крематорий отправим». «Можно, только отца ещё позову, он во дворе?» Валя-дочь хотела деятельность в морге развить, представив, как они с мамой выходят на улицу (мама в простынке). Валька поддерживает её, волочит на себе, ведь теперь мама в мёртвом виде уж совсем не сможет ходить (но насчёт этого оказалось – ерунда). «Ты что, пьянь, она несовершеннолетняя!» – заорала тётенька, тоже по виду продавец, на подошедшего кое-как отца. Маму потом отдали из этого городка (несколько белых зданий и один холм, полный разных смертей). Деньги, которые скопил отец, употребил на похороны. Тянулись похороны долго (бесконечно – казалось Вале). Всю родню мамину накормили, кое-кого среди большинства непьющих удалось и напоить. Главное – отец напился сам, да так сильно, что закончили поминки без него, спящего. Тётки, дядьки (до этого их и не видела никогда племянница Валя) покинули их большую комнату, всё прибрав и вымыв, и звали её с собой в их дружно верующую в бога семью, в тот посёлок (десять остановок трамваем), откуда отец много лет назад вывез маму на своём мотоцикле. Помня об этом радостном событии, мама и не хотела продавать мотоцикл, ржавевший в дровянике.
«Забота у нас такая,
забота наша простая:
жила бы страна родная,
и нету других забот;
и снег, и ветер, и звёзд ночных полёт…»
Звёзды так и летели над Валькиной головой, и она сказала выявленным родственникам, что не станет поддерживать мракобесие в нашей атеистической стране. На третьи сутки отец вышел из запоя и побрёл ремонтировать фреоновые холодильники, называемые им «хреоновыми», но его успели уволить, и на его место взяли другого, более квалифицированного рабочего. «Знаешь что сказала мне мама в больнице, она сама… Ночью, говорит, простыню скручу и зацеплю за кровать… Сама она, – шептал отец, – а ведь говорила – грех!» Лучшая подруга Капуста выслушала внимательно про две ночи с Никитой, про дефлорацию, и не удивилась, что он у неё был вторым. И велела «заткнуться» и не выть на тему крестьянского сына, приехавшего из деревни, так похожего издали на Алена Делона, которому до сих пор не может отдать Валя честная один рубль шестьдесят копеек (за лангет с картошкой фри и с зеленью и за компот…) «Если б этот медик тебя любил, то простил бы тебе, что так дёшево продалась, дура», – сказала Капуста со свойственной ей прямотой женщины, находящейся на трудных заработках у Дубла. «Лучше покажи, что ещё нарисовала…» Ушла Капустова, не понимая, в чём горе Родынцевой, почему она такая одинокая перед всеми, перед людьми и перед космосом: все по одну сторону, она, Родынцева, девчонка восемнадцати годков – по другую. И – никакой нет оболочки. Отец, он покатился, но вскоре встал на правильный путь. А она и до сих пор несётся, словно по орбите в никому не нужном полёте, не понимая главного: что тут творится на Земле…
Едет Валька в кабине «шаланды», но мысленно снова проходит, точно сквозь строй. До ушей долетают крики множества мужчин, полные изощрённо-гадостного смысла. То, о чём они просят, делает её голой перед ними, перед всеми мужчинами на Земле («Если бы парни всей Земли…») Их крики – одно животное влечение, оно не прикрыто весельем. Это крик всех на свете неудовлетворённых мужчин. Уставясь в землю, красную от кирпичной крошки, мимо окон без стёкол, где по ту сторону густой металлической решётки гогочут, улюлюкая, выкрикивая животный позыв, кажется сотни мужских ртов, искривлённых тревогой плоти, она проносится, словно через костёр лёгкой добычей. Ей никогда не отмыться от кирпичной пыли кирпичного завода… Сознание-то она потеряла на две секунды, не больше. «Я тебе что говорил, надо у того крыльца позвонить, там звонок есть, а не бежать к тому, где входят работники зоны. Носишься тут, как шальная» (и матом…) Но и охранника крыл Валерка Киряев: «Ты ей чуть руку не оторвал…» «Лучше бы и оторвал, чем влетела бы к зэкам в цех», – ответил тот и тоже матом добавил. Разобравшись с ним, Валерка, сам ей чуть другую руку не вывихнув, втащил в кабину «шаланды» (она бы и сама туда с удовольствием скрылась).
Валька едет в кабине грузовика, чувствуя, как хорошо в защищённом месте. С одной стороны лес, с другой – пригородный посёлок. Солнце здесь не жестокое, оно иногда прячется за верхушками высоких сосен. Лес окатывает в приоткрытое окошко таким духом, будто на планете рай. Валька вдыхает, стараясь не шевелить рукой: неужели распухнет? Как же тогда рисовать, краситься как? …А зэки-то сгрудились у окон: спектакль – машина с воли, девчонка разноцветная; спас охранник, а то бы влетела в цех. «Кирпичный завод», – слова ненужной накладной, которую она забыто держит в левой руке, слова, проявившиеся под её слезами… Нет, ей никогда не сидеть с Никитой за мирным ужином в уютной комнате мечты, а вот на кирпичный, к зэкам, это, пожалуйста… Она открывает сумочку, радуясь застёжке, достаёт зеркальце, смотрит на своё лицо, трогает пальцем, как слепая, уже смазанные губы. Неужели больше никогда их не накрасит с таким удовольствием… Да, и деньги… Опять денег нет…
Сама во всём виновата: получку тратит быстро (то чулки, то шарфик, не говоря уж о больших покупках: кофточка, блузочка). Отец, конечно, и продукты привозит, и даёт десятку-другую, Надежда Григорьевна с собой пирожков, а то и суп, чтоб дома только разогреть, ведь у них Димка… Но, мало того, они ещё ребёночка решили завести, этот будет совсем родным братиком или сестричкой ей, Вальке. Она не против, но у них мало денег. Почему страна у нас такая счастливая, а у людей денег нет? А каждый вечер надо что-то есть, и в кино охота, а там – мороженое, лимонад, бутерброды с красной рыбкой – большой дефицит. Но денег нет на приятный вечер, и она сидит в своей комнате, перегороженной на две: топка печи выходит в коридор. Дворничиха Фиса, которая живёт в подвале, накидает среди дня дров, чтоб Валька совсем не замёрзла (вход для Фисы в их сарай свободный), протопит, ну, а после идёт за деньгами. Уже задолжала даже Фисе! Хорошо, весна началась, но в комнате зябко и со включенным масляным электрообогревателем (отец с работы притащил). За электроэнергию натикало – страшно подумать, расплата впереди. Где денег взять? Вместо этих туфель приглядела настоящие, взрослые. Пока есть в Доме обуви, где с обувью не густо, надо срочно брать…
Сидеть в темноте вечера, глядя из окна на церковь, – скука, потому-то она, одевшись во всё новое, выходит. На улице по зиме встречала удивлённые взгляды женщин (они в тёплых шубах, в пальто с каракулевыми и цигейковыми воротниками). Милиционеры тоже взглядывали, словно вцепляя взгляды-крючки (рыбаки в рыбку), их полно, берегущих человека милиционеров. Центр города всегда празднично освещён, люди снуют в весёлом темпе, будто именно здесь собираются каждый вечер те, у кого всё хорошо, и остаётся лишь выплёскивать свой задор на улицу, идя рядом с кем-то, шутить, смеяться. Некоторые парами, иные группами. Сразу видно: дома у них уютно, можно бы и дома посидеть, но лучше прогуляться в этот хмуроватый ненастный вечерок. Валька Родынцева бежала каждый вечер в толпе людей, ловя химический яркий свет вывесок, заглядывая в стёкла витрин, отражаясь в них не одиноко, а дружно бегущей с другими людьми, в одном с ними ритме. И всякий раз, выскочив из дома, она будто надеялась на какую-то радость в этот именно вечер; будто отсюда, с улиц, поджидала удачную перемену в своей судьбе. Все улицы названы именами революционеров. Истории их жизней не знает Родынцева, а ведь какие люди великие: Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин… Она ещё надеется, что узнает о них всё: прочтёт и запомнит. Возвращаясь в старый дом, который нечего считать памятником архитектуры, да поскорей снести (как выстроят гостиницу «Космос», снесут обязательно, и будет голое место и больше ничего), глядит она в окно на церковь, плохо освещённую фонарём. Пошевелиться ей страшно: за спиной дверь в коридор, и вот вошёл кто-то потихоньку…
Однажды чуть не вскрикнула от страха, но оказалось – соседка принесла урюк (мешками присылают людям с юга сухофрукты). Выложила на стол пакет, отругала, что дверь на крючке не держится. Эта соседка добрая, но у неё большая семья, сын вернулся из тюрьмы, теперь наркоман, и она мечтает о расширении. «Я бы на твоём месте в общежитие ушла» (как Надежда Григорьевна – советчица). Валька, может, и уйдёт. Иногда хочется ей, чтоб койка в комнате с другими девочками, чтоб вместе дружно обсуждать радио и телепередачи. В общежитии наверняка есть большой хороший телевизор. А тут что? Сидишь, смотришь на эту церковь (мама на неё крестится). А никаких крестов там не осталось! Жаль, что не уйти ей в общежитие! Это счастье от неё отрезано. Кто её туда возьмёт, в мир других людей! У неё червоточина в виде продажи тела за ужин в кафе. Придётся терпеть это жилище, где стены толщиной в метр, а до потолка – пять.Грузовик въезжает во двор стройки. Сердце схватывает ужас неотвратимого: решила – надо выполнять, «партия велела, комсомол ответил: «Есть». Вылезает из кабины, затекшие ноги приятно ступают по утрамбованной грязи строительного двора. На перекрытиях, на фоне яркого голубого неба нарастающего, дальше ширящегося дня, появляется короткая широкая фигура Гриньки. Кран разворачивается, снижают стропы, подтяжками провисающие над кузовом. Стропаль машет рукой, чтоб вирали. Первый поддон отделяется от других, болтаясь высоко безделушкой, дымясь красноватой пыльцой.
– Кладовщыца! Не забыла про «бой»? – кричит Гринька, чтоб посмеяться над её должностью.
У неё до апреля и склада не было. Теперь есть, квартирка на первом этаже, запертая на амбарный замок. На крик этого кирпичника раньше отвечала что-нибудь, сегодня нет. Сидя на разогретых солнцем досках, пахнущих смолой, которая напитала каждую из этих почти прозрачных досочек, смотрит, как Петька с Гринькой принимают на перекрытиях поддон, Лукин кладёт стену со двора, Рафаил («девщёнка ты, девщёнка…») – с торца, обоих видно, а Игната, – он на фасаде, – не слышно. Ей приятно о нём подумать. Надо же: перекрикивает электричку…
Горе, какое большое горе у неё! Случилось оно вчера, когда после работы она пошла к мединституту встречать Никиту. Весна свирепствовала, солнца было так много, что избыток действовал на нервы. От светила Вальке тяжело: не бодрит, а придавливает чрезмерной яркостью и напором. Солнце работает настойчиво, как радио на столбе. Оно – сильнейший духовой марш, под который приходится маршировать, не жалея ног и обуви. Но где взять силы и необыкновенную радость за победы на пути к ещё более яркому солнцу, к ещё большему венцу побед в отдельно взятой прекрасной стране, родине Вальки Родынцевой? И где взять для такого марша обувь?..
Наконец, смогла укараулить: из высоких дверей хлынули студенты. Боясь пропустить, очки с яркими стёклами, делающими всё вокруг ядовито-зелёным, сдёрнула с лица. Главное: скажет о любви… Любовь не может быть безответной. Если кто кого любит, то другой тоже полюбит, согласившись с чужим чувством. Неужели есть безответная любовь? Она, конечно, слышала о таковой («Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?») Действительно – зачем? И есть ли? Никита (так считает) только потому ещё не полюбил её окончательно, что не уяснил, как же она сильно его любит. Все её думы о нём и крутились вокруг этого необходимого объяснения. Встретятся, – объяснит, и от любви такой силы он не откажется. Нечасто такая выпадает на долю. Вальку бы кто-нибудь полюбил также, она бы не оттолкнула такого человека. Вот Игнат, полюби её, например, Игнат… Все эти вечера в одиночестве она только и думала о предстоящем разговоре у мединститута. А потому, когда увидела, что студенты стали выходить из дверей, повторила про себя ещё раз всё, что наметила сказать про свою любовь.
Студенты выбегали из дверей. Непонятно, как их всех вмещал с виду небольшой дом. Казались они все одинаковыми, но сердце ёкнуло, узнав знакомого студента, погнало кровь к голове, заставив вздохнуть глубоко, чтоб не упасть, чтоб выдержать. Распрямилась и пошла навстречу. …Никита остановился и тут же стал говорить культурные чудовищные слова, потом слабо замахнулся на неё портфелем и стал уходить прочь тяжёлым уверенным шагом. Никита Алексеев – молодой король её сердца… «Знаю, ждёшь ты, королева, молодого короля!» Конечно, портфель тяжёлый, и, если бы угодил по вытравленной перекисью причёске, то, наверное, было бы, худо (как от менингита)… Никита Алексеев, значит, шутил, смеялся, но в итоге сделал правильный медицинский вывод о том, что так бывает и после родов, ну, и загрустил… А она долго не понимала, что к чему… Он похож на поэта Сергея Есенина (портрет в косоворотке). Вырезав из журнала, прикнопила на стенку над кроватью немного криво и оттого кажется, что поэт склонил голову к Вальке, прислушиваясь к её мечтам и к её любви. Некоторые стихи знает. Вот про короля-то тоже он написал, Серёженька. Или ещё: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» Кровью. Перед тем, как повеситься. Какие уж тут приготовленные слова о любви… Какая тут любовь… Тут не любовь, тут медицина.
Побрела она сквером, глядя сквозь очки: стёкла рыжие, ехидно-зелёными сквозь них кажутся облака боярышника и сирени (клёнов и лип тут нет). Какой вокруг ехидно-радостный мир… Плача под очками, сделалась почти слепой. Захотелось оттолкнуть от себя землю, точно ящик под собственной виселицей, взвиться да улететь, ничего тут не оставив. «До свиданья, друг мой, до свиданья»… Где же теперь ей взять сил, весу (больше, чем бараний) для земного притяжения?..
Не заметила в своих думах, как закончилась разгрузка, как уехал Валерка Киряев, а каменщики спустились с недостроенного дома. Сердце охватил ужас неотвратимого. Недавняя мысль стала руководством к действию, ещё бы обмозговать: всё ли верно? Но легко сказать, обмозговать, – в голове нет мозгов, – одни слёзы, катятся они по щекам, падают из давно ими смытых глаз.
– Всё! Конец! Всё пропало, на веки вечные! – пробормотала вслух и довольно громко, метнувшись в вагончик, из которого гуськом ушли работяги в сторону детсада (за ним – столовка). На столике всё тот же осколок зеркала, прислонённый к жестяной банке из-под «завтрака туриста» с окурками. Лицо распухло, глаз совсем нет. Отчего такая уродина, да ещё продажная, хуже Капусты, такую только в обжиговый цех, к зэкам, как сказал Валерка Киряев. Как же Никита замахнулся портфелем… Дома смотрела, рыдая, на фотографию: косоворотка, родное любимое лицо (не Никитино, конечно). И вспомнила написанные им своей кровью слова. И она проколет палец (как для анализа крови). И напишет: «Прощайте, товарищи, да здравствует коммунистическая партия Советского Союза и её верный соратник комсомол!» Пусть строят без неё. Ей пора на склад…
Каменщики вернутся через час. В этой «тошниловке», как скажет Игнат, очередь к раздатке от входных дверей. Замок открыла, дверь притворив. Замок, к сожалению, навесной, и квартира изнутри не закрывается. Тишина. Она одна на стройке. Тут подходяще – сумрак. Вот «бухта» провода (в «деревянной» накладной написано: «ППР»), много метров, ей надо небольшой кусок. Отрезала ножиком, валяющимся на стеллаже, глянув в окна: вдали сплошное солнце. Вязать умеет, плести может из цветного провода браслеты. У неё ко всем художественным ремёслам талант, – считает отец. «Если не станешь поступать в этом году в ПТУ на ковровщицу или на роспись посуды, сам тебя за руку туда отведу». Ага, обрадовался!
Вот и готово, сплела прочно: какой угодно вес выдержит, а уж её вес запросто. Теперь зацепить петлёй, что поменьше, за один из крюков, на которых висит полка стеллажа. Для этого придётся встать на ящик с гвоздями (он всё равно понадобится – всё продумала, молодец!) Но оказался ящик этот ей не под силу, не сдвинуть (гвозди – металл, тяжёлые, в накладной сказано: «двухдюймовые»). Пришлось колючими горстями вынимать, ссыпая рядом. Быстро работая, добилась: поддался ящик, толкнула его руками перед собой по бетону не застеленного досками пола, и вот он уж возле другой стены! Петелька зацепилась сразу! А для большой петли пришлось подкоротить провод, сделав на нём несколько узлов. Готово! Покачала ногами ящик, вполне можно оттолкнуть, и петля… Хотела накинуть, а тут шляпа! Зелёная, цвета первой робкой зелени…
…И почувствовала Валька: чья-то нежная рука с её головы снимает шляпу, кладёт аккуратно на чистую древесную полку. «Не страшно…» Мама над ней, над стеллажом, в синеньком халатике в цветочках. Да и сама Валька, вроде, поднялась над землёй. Петля, словно белые новые бусы, словно подходящее украшение, сидит на её шее, пока слабо, но с полной возможностью затянуться, как только каблуки-шпильки окончательно вышибут опору из-под ног. Они справились, правда, один каблучок затрещал, готовый оторваться… Вот-вот следом за мамой выплывет Валя-комсомолка на пустырь за домом, унесётся далеко от стройки-страны, позади будет город, а рядом закачаются белыми кораблями невесомые облака…
– Ты что творишь, сестрёнка?
Её, лежащую на полу, бьют по щекам. Петля качается сама по себе. Второй раз на дню потеряла сознание. В горле першит. Забыла: Игнат не ходит в столовку, ему дочка приносит в судках: первое, второе, чай пьёт в вагончике.
– Вешаться грех! – говорит он твёрдо.
– Зачем ты меня спас! – разозлилась она.
Но Игнат (вопрос за вопросом) понял, что к чему: про любовь, про медицину и про «лангет плюс компот»:
– Нашла, из-за чего вешаться.
Вдруг, у неё вырвалось:
– Мне маму жалко. Она приходит…
– …но твоя мама, вроде, умерла?
– Ну, и что?!
Пришлось и это объяснить.
– Пойди в церковь, поставь свечку.
А как же комсомол, поступь народа и партии? Такой отсталый, такой не идейный этот Игнат! Может, ещё скажет – надо молиться? А космос, спутники и коммунизм, который не за горами?.. Хотела это сказать, но промолчала, так как подумала, что мама, пожалуй, одобрит насчёт свечки.
– А когда её похоронили? – будто догадался о чём-то ненормальном Игнат.
– Сожгли. Отдали мне вазу с пеплом запечатанную, стоит у меня в комнате на подоконнике в уголке.
– Да ты что! – испугался кирпичник, лицо сделалось кирпичного (не шамотного) цвета. – Срочно захорони!
– Отец обещал, да он так… переживает. Боюсь ему напомнить, вдруг, опять запьёт.
Игнат говорил про этот пепел и когда поднимались вместе лестничными маршами без перил. Он предложил в ближайший выходной поехать с ней на кладбище… Валька забыла про тушь, помаду, туфли (на одном шатался каблук) и шляпу, оставленную в помещении склада на стеллаже.
Над перекрытиями плыли облака, по мосту бежали люди, внизу по рельсам шли поезда (чип-та, чип-та, чип-та). Облака плыли, они парили над планетой Земля, утекая за горизонт, чтобы где-то там, вдали, пролиться на неё первым весенним дождём.
– Стой тут. У края без страховки не положено, – сказал он и пошёл класть дальше стену недостроенного дома.
Плакала Валька.«… как жену чужу-у-ую…», – пел Игнат.
Маленькая монетка талант. Послесловие автора
Татьяна Чекасина.
Один мой персонаж сказал, что в молодости человеку бывает куда труднее, чем в зрелости. Молодость, а особенно ранняя юность, далеко не для всех бывают радостными, беззаботными и с полной уверенностью в себе. Иногда это бывает тяжелейшее время, полное опасностей. В этом произведении речь идёт как раз именно о таком варианте судьбы.
Мой персонаж, молоденькая девушка Валя Родынцева живёт в далёком прошлом, когда в стране строили коммунизм. И этой стройкой очарована эта весьма незрелая девушка. Практически в раздвоении личности (именно потому взят подзаголовок «Медицинская история») мечется по жизни это юное существо. Душа её тянется к истинному, природному таланту, который ей дан Богом, но она до того заморочена навязанной пропагандой идти этой самой дорогой коммунизма, что почти и не замечает своего дара. Одна надежда: повзрослеет сама и строительство коммунизма в том формате жёсткой пропаганды, в котором оно идёт, тоже как-то приостановится… За неё страшно. За неё больно. Она идёт по краю. Её жизнь, словно бег по дырявому мосту, стояние по над обрывом, по над пропастью…
Такая ситуация, надо сказать, типична для практически всех неординарных людей в юности, в период, пока не установилось осознания того, кто ты есть сам и зачем послан в этот мир. При этом не столь уж важно, что в это время строят в твоей стране: коммунизм или капитализм… И даже не имеет никакого значения, в какой стране это всё происходит.
Это произведение могло быть написано хоть кем, человеком любой национальности, любым гражданином любой страны. Но в нём есть определённый персонаж, с определённым характером, поступками и довольно чётко угадываемой судьбой. Можно сказать, что это классический портрет. Великая художественная литература знает немало произведений-портретов. Иные даже имеют такие подзаголовки, иногда само слово «портрет» проникает и в само название. Могу привести пример такого романа Джойса под названием «Портрет художника в юности». Разумеется, этот пример не подразумевает даже малейшего сходства моего произведения с этим. Всё, что я пишу, это исключительно моя сфера, мой оригинальный мир, вышедший в той или иной степени из моей собственной судьбы. Но моя Валька Родынцева тоже художник в юности. Её путь в жизни не может быть лёгок, она имеет упрямый, сложный характер. И ещё она – женщина, и это ещё один фактор трудности. Главное для такого человека – сохранить свой талант. Талант, это ещё и монета [2] , которую можно и в землю зарыть, и просто потерять на жизненном пути.Татьяна Чекасина
Лауреат медали «За вклад в русскую литературу»
Член Союза писателей России с 1990 г.
(Московская писательская организация)Примечания
1
Болгарский табак, название сигарет.
2
Денежная единица в древних странах Малой Азии.