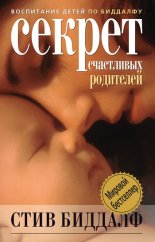Война красива и нежна Дышев Андрей

Начальник политотдела велел командиру артдивизиона истопить для себя баню, прибрался в своих апартаментах, поменял простыни, накрыл стол, колбаски порезал, баночный сыр вывалил на тарелку, вино-водка, югославские конфеты – красота! Смахнул пыль с магнитолы, вставил кассеты Розенбаума и Пугачевой. Помощнику по комсомольской работе приказал: Гулю Каримову ко мне на собеседование с комсомольским билетом!
Встретил он ее в кабинете, встал из-за стола, растягивая губы в улыбке и едва сдерживая голодный взгляд, протянул руку. Присаживайтесь. С уплатой членских взносов все в порядке? Общественной работой занимались? Комсомольские поручения были?.. Да, хороша баба! Какие формы! Бедра! Грудь маленькая, но это даже лучше. А мордочка просто загляденье! Глаза черные, чуть раскосые, носик кверху, бровки как ниточки, зубки ровные, блестящие. Что-то в ее лице озорное, хулиганское, даже дерзкое, и какое, должно быть, сильное и гибкое ее тело, как дурманяще пахнут ее волосы, как свежи и вкусны ее губы, как нежна кожа… Начальнику политотдела стало жарко. Он добавил мощности кондиционеру, путано и бегло обрисовал военно-политическую обстановку, поинтересовался планами на будущее, желанием вступить в партию, обратил внимание на необходимость серьезного отношения к ленинскому зачету и пригласил на ужин к себе домой, потому как на довольствие в столовой ее поставят только завтра утром.
Гуля растерянно кивала, плохо понимая, о чем говорит этот грузный мужчина. Ей все тут было в диковину, она еще не пришла в себя после полета на военном транспортнике, после Кабула и штаба армии, после беглого, полного мутных намеков инструктажа и советов попутчиц, и ее робость и смятение все больше возбуждали начальника политотдела. «Я тебя в обиду не дам, – заверил он, неожиданно перейдя на «ты». – Здесь у нас сложилась хорошая традиция брать шефство над комсомолками. Я лично буду следить за тем, чтобы у тебя были все условия для плодотворной работы и идейно-политического самосовершенствования».
Она еще ничего не понимала, а дивизия уже знала, что это Гулька-Начпо, и на нее с плохо скрытой завистью и ненавистью пялились машинистки, официантки, инструкторши по культмассовой работе, продавщицы и медсестры. Вот же сучка! Только приехала, и сразу под крылышко самого начальника политотдела дивизии! А это значит, что здесь она будет как сыр в масле кататься, и шмоток у нее будет навалом, и в дуканы, когда захочется, и продукты у нее будут самые лучшие, и вино, и шампанское. И, конечно же, власть. Попробуй скажи кривое слово подруге самого начальника политотдела! И заискивать придется, и стелиться перед ней: «Гулюшка, солнышко, а ты не могла бы попросить Владимира Николаевича, чтобы он отправил ходатайство в брянский горсовет об улучшении жилищных условий моей мамы… Гулюсик, намекни Владимиру Николаевичу, чтобы представил моего Ткачева к досрочному «капитану»… Гулюнчик, выручай! Завтра в Союз борт летит, меня в списки не внесли, а мне так срочно в Ташкент надо! И будет Гулюсик самолично решать, чью просьбу можно принять во внимание, а чьей – пренебречь. А то как же! Влиятельная особа! Гулька-Начпо!
Но так могло быть в будущем, а пока Гуля Каримова, растерянная, со спутавшимися мыслями, возвращалась в медсанбат, смутно догадываясь о том, что все произошедшее – не случайно, что она уже попала в переплет, втянулась в какую-то игру, правила которой ей еще не известны.
А начальник политотдела доложил члену военного совета о ходе подготовки к выборам в местные советы народных депутатов и успешном изучении личным составом дивизии материалов пленума ЦК КПСС, затем сходил в баню, попарился, тщательно перебрал все свои кожные складки, промыл их и прополоскал, освежился иностранным одеколоном и пошел к себе в апартаменты. Там он придирчиво осмотрел стол, поменял местами бутылки и баночки с газированным напитком «Си-си», добавил еще баночку рижских шпрот, включил музыку, поправил на окнах непробиваемые шторы. Он немного волновался: все ли у него получится, как положено? Война – это такая фигня, что все человеческое из тебя вышибает. Это, блин, не санаторий. Это безобразие и издевательство над организмом. Война одним словом… Больше не нашлось слов о войне, на которую полковник собирался списать свои возможные неудачи. Собственно, о ней он знал только по тактическим картам и политдонесениям. Для начальника политического отдела дивизии места в боевых порядках не предусматривалось. На него возлагалась обязанность вдохновлять солдат и офицеров на подвиги во благо идей интернационализма – ни больше, ни меньше.
Но Гулю Каримову он ждал в тот вечер напрасно. Молоденькая медсестра в то самое время, когда полковник сдувал пыль с навороченного «Шарпа» и прибавлял звук песне «Все могут короли», плакала навзрыд, сидя на жесткой и скрипучей солдатской койке в своей комнате. За окном шелестел песком ветер «афганец», сквозь тонкие фанерные перегородки доносились звуки музыки, звон посуды и разговоры; кто-то гремел в коридоре тазами, шумела вода, шлепали по линолеуму тапочки. Обычная женская общага, к которой Гуле не привыкать. Обычная, в общем-то, воинская часть. Обычные вокруг офицеры со стандартными шуточками и липкими намеками. И столовая более-менее, Гуля видала и похуже. Вот только пациенты в палатах не совсем обычные. Никто ее не подготовил, не предупредил. «Пойдем, познакомишься с контингентом…» Пошли по палатам. И там Гуле стало плохо. Вроде все знала и понимала: да, здесь война, тут стреляют, тут подрываются на минах. Но каким умом можно понять молодого офицера-таджика (лет 25, не больше), у которого по колени ампутированы ноги. БТР перевернулся и придавил, словно огромными тисками. Лежит на койке красивый парень с хорошими белыми зубами и плачет. Культи перебинтованы, сквозь бинты просочилась кровь. Потом ее подвели к солдату, у которого осколком от кумулятивной гранаты срезало нижнюю челюсть. Кунсткамера! Фильм ужасов! Затем при ней сделали перевязку сержанту с неимоверно распухшим синюшным лицом без глаз, без губ и без носа – БМП подорвалась на мине, солдата вышвырнуло взрывной волной через люк, и он ударился лицом о броню. Носовой хрящ расплющился и вошел в носоглотку, все передние зубы раскрошились и вонзились в небо, оба глаза вытекли, и отекшие веки вывернулись наружу.
Гуля выбежала из модуля, закрывая ладонями лицо. Истерика по полной программе. Здесь привыкли, что новички так реагируют, кто-то криво усмехнулся и покачал головой: «Присылают же слабонервных!» Гуля плакала долго, даже подвывать начала. Ее соседке по комнате, высокой и худой медсестре Ирине, эти вопли скоро надоели, и она прикрикнула:
– А ну прекрати! Быстро возьми себя в руки! Не знала, куда едешь?
Гуля, безуспешно борясь с собой, покрутила головой – не знала.
– Теперь будешь знать! И хватит орать, людей только пугаешь!
Гуля в одно мгновение возненавидела эту грубую женщину, этот медсанбат, эту нищую и жестокую страну, в которой происходили такие страшные вещи. Возненавидела все, что было вокруг нее. Одиночество, отчаянье и боль охватили ее. Стемнело. Где-то за стенкой что-то шумно отмечали. Тихо звучал мужской баритон. В ответ раздавался визгливый женский хохот. «Как они могут?!» – с ужасом думала Гуля. К ней зашел ее новый начальник, ухоженный, плотненький капитан-анестезиолог. Сел рядом на койку, весело потребовал вытереть слезы. Потом сказал: «Ты им нужна».
Это было не красивое словечко, это была правда. Очень нужна была Гуля и безногому таджику, и солдату без челюсти, и сержанту без лица, и контуженному старлею с пулевым ранением плеча. Старлея звали Валера Герасимов. Когда ему разрешили вставать, он стал ходить к ограде за столовую. Там был укромный закуток в тени столовой, стояли наспех сколоченный стол и скамейки. Друзья приходили к Валере каждый день, приносили сигареты, холодный шашлык, самогон, который называли мадерой. Они сидели там тихой компанией, изредка выдавая свое присутствие взрывным хохотом. Гуля вычислила Валеру.
– А ну-ка разбежались быстро, пока я командира не позвала! – сказала она строго и шлепнула ладонью по столу. Подпрыгнули две пластиковые кружки. Хорошо, что уже пустые были.
– Уходим, уходим, – ответил командир взвода Сачков. Его представили к ордену Красной Звезды, но в штабе армии представление завернули. Сачков оказался беспартийным. Он заикался, а передний верхний зуб был частично сколот, оттого Сачков напоминал дворового хулигана.
Валера взял медсестру за руку и представил ее:
– Мой ангел. Она меня выходила.
Гуля покраснела. Она вовсе не сердилась и выследила Герасимова не потому, что рьяно следила за соблюдением режима. Валера ей нравился, и она неосознанно стремилась чаще попадать в поле его зрения и оказываться в центре его внимания.
– Может, твой ангел выпьет с нами? – предложил Кавырдин, командир пятой роты, пьяница и дикарь, вжуть одичавший за год пребывания на блокпостах. Он приехал на базу всего на день – привезти «двухсотого» и забрать молодое пополнение. Лицо его было черным и сморщенным от солнца и соляры. Его рота живым и бессменным щитом стояла вдоль дороги между Южным Багланом и Пули-Хумри. Кавырдина обстреливали каждый день, то сильно, то не очень, а он огрызался и пил. Духи жгли колонны, Кавырдин растаскивал горящие машины, матерился в эфире, прикрывал броней хрупкие КАМАЗы, плевался свинцом по кустам и обломкам дувалов и снова пил. Он вместе с бойцами месяцами спал в технике, жрал стылую, крошащуюся баночную перловку, баловался косячками, настаивал брагу в канистрах из-под бензина и регулярно заваливал проверки по политической подготовке. Его ругали, объявляли выговора, его фамилия стала нарицательной, этаким синонимом разгильдяйства и безответственности, ему грозили разжалованием, требовали немедленно исправить недостатки, оформить ленинскую комнату, завести журнал политзанятий, законспектировать труды классиков марксизма-ленинизма, но Кавырдину все было похер, он не исправлялся, он безостановочно продолжал отстреливаться, плеваться свинцом, лезть в огонь, материться в эфире и пить. Он был нерадивым офицером, и эта нерадивость отпечаталась на его лице: с него не сходило выражение вечной вины перед сытыми и облизанными генералами из Ташкента и Москвы. Простите, чмо я болотное, а не идейно-образцовый офицер; простите, что мне некогда обустроить ленинскую комнату, расписать планы занятий с личным составом, посадить цветочки вокруг палатки, помыть бойцов, постирать обмундирование, навести на щеках здоровый румянец, а глаза заполнить молодцеватым блеском – таким, как на картинках в общевоинском уставе; простите, что я, как жаба болотная, месяцами сижу в промасленной, прогорклой бээмпэшке, гляжу в триплекс, выискиваю среди развалин чалмы, что я грязный, небритый, худой, злой, что мне жопу подтереть нечем, потому как почту привозят всего несколько раз в год, и газет «Правда» всем не хватает; простите, что духи упертые, как черти, и стреляют изо дня в день, и у меня уж сил нет воздействовать на них, уж сколько патронов, подствольных гранат, снарядов перемолотили – не счесть, а толку все никакого, простите, простите, простите… Ах, вот опять стреляют, «летучку» сожгли, я бегу в огонь, я стреляю, я матерюсь в эфире, я вытаскиваю людей из пламени – черного, копотного, – вот такая я грязная и безответственная скотина, нет у меня ленинской комнаты и, наверное, никогда не будет…
И своими закопченными пальцами с обломанными ногтями он взял пластиковую кружку (позаимствовали в инфекционном отделении), плеснул в нее самогона из синей бутылки из-под пива и придвинул Гуле.
Гуля, ангел Валеркин, даже сразу не сообразила, как ей поступить. Безобразие, конечно, это все, но какое забавное безобразие, какое милое, и парни какие хорошие: словами не передать, почему с ними рядом так приятно, так тепло и просто. Гуля зажмурила глаза от собственной дерзости, взяла кружку.
– Ну, ладно. За здоровье. За ваше здоровье…
Выпила, поперхнулась, закашлялась. Увидел бы эту сцену командир, так сразу бы слюной подавился. Медсестра квасит с больными за модулем!
Что-то привязало ее к Валерке. Она восхищалась им. Она видела его полураздетым на перевязках, и ей представлялось, что она видит его душу, такую же обнаженную, очень простой конструкции и очень живую. В нем удивительно сочеталось жизнелюбие с пофигизмом. Он на все смотрел с тем снисхождением, с каким взрослый человек смотрит на заботы и проблемы ребенка. Он ничего не боялся, он словно был бессмертным, как бог, и ему принадлежал весь мир. К своему ранению он относился так, будто его тело было дешевым, но вполне надежным приспособлением, которых в каждом магазине – завались, лежат на полках, покупай не хочу, если надо будет, то поменяю на новенькое; да что ж ты так трясешься над этой раной, да фиг с ней, налепи пластырь и давай лучше о любви помурлычем; какая война? да черт с ней, с этой войной, нашла, чем голову забивать, лучше ответь, знаешь ли ты, как из сухого печенья и сгущенки торт сделать? Тогда слушай, рассказываю… И так с ним было хорошо, так спокойно, так просторно, словно рассыпались вокруг них все стены и препятствия, и повсюду – только зеленые бескрайние поля, да голубое небо…
Она влюбилась в него, как идиотка.
Начальник политотдела подослал к ней помощника по комсомолу Белова. Тот, несмотря на свое потное и пахучее телосложение, умел расположить к себе женщин. Отвел Гулю к фонтану, прогнал бойцов, скребущих жесткими вениками по дорожкам, и начал издалека. Вот, мол, приближается ленинский зачет, надо законспектировать работы да выполнить поручения, и вообще пора включаться в активную жизнь подразделения, принимать участие в выпуске стенной газеты… давай-ка присядем… и тут еще вот какое дело… понимаешь, здесь ты оказалась не случайно, тебя должны были направить в полковой медпункт в Пули-Хумри. Понимаешь, жуткое место, сплошной тиф и гепатит, жара, пыль, грязь, привозная вода. Понимаешь, молодые женщины там за год в беззубых старух превращаются… Но вот благодаря усилиям Владимира Николаевича тебя, понимаешь, оставили здесь. И теперь он как бы берет над тобой шефство. Понимаешь, здесь женщины сами по себе не могут быть. Восточная страна и все такое. Здесь женщины должны находиться при мужчине… Так положено. Такая традиция… Вот библиотекаршу знаешь? Так она как бы с Николаем Сергеевичем, ну да, со спецпропагандистом. А начальницу столовой знаешь? Она Рящучка, то есть, она с замом по тылу Рященко… Понимаешь, да? А ты, значит, с Владимиром Николаевичем… как бы… Он тебе, значит, всякое хорошее добро, а ты, значит, как бы с ним… Понимаешь, да? И если он тебя приглашает к себе, то отказываться не следует. И ни с кем, понимаешь, любезничать не желательно. А Герасимов, чтоб ты знала, женат, и вообще, он человек не хороший, у него потерь много, недавно под Айбаком у него половина роты полегла. На него уголовное дело завести хотели, да пожалели…
Говорит, а сам маслянистыми глазами поглядывает на ее ножки, ручки, пухлыми пальчиками щелкает, изо всех сил старается, волнуется – а то как же! если бабе мозги как следует не вправит, то Владимир Николаевич ему яйца оторвет, и ни ордена, ни замены в Одесский округ.
– Я подумаю, – ответила Гуля.
– Ага, подумай, – согласился Белов. – Только побыстрее. Владимир Николаевич ждать не любит. И вообще, он такой человек, что если кто ему понравится, то это надолго. И если не понравится, то тоже, считай, навсегда… Это я про Герасимова. Не порти парню карьеру. Ты же его подставляешь.
И чтобы как-нибудь смягчить чрезмерную прямолинейность, Белов не по теме добавил:
– Ты в библиотеку еще не записалась? Книжки писателя Василия Белова читала?
– А что, это ваш родственник?
– А то как же!
– Отец, что ли?
– Еще спрашиваешь!
– Правда? – восхитилась Гуля.
Белов врал, к писателю Василию Ивановичу он никакого отношения не имел, но врал мягко, косвенно, подводя собеседников к тому, чтобы они первыми спросили о его родственных связях с классиком отечественной литературы. Вообще, помощник по комсомолу любил приврать. Ему не хватало славы и почета. У начальника политотдела он был мальчиком на побегушках, за что его презирали боевые офицеры. Белов страдал, сочинял о себе всякие геройские небылицы и распускал слухи по дивизии. За пределы базы он выезжал всего пару раз, и как-то попал под обстрел. Белов ехал в кабине КАМАЗа, и как только загрохотали выстрелы, сжался в комок, спрятался за бронежилетом, который висел на боковом стекле, сунул голову под приборную панель. В роте сопровождения тяжело ранили солдата. Солдат ехал на бронетранспортере, прикрывал огнем незащищенные КАМАЗы, и пуля угодила ему в щеку, раздробила часть челюсти. Белов позже распустил слух, что во время боя был с тем солдатом рядом и буквально на себе вынес его из-под огня. Потом он красочно расписал этот эпизод в наградном листе. Многие офицеры при политотделе зарабатывали ордена не мужеством в бою, а собачьей преданностью начальнику.
– Что-нибудь случилось, Гуля? – спросил Герасимов, остановив медсестру в коридоре. – Ты уже не приходишь ко мне, как раньше, не разговариваешь со мной.
Она заглянула ему в глаза. Ее взгляд кричал о любви. «Я хочу, хочу приходить к тебе! Хочу разговаривать с тобой! Мне очень трудно без тебя!»
Гуля рассказала ему о разговоре с Беловым. Герасимов повеселел.
– Валера, я боюсь испортить тебе карьеру. Я не думала, что здесь все так… так сложно.
– Погоди, о карьере потом поговорим. Ты мне, пожалуйста, ответь прямо: кого выбираешь, меня или начальника политотдела?
Она ответила. И понеслось. Каждый вечер после работы она из медсанбата приходила к нему. Валера вырыл в кабинете погреб, посадил на петли оконную решетку, выставил в шкафу заднюю стенку и вырезал лаз в перегородке, отделяющей казарму от кабинета. Никто не мог застать его вместе с Гулей в кабинете. Начальник политотдела взбесился. Потом успокоился. И это спокойствие было страшнее, чем бешенство. Полковник хладнокровно продумывал, как он будет гнобить и ломать Герасимова. Для этого у него был весь арсенал средств, какие имеют в своем распоряжении начальники политических отделов во внутренних, «мирных» округах, плюс к этому суперсредство, жуткое чудище, пожирающее людей пачками, этакая геенна огненная – война.
Для начальника политотдела война сидела на цепи. Он знал, что она рядом, но лично ему вреда не принесет – цепь слишком короткая. Но у него была власть отправлять к чудовищу других людей. У него была власть, почти как у бога: ему было дано решать, кого подвергать риску, а кого нет, у кого отнять жизнь, а кому сохранить.
И этот жалкий старлей еще выпендривается???
Чувство тоски и самоуничижения накатывало на Гулю регулярно. Сейчас – особенно сильно, так, что сдавило в груди и стало тяжело дышать. Она встала под кондиционером, подставила холодному потоку лицо, закрыла глаза. Она – лишнее звено, осколок, засевший в человеческой плоти. Она ломает Валерке не только карьеру, она ломает его семью. Парня в Союзе ждет жена. Через пару дней они встретятся, и все встанет на свои места. Настоящая жизнь там, на севере, за речкой. А тут – сплошное сумасшествие, дурной сон, светопреставление. Здесь все ненормально.
Герасимов позвонил ей вечером, ничуть не опасаясь ушей коммутаторщиков.
– Ты почему не идешь домой?
– У меня нет дома, Валера. У меня койка в общежитии.
– Что-нибудь случилось? – после паузы спросил он.
– Ничего не случилось, Валера. Тебе надо готовиться к отлету в Союз. Я не хочу тебе мешать.
Такое уже было. Что-то похожее она уже говорила, когда накатывало в очередной раз. После ссоры они не встречались день, от силы два, потом все возвращалось на свои круги: кабинет (дом), диван из водительских сидений (супружеское ложе), жаренные на электроплитке кабачки с тушенкой (домашняя кухня), и как будто не было проблем, как будто не обречена была на гибель эта наспех сколоченная модель счастливой семейной жизни. Иногда к ним приходил командир взвода лейтенант Саня Ступин. Молодой и незрелый, совсем мальчишка. Ему еще не приходилось прочувствовать войну. Всего раза три ездил на сопровождение колонн, обошлось без обстрелов. Герасимов смотрел на него, и сердце его сжималось от жалости: «Детский сад какой-то, а не офицер!» Выпив с ним спирта, Валера откидывался на спинку стула, макал колечки лука в соль и говорил:
– Ты, Саня, ничего не бойся. Просто иди вместе со всеми и делай, что должен. И не стесняйся спрашивать. У меня спрашивай, у старшины спрашивай. Забей себе в голову: так надо. Не я, так другой. Мы будем делать это. Эта война выпала нам, от нее никуда не деться. Но запомни самое главное. У тебя есть родители, знакомые, друзья, девушки. Им всем будет очень жалко тебя потерять. Помни об этом. Все время помни об этом. Ты понял меня, Саня?
Саня ничего не понял. Как можно воевать, делать то, что предписано обязанностями командира взвода, и вместе с тем стараться угодить родным, которым будет очень жалко его потерять? Но он кивал головой, делал умное лицо, будто все понял и определил для себя стиль поведения на войне. Собственно, Валера Герасимов тоже ничего не понимал в этом вопросе. А вот Гуля, слушая разговор, искренне верила, что Валерка знает какую-то военную хитрость, и он обязательно останется живым, на крайний случай его только ранят. Легонечко. Как в первый раз, в плечо. И больше ничего с ним не случится, потому что с войной можно договориться, и Валерка договорился. А Саня еще «сынок», ему учиться и учиться надо.
Саня учился. Ротный был для него не просто командиром. Он был для него абсолютным авторитетом, истиной, библией, в которой были даны все ответы про жизнь и смерть. Саня платил ему своей верностью. Он знал про погреб и тайный выход через окно. Он часто провожал Гулю в женский модуль и бегал за ней по просьбе Герасимова. Он был молод, жаден до женских ласк, а Гуля была ослепительно красива, но помыслы его в отношении подруги командира были всегда безупречно чисты. Она сама брала его под руку, когда они шли из полка в медсанбат, а Ступин деревенел от этой близости, немел и отвечал на вопросы девушки скомкано и невпопад. Она ему безумно нравилась, но у него ни разу не появилось даже мимолетной мыслишки, что можно было бы воспользоваться доверием командира и переманить Гулю к себе. В отличие от Герасимова Ступин был холост, и это было серьезным преимуществом. Ведь мог бы он запросто прижать ее к стене модуля в каком-нибудь укромном уголочке и, покрывая ее лицо горячими, как пулеметная очередь, поцелуями, предложить: «Выходи за меня! Распишемся в советском посольстве в Кабуле, нам выделят комнату в модуле, вместе заменимся в Союз, получим квартиру, будем жить в масле! Бросай ты на фиг этого Герасимова, у него куча проблем, не женится он на тебе никогда, у него жена, квартира, все на мази, ты для него всего лишь временная утеха, ППЖ, а я буду тебе настоящим и верным мужем. Да и не пью я так, как Герасимов!»
Сказал бы он так – и неизвестно еще, какие сомнения и замыслы родились бы в голове девушки. Но Саня был бесконечно далек от такой подлости. На Гуле лежало священное табу. Она принадлежала командиру. Это была женщина его ротного. Женщина Командира. И сей факт являлся для Ступина абсолютной истиной, не подверженной пересмотру ни через годы, ни через столетья. Словом, гейзер лейтенантской святости, сотканной из житейской неопытности и юношеской наивности.
Ступин переживал за целостность этой бутафорной семьи так, словно это была его собственная семья. Он их мирил, сводил, склеивал, если что-то вдруг разбивалось. Он считал, что он просто обязан это делать, потому что, во-первых, семья – свята, а, во-вторых, Герасимов просто порядочный и очень хороший мужик, и все, что связано с ним, имеет безусловный знак плюс.
Как-то они сутки стояли на блоке, обеспечивали проход колонны десантно-штурмовой бригады. Кто-то из солдат, едущих на броне, подстрелил барана – неподалеку паслось стадо. Герасимов, чтобы избежать скандала, приказал спрятать барана в бронетранспортере. С ним и вернулись на базу, в автопарке освежевали, половину тушки отдали особисту, чтобы не было лишних вопросов, остальное Герасимов поделил между взводами. Окорок достался ему.
– Ты баранину умеешь готовить? – спросил он Ступина. – Дуй ко мне в кабинет, включай плитку и жарь. Гуля, наверное, уже заждалась. А я сбегаю к вертолетчикам за водкой.
Когда ротный пришел в кабинет, Ступин уже заканчивал готовить жаркое, расстелил на столе газеты, расставил кружки.
– А Гуля где? – спросил Герасимов.
– Она не приходила.
– Не приходила? Странно… Поскучай немного, я схожу за ней.
Вернулся Герасимов скоро. Молча швырнул фуражку в угол кабинета, с досадой пнул ногой табурет.
– Случилось что-нибудь? – спросил Ступин.
Герасимов ответил после недолгого молчания:
– Она обиделась на то, что мы задержались в автопарке, и ушла в модуль старших офицеров.
– А про модуль тебе кто сказал?
– Одна сволочь из политотдела… Убери третью кружку!
Герасимов поставил на стол бутылку водки, сорвал с себя ремень и портупею, зашвырнул их под диван.
– Наливай!
– Насчет модуля старших офицеров тебе могли сказать неправду, – предположил Ступин.
– Только не надо меня успокаивать. Все нормально. Отдыхаем… Тебе сколько раз надо повторять, чтобы ты налил?
– Валера, я не буду пить.
– Тогда топай, я тебя не держу! Баранину солдатам отдай.
Ступин зашел в казарму, расстелил койку, надел бушлат и вышел наружу. С наступлением ночи подморозило, и тонкий ледок ломко хрустел под ногами.
Гуля, оказывается, была в доме офицеров на фильме.
– Ты только не говори, что я за тобой ходил, – попросил Ступин.
– Он думает, что я была в модуле старших офицеров? – уточнила она. – Кто это сказал?
– Он не говорит.
– Какой ужас, – прошептала Гуля. – Валера меня убьет.
Он повел Гулю к Герасимову, собираясь защищать честное имя девушки. Его беспокоило то, что у Герасимова в кабинете был пистолет. Самому Ступину еще никогда в жизни не доводилось переживать ревность, но он искренне верил в то, что она способна затмить сознание. А если ревность подпитать водкой… Месяц назад пьяный прапорщик, «замок» хозвзвода, на почве ревности швырнул в окно своей женщины гранату РГД. Рвануло так, что вылетела оконная рама. Женщину спасло только то, что в этот момент она спала на койке, и взрывная волна, пропитанная дробленным металлом, прошла над ней. Прапорщика не судили, у него было много друзей на базе, он снабжал народ дрожжами.
Дрожжи были сухие, специально подготовленные для полевых условий. В сладкой теплой воде у них начиналась реакция, не хуже чем в водородной бомбе. Брага по виду и консистенции напоминала клейстер. Черпали и пили ее кружками, студенистые комки плохо размешанных дрожжей разжевывали и глотали. Кто еще не привык к этому пойлу, тех иногда тошнило, но привыкали к местной «мадере» удивительно быстро и легко.
Герасимов брагу пил крайне редко, предпочитал раскошеливаться на водку. На войне шерстили брошенные дуканы, находили шароп в полиэтиленовых кульках. Этот местный афганский самогон из кишмиша был необыкновенно дурным на вкус и запах, но по мозгам давал неплохо. После реализации, спускаясь к технике с блоков, после подсчета потерь, после всего пережитого зловонный шароп шел как родниковая вода.
На базу шароп попадал редко. Это была желчь войны, лимфа души, слезы мертвых. Мутная гадость с низшим пределом качества была незаменима на войне. На новогоднем вечере в офицерской столовой была только водка, замечательная советская водка с золотистыми пробками. Для женщин заготовили лимонную шипучку «Си-си» – если смешать ее с водкой, то получится шампанское. Пригласительные выдали всем офицерам полка, свободным от несения службы в новогоднюю ночь, и, разумеется, всем женщинам. Герасимов и Гуля приводили себя в порядок в кабинете. Герасимов постирал форменную повседневную рубашку и стал сушить ее утюгом. Гуля надела длинное платье с золотистым люриксом, которое купила в дукане, туфли на высоком каблуке, затем надолго приросла к зеркалу. По казарме поплыл чарующий запах косметики. Солдаты проходили мимо кабинета командира роты, невольно замедляли шаги и шумно втягивали воздух носом. У многих от волнения стали слезиться глаза. Они привыкли к запаху горелой солярки и пыли, и от запаха духов, который вырвал из глубин памяти что-то светлое, счастливое, доброе и веселое, они впадали в ступор. «Что-то похожее уже было в моей жизни», – думали бойцы, поводя носом у двери кабинета, и не могли поверить, что когда-то давно у них были новогодние вечера, девушки, танцы, музыка, головокружительный запах духов… Безумно, безумно давно это было, да и было ли вообще?
В роте стали собираться друзья Герасимова, чтобы всем вместе отправиться в столовую. Пришел холеный, стерильно-чистый, гладко побритый доктор Кузнецов из медсанбата; с шумом подвалили старший лейтенант Зайцев, замкомандира восьмой роты и командир минометного взвода пятой роты Хлопков, оба подвыпившие, оба с усами, высохшие, агрессивно-веселые; забежал на секунду и исчез в неизвестном направлении Гена Спиваков, начальник связи батальона. Герасимов стоял в клубах пара, прижимая горячий утюг к рукаву рубашки. «Саня! – позвал он Ступина. – Забирай Гулю и идите в столовую. Я подойду чуть позже!»
Ступин, взволнованный доверием и гордый от того, что такая красивая девушка идет с ним под руку на глазах у всего полка, спотыкался всю дорогу. Гуля смеялась, придерживала его: «Ты что, уже отметил Новый год?» Она аккуратно переступала через металлические скобы на бетонных плитах, и сердце ее билось часто и счастливо. Она идет на новогодний бал! А там – свет, музыка, накрытые столы, гости! Какое счастье! Как трепещет ее душа от восторженных предчувствий! Как у Золушки, вырвавшейся из нищеты и унижений и поднявшейся на самый пик красоты, любви и восхищения.
Но – ай-ай-ай! – какая досада! В зале уже было полно народа, и все места заняты. Из штаба и политотдела дивизии пожаловали незваные гости. Наглость – второе счастье. Сначала здесь погуляют, потом, под самый Новый год, к себе пойдут. И плевать им, что места в столовой определены только для офицеров и прапоров полка. Ступин переводил отчаянный взгляд от стола к столу. Хоть бы Гулю посадить. А она уже сама увидела подруг, те ей руками махали, свободный стул показывали. Она выпорхнула, побежала в центр зала собирать овации и восторженные взгляды.
Через несколько минут подошел Герасимов. Он встал в дверях на холодном сквозняке и с усталой печалью оглядел веселящийся зал. Там уже появился Дед Мороз с ватной бородой и гнусавым голосом «сына писателя» Белова. Зажурчала, забулькала в кружках халявная водка. Женщины дружно хихикали и аплодировали. Незваные гости прятали лица и жадно хлебали спиртное. Ступин сжимал кулаки и был близко к тому, чтобы начать выкидывать чужаков из столовой. Обидели его командира!
А Герасимов встретился взглядом с Гулей, улыбнулся ей стылыми глазами и пошел в казарму.
Ступину показалось, что мороз забрался ему за воротник. Убьет командир Гулю! Как пить дать убьет!
Он застрял на пороге столовой, не решаясь оставить Гулю и побежать за командиром. А она – счастливая, молодая, цветущая – даже не догадывалась о нависшей над ней опасности. Она вырвалась из грязи и жестокости войны, она вернулась в давно оставленный ею мир, где сердце, ожидая счастья, бьется в сладкой истоме, где сверкает новогодняя мишура, и неслышно кружатся снежинки, и празднично пахнет духами и спиртным, и перед глазами кружится хмельная круговерть из конфет, улыбок, ватной бороды и музыки… Танцы, танцы, тоненькие каблучки цокают по бетонному полу, счастья вам, счастья вам!
Бедный Ступин, еще не видевший большой крови, приходил в ужас от своей фантазии: он видел Гулю, лежащей на полу в бурой луже, и вокруг нее люди, люди, все перепуганы, кто-то зовет врача, а она лежит, тростиночка, в золотистом платье в люриксом, и край приподнят, бесстыдно оголяя бедро, обтянутое чулочком. Врача, врача!
Он дождался, когда девушка снова стала видеть, когда оглядела зал потухшими глазами, что-то сказала подругам, накинула на плечи чей-то бушлат и пошла к модулю шестой роты. Ступин, как тень, за ней. Перебежками, от угла к углу, от умывальника к сортиру, от клумбы к щиту наглядной агитации. Если Герасимов ее убьет, то Ступин убьет Герасимова. А потом сам застрелится. Красиво и жутко!
Гуля зашла в кабинет. Ступин, сдерживая дыхание, присел на койке, прислушался. Крики, плач Гули, грохот мебели. Дверь распахнулась, Гулю словно вытолкнули оттуда. Девушка, вбивая каблуки в пол, стремительно пошла к выходу. На порог, скрипнув сапогами, выступил Герасимов. В галифе и тельняшке. Руки в карманах. Пьяные глаза полны сдержанного упрямства.
– Дорогу в женский модуль найдешь? Или проводить? – крикнул он вдогон. Повернулся, скрипнув сапогами, увидел Ступина. На лбу обозначилась глубокая морщина. Кивнул, зайди, мол. В кабинете налил лейтенанту полстакана водки, придвинул ломтик хлеба, вскрытую банку тушенки.
– С Новым годом, бля…
Потом лег на диван, руку – на лицо, и затих.
Через десять минут Ступин был уже в женском модуле. Фанерная хибара дрожала от музыки. Из комнат доносились смех, звон посуды, грохот сапог. По коридору двигались расплывчатые тени офицеров. Часовой, оказавшийся в самом эпицентре праздника, изрядно захмелел, оперся о стену и глупо улыбался. Ступин здесь еще никогда не был. В этот рай входили только самые ушлые, смелые и проворные, или те, кто уж совсем не мог обойтись без женщин и готов был платить. Таких, как Ступин, здесь еще никогда не было. Он постучал в комнату, где жила Гуля. Второй раз стукнуть в дверь не успел, Гуля приоткрыла дверь, прищурилась. В ее комнате было темно, и в тусклых лучах коридорного света ее шелковая ночнушка стала переливаться золотистыми бликами.
– Пошли! – скомандовал Ступин.
Она сопротивлялась недолго и весело. Смеялась, когда Ступин пытался ворваться комнату, плеснула в него водой из кружки, а он, стараясь не задерживать взгляда на ее обнаженных плечах, играл роль бесстрастного и тупого надзирателя, для которого нет ничего важнее, чем доставить девушку по нужному адресу и вручить ее в распоряжение своего командира. И все. И вроде как плевать ему, что она такая красавица, что сейчас в его власти, что почти обнажена, и лицом можно почувствовать тепло ее молодого стройного тела, и можно даже прикоснуться к ее руке, а можно разыграться как следует, завестись в азарте, когда прощается многое, схватить ее в охапку, зарычать, как лев, уткнуться лицом в ее живот, чтобы ей стало щекотно, чтобы рассмешить до слез, поднять на руки, и тогда правая рука окажется на ее ляжках, а левая обовьет спину, заберется в нежное подмышечное тепло, и это все будет как бы игра, как бы понарошку, и останется всего один шаг до койки, и надо будет всего-то чуть-чуть склонить голову, чтобы достать своими губами ее губы… Но Ступин – сама святость, чистый, честный мальчишка, прячущий свое возбуждение как величайший позор и грех, терпеливо дождался Гулю в коридоре, подал ей руку и повел к командиру.
Ибо это командира любимая женщина, ему принадлежащее сокровище, его собственность, его добыча; и вообще, они вдвоем такая красивая пара, и Ступину так хочется, чтобы у них все было хорошо, чтобы любили друг друга долго-долго, до конца жизни, преодолевая тяготы и несчастья вдвоем, крепко держа друг друга за руки. Только так должно быть, и не иначе. И у него, Ступина, когда-нибудь будет так – верно, чисто и красиво. Как у командира с Гулей.
Ступин строил идеальную модель любви.
Утром они пригласили его на кофе. Оба подпухшие, невыспавшиеся, с красными глазами, но веселые, счастливые.
– Саня, мы твои должники, – сказала Гуля. – Ты сохранил нашу семью.
Это было слишком громко сказано. Гуля всегда была склонна преувеличивать. Она забывалась. Она говорила «мой Валерка», что можно было оспорить. Она часто употребляла слово «всегда»: «я буду любить тебя всегда», «мы будем вместе всегда»… Бетонная дорога, которую она накатала для них двоих, вдруг со страшным треском лопнула, ощетинилась арматурой, раздробилась на острые камни. Валерке дали реабилитационный отпуск после ранения. Ему дали, а ей – нет. Он уедет, она останется. Мало того, он уедет к жене, он станет принадлежать ей.
Гулю обкрадывали среди бела дня, а она ничего не могла поделать, не могла возмутиться, закричать, позвать на помощь. Стояла у окна, глядя, как солдаты подметают территорию, и кусала губы. «Ну и пусть проваливает! Сейчас позвоню и пожелаю счастливого пути. Провожать не буду. У меня много работы. Надо сказать девчонкам, чтобы освободили мою койку в женском модуле. А то раскачивается на ней всякий, кому не лень».
Она подошла к телефону. Чтобы связаться с коммутатором, надо было покрутить ручку, приводящую в действие электрический генератор. Волна тока полетит по проводам, где-то на узле связи зазвенит звонок. Девчонки рассказывали, что такими телефонными аппаратами наши офицеры пытают духов, заставляя их признаться в своих злодействах. Два проводка к ушам – и давай крутить ручку. А то еще к половому члену привяжут. Не смертельно, но жутко больно. А кто первый додумался до этого? Не в Афганистане же эта идея снизошла на чью-то озлобленную голову!
Она вынула из гнезда трубку – тяжелую, черную, с тангентой посредине. Нажмешь на нее – и становится слышно собственное дыхание. Можно поговорить с собой, поплакаться, пожаловать, посетовать. Чтобы покрутить ручку, надо придерживать аппарат. Неудобная штука, рук не хватает.
– Линия занята, ждите! – грубо ответил связист.
Линия занята. В проводах мерцают электрические сигналы, металлические мембраны дребезжат, словно их пытают, измученные током слова воспроизводятся в искаженном, угловато-колком виде. Если бы слова текли по проводам подобно телеграфной ленте с печатными буковками, то можно было бы надрезать провода и вылить слова на стол, а потом, как паззлы, составить из них предложения. Получилось бы что-то вроде этого:
– Когда Герасимова выписали?
– Четыре дня назад.
– Ему разве положено отбывать отпуск при части?
– Что вы, Владимир Николаевич! В Союзе! Только в Союзе! Может поехать в санаторий, может отдыхать в семье. По выбору.
– Так какого черта он мне уже три дня глаза мозолит и не уезжает?
– Так вылетов, говорят, целую неделю не будет. «Стингеры», вроде бы, у духов появились…
– Я в курсе… Хорошо, Гриша, спасибо за информацию.
Через минуту начальник политотдела позвонил командиру отдельного вертолетного полка Воронцову.
– Сергей Михайлович, когда ближайший борт на Союз?
– Не раньше, чем через неделю. Все вылеты штаб ВВС запретил. А вы в Союз собрались, Владимир Николаевич?
– Да не я. Надо одного гаврика срочно отправить. Он после ранения, ему на реабилитацию. Жалко парня.
– Ничем не могу помочь. Пусть ваш гаврик потерпит маленько, подождет. Как командующий даст добро, я его первым бортом отправлю.
«А хрена с два! – подумал начпо, опуская трубку. – Колонной поедет. Завтра же! Первой же колонной наливников до Термеза!»
Ему не терпелось сообщить эту новость Герасимову лично. Он проявит заботу об офицере. В глазах начальника политического отдела будет плескаться море тепла и добра. «Что ж ты здесь протухаешь, дорогой мой? Гони в Союз, домой, к любимой жене! Туда, где березки, пиво и красивые женщины. Туда, где не стреляют, не рвутся мины, где в магазинах принимают рубли, где будешь спать с супругой на белоснежных простынях, и не надо будет отмахиваться от мух и кашлять от пыли. Завтра с утра хватай свои монатки, беги на КПП и прыгай в бронетранспортер. Я распоряжусь, и тебе выделят лучшее место. Поедешь, как на правительственной «Чайке». С ветерком, с комфортом. Каких-нибудь двести километров, и ты выедешь из этой проклятой страны, а там Термез, автобусы, школы, больницы, пионеры, памятники, парки и скверы. Подарки жене купил? Она, поди, ждет – не дождется тебя. Ночами не спит, всю подушку проплакала, дни и часы считает, когда увидит тебя, любимого, родного…»
Начпо без свиты в полк не ходил, взял с собой Белова. Под торопливую и бессвязную болтовню помощника по комсомолу дошли до модуля шестой роты. На площадке перед казармой проходил строевой смотр. Рота готовилась к сопровождению колонны. Перед каждым бойцом на асфальте лежала стопка вещей первой необходимости. Без них солдат – все равно, что голый. Все равно что черепаха без панциря. Что улитка без ракушки. Просто кусок молодого, восемнадцатилетнего мяса. И вот она, вся драгоценность, греется на солнце: каска, бронежилет, раскладка с магазинами и сигнальными ракетами, радиостанция (кому положено), коробки с сухим пайком на три дня, фляга с водой, цинки с магазинами, вещмешок, индивидуальный перевязочный пакет. Но это для начала, мелочь. Еще будут автоматы и пулеметы, минометные плиты и стволы, мины в ящиках, гранатометы и гранаты к ним, да еще будут раненые вместе со всем их снаряжением, еще будут душманские трофеи, еще будут кровоточащие раны, крики и набухшие от крови бинты, еще будет ужас и грохот стрельбы – и все это нести в гору, в гору, на жаре, на жаре, под крики сержантов, с мыслями о далеком-далеком доме, которого, наверное, не будет, никогда уже не будет.
– Рота, смирно! – крикнул лейтенант Ступин так отчаянно звонко, будто наступил на колючку. Солдаты вытянулись, как рыбы на кукане. Медлительные, отрешенные, задроченные войной, караулами и строевыми смотрами, войной, караулами и строевыми смотрами. Истощенные, закопченные, запыленные, обреченные – хорошо, что вас мамаши не видят и не знают, как вы врете им про службу в Монголии.
– Где командир роты?
– В расположении. Позвать?
Нет, он сам зайдет к нему в кабинет. Он прихлопнет его вместе с Гулей, как тараканов. У лейтенанта глаза бегают, он чувствует опасность, но предупредить командира не может. Какое удовольствие ловить с поличным и убеждать, что начпо не обмануть и не провести, потому что он не только начальник, он сильный и волевой человек, он лидер, он вожак, от него здесь зависит все. Полковник выстрелил собой по казарме, быстрым шагом подошел к двери кабинета, стукнул кулаком, заведомо зная, что она заперта.
– Герасимов, открывай!
Белов подтявкнул, дублируя приказ.
На двери лаково блестит большая фанерная заплатка. И новый замок. Который по счету?
– Герасимов!!
– Командир роты, немедленно откройте! – добавил помощник по комсомолу и ударил по двери кулаком, как молотком.
– Ломай, – сквозь зубы процедил начпо, чувствуя, как в его груди что-то твердеет, тяжелеет, и становится трудно дышать. Он замахнулся в третий раз. Рука у полковника тяжелая, лучше не попадаться.
– Да, товарищ полковник…
Начпо и помощник обернулись. Герасимов стоял за его спиной. Глаза издевательски веселые: ну что, съел в очередной раз?
– Открывай, – едва разжимая зубы, выдавил начальник политотдела.
Герасимов звякнул ключами, раскрыл дверь, предусмотрительно отошел в сторону, пропуская гостя. Комсомолец липкими глазками заглядывал в кабинет через плечо начальника. Начпо вошел плотно и динамично, словно поршень внутри шприца. Кабинет пуст. Но запах духов! Запах женщины! Запах его женщины! Она была здесь только что! Мгновение назад! Начпо не обманешь, он чувствует это молодое стройное тело, эти губы, впалые щеки и томные глаза! Он глянул на окно – на нем металлическая решетка. Он распахнул створку шкафа. Потом склонился и заглянул под диван. Потом под стол. Пнул табурет. Стиснул зубы до боли.
– Кто поведет роту на сопровождение?
– Лейтенант Ступин.
– Ты его проинструктировал?
– Проинструктировал.
– Что ж, пойдем, посмотрим. Список личного состава мне!
И вышел, двинув плечом зазевавшегося в дверях Белова. На улице поставил Ступина перед собой.
– Боевые листки взяли?
– Да!
– Карандаши, фломастеры?
– Так точно!
– Показывай!
Ступин вытряхнул вещмешок рядового Матвеева, который помимо того, что должен был стрелять, бежать, наступать, атаковать, окапываться, отстреливаться, прикрывать товарищей, окружать, прочесывать, перевязывать, ползти и терпеть, обязан был в свободное от боя время выпустить боевой листок, в котором отметить отличившихся и пожурить нерадивых бойцов (если, конечно, останутся живы). На асфальт выпал тугой свиток, на торцы которого были натянуты презервативы – чтобы не помялся, не раскрутился и не промок.
– Это что?!! – взвыл начпо и херась Ступина свитком по лицу! – Агитаторы и политинформаторы к работе готовы?! Тезисы последнего пленума ЦК КПСС изучили?!! Кто мне ответит?!!
У начпо слюна выступила на губах. Солдаты растерянно переглядывались, тупо разглядывали сложенные у ног бронежилеты, коробки с патронами, рассованные по секциям, словно ворованные яблоки по карманам, гранаты. Они не понимали, о чем он говорит. Какой пленум? Зачем он им? Не подохнуть бы, на мину не наступить бы, не схлопотать пулю, и уж, конечно, не попасть бы в плен, не дай бог, не дай бог…
– Рота не готова к сопровождению! – выдохнул начпо. – Герасимова сюда! Где Герасимов?
– Командир роты! – тявкнул Белов.
– Да, товарищ полковник…
Он опять за спиной начпо! Привидение, а не офицер, как из-под земли выскакивает! И опять в глазах насмешка. Наглый, развратный, омерзительный тип, недостойный звания коммуниста! Сука, падаль, дерьмо! Обласканный, обцелованный незаконной женщиной, его, начальника политотдела женщиной! Сейчас ты у меня поулыбаешься!
– Смертные гильзы у всех есть?
Не дождавшись ответа, схватил за плечо солдата, который стоял ближе всех, отогнул край воротника. Там была пришита гильза. Внутри нее должна быть скрученная до толщины спички бумажка с фамилией, именем, отчеством, группой крови и домашним адресом.
– Чем дырки заделали?
– Глиной.
– Была же дана команда хлебным мякишем! Крепко держится?
Начпо потянул гильзу изо всех сил, так, что боец не устоял, качнулся вперед, наступил полковнику на ботинок.
– А если осколком срежет? Если сгорит к едрене-фене? Если ему полтуловища вместе с этой гильзой оторвет?
– Верхнюю или нижнюю половину? – уточнил Герасимов.
Солдат побледнел. Речь шла о его туловище. Его уже резали, разрывали на части, сжигали. Он представлял себя то без верхней половины туловища, то без нижней. И та, и другая картина были омерзительными.
– Ты мне тут не умничай! – прорычал начпо.
– Данные на солдата имеются не только в гильзе, – пояснил Герасимов. – На кармане брюк хлоркой написана фамилия.
– Одной фамилии мало! – Начпо не знал, к чему придраться, и обрушил свой гнев на то, что подвернулось. – Нужны еще имя-отчество, число и месяц рождения, домашний адрес, имена родителей…
– Все эти данные я знаю.
– Наизусть?
– Да.
Начпо поспешил поймать ротного на слове.
– Список личного состава мне!
Ему принесли список. Начпо клокотал от острого желания унизить Герасимова.
– Я называю фамилию, а ты продолжаешь. Поехали! Василенко.
– Игорь Николаевич, – тотчас по памяти ответил Герасимов. – Родился тринадцатого января шестьдесят четвертого года в селе Свердловка Липовецкого района. Отец Николай Иванович, мать Тамара Петровна.
– Вознюк! – выхватил начпо следующего из списка.
– Василий Иванович, шестнадцатого марта шестьдесят третьего года рождения, село Бортниково Тульчинского района. Отец Иван Владимирович, мать Зоя Александровна.
Солдаты и Ступин оживились от восхищения. Те, чьи фамилии были названы, зарделись от гордости и волнения. Ротный произнес вслух название родного села! И его услышал сам начальник политотдела. Такая честь! И живописное Бортниково, утонувшее в зеленых облаках садов, словно отторглось от верхних пластов украинских степей, с треском, с ревом разрывая корни вековых ветелок, с белеными хатками, солнечными стогами, с плетнями, увенчанными рыжими кувшинами, с тенистыми рвами и оврагами, с разбитыми дорогами, с коричневыми стадами – взлетело, подобно огромной летающей пицце, пронеслось над морями и горами и приземлилось где-то неподалеку, вон за той ржавой горой, осыпанной песком и пылью; слышите, как мычат коровы и звенит бубенчик на шее белой козы, обдирающей сочную ветку ивы? Герасимов все там знает. От Герасимова, как от бога, ничего не скроешь. Он – солнце, он выше всех, он все видит и все слышит, что делается во всех этих Бортниковых, Свердловках, Глазовых, Шауленых, Запольях, Заречьях, Житнях, Сиховых, Васильковых, Лесных, Перевальных, Зубровках, он родом изо всех этих сел и деревень, он плоть от плоти солдатской, у него под сердце комок земли оттуда…