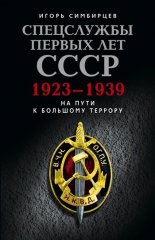Русская драматургия ХХ века: хрестоматия Коллектив авторов

Появляется Теодор-Христиан под руку с Принцессой. Он ждет полночи, надеясь, что бывший хозяин все-таки падет к его ногам. Первый министр и министр финансов готовят казнь Ученого.]
Тень (захлопывает окно, идет к трону, садится). Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время, способен он на такую гибкость? Я мог лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта коней не причиняли мне ни малейшего вреда, а он мог бы так приспособиться к местности? За две недели я узнал жизнь в тысячу раз лучше, чем он. Неслышно, как тень, я проникал всюду, и подглядывал, и подслушивал, и читал чужие письма. Я знаю всю теневую сторону вещей. И вот теперь я сижу на троне, а он лежит у моих ног.
<…> Появляется Ученый. Останавливается против тро-на.<…>
Тень. Господа, перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю жизнь он был неудачником. Наконец, на его счастье, я взошел на престол. Я назначаю его своею тенью. Поздравьте его, господа придворные! <…> Не смущайся, Христиан-Теодор! Если вначале тебе будет трудновато, я дам тебе несколько хороших уроков, вроде тех, что ты получил за эти дни. И ты скоро превратишься в настоящую тень, Христиан-Теодор. Займи свое место у наших ног. <…>
Ученый. Да ни за что! Господа! Слушайте так же серьезно, как я говорю! Вот настоящая тень. Моя тень! Тень захватила престол. Слышите? <…> Принцесса, я никогда не отказывался от вас. Он обманул и запутал и вас и меня. <…> Но я пришел за вами, принцесса. Дайте мне руку – и бежим. Быть женой тени – это значит превратиться в безобразную, злую лягушку. <…> Господа! Это жестокое существо погубит вас всех. Он у вершины власти, но он пуст. Он уже теперь томится и не знает, что ему делать. И он начнет мучить вас всех от тоски и безделья. <…> Юлия, скажите же им.
Юлия (показывает на ученого). Тень – это вы!
Ученый. Да неужели же я говорю в пустыне!
Аннунциата. Нет, нет! Отец все время грозил, что убьет вас, поэтому я молчала. Господа, послушайте меня! (Показывает на Тень.) Вот тень! Честное слово! <…> Я сама видела, как он ушел от господина ученого. Я не лгу. Весь город знает, что я честная девушка. <…>
Ученый. Довольно, Аннунциата. Спасибо. Эй, вы! Не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень! Знай свое место.
Тень встает с трудом, борясь с собой, подходит к ученому.
Первый министр. Смотрите! Он повторяет все его движения. Караул!
Ученый. Тень! Это просто тень. Ты тень, Теодор-Христиан?
Тень. Да, я тень. Христиан-Теодор! Не верьте! Это ложь! Я прикажу казнить тебя!
Ученый. Не посмеешь, Теодор-Христиан!
Тень (падает). Не посмею, Христиан-Теодор!
[Опомнившись, первый министр приказывает лакеям унести короля и вызывает палача, чтобы казнить Ученого. Аннунциата умоляет Юлию сделать что-нибудь для его спасения. Юлия просит Доктора дать ей волшебную живую воду, но Доктор говорит, что вода под семью замками у министра финансов и добыть ее невозможно.
Едва Тень и Луиза возвратились в тронный зал, как издалека донесся бой барабанов: казнь совершилась. И вдруг голова Тени слетела с плеч. Первый министр понимает, что произошла ошибка: интриганы не учли, что, отрубив голову Ученому, лишат головы и его тень.]
Принцесса (подбегает к министрам). Сейчас же! Сейчас же! Сейчас же!
Первый министр. Что, ваше высочество?
Принцесса. Сейчас же исправить его! Я не хочу! Не хочу! Не хочу! <…> Если вы не исправите его, я прикажу сейчас же вас обезглавить. У всех принцесс на свете целые мужья, а у меня вон что! Свинство какое!..
Первый министр. Живую воду, живо, живо, живо!
Министр финансов. Кому? Этому? Но она воскрешает только хороших людей.
Первый министр. Придется воскресить хорошего. Ах, как не хочется.
[Придворных слуг посылают за живой водой. Голова Тени снова появляется на плечах, но теперь Тень ведет себя иначе. Теодор-Христиан во всем старается угодить своему прежнему хозяину, потому что хочет жить.]
Принцесса. Как тебе идет голова, милый! Тень. Луиза, где он?
Принцесса. Незнаю. Как ты себя чувствуешь, дорогой? Тень. Мне больно глотать. <…> Но где же он? Зовите его сюда.
Входит Ученый. Тень вскакивает и протягивает ему руки. Ученый не обращает на него внимания.
Ученый. Аннунциата! <…> Аннунциата, они не дали мне договорить. Да, Аннунциата. Мне страшно было умирать. Ведь я так молод!
Тень. Христиан!
Ученый. Замолчи. Но я пошел на смерть, Аннунциата. Ведь, чтобы победить, надо идти и на смерть. И вот я победил. Идемте отсюда, Аннунциата.
Тень. Нет! Останься со мной, Христиан. Живи во дворце. Ни один волос не упадет с твоей головы. Хочешь, я назначу тебя первым министром? <…> Я дам управлять тебе – в разумных, конечно, пределах. Я помогу тебе некоторое количество людей сделать счастливыми. Ты не хочешь мне отвечать? Луиза! Прикажи ему.
Принцесса. Замолчи ты, трус! Что вы наделали, господа? Раз в жизни встретила я хорошего человека, а вы бросились на него, как псы. Прочь, уйди отсюда, тень!
[Тень медленно спускается с трона и, закутавшись в мантию, прижимается стене. Луиза приказывает начальнику стражи: «Взять его!» Стража хватает Тень, но у них в руках остается пустая мантия – Тень исчезает. «Он скрылся, чтобы еще и еще раз стать у меня на дороге. Но я узнаю его….» – говорит Христиан-Теодор. Принцесса умоляет его о прощении, но Христиан больше не любит ее. Он берет за руку Аннунциату, и они покидают дворец.]
1940
Н.Р. Эрдман (1900–1970)
Николай Эрдман – замечательный драматург-сатирик, поэт и киносценарист с острым, афористичным языком. К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, А.В. Луначарский, М. Горький восхищались его талантом, считали продолжателем традиций Н.В. Гоголя, А.В. Сухово-Кобылина и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Уже первая из двух знаменитых его пьес – «Мандат» – была признана вершиной советской драматургии. «Научите меня писать пьесы», – говорил Эрдману В. Маяковский.
Родился Н.Р. Эрдман на окраине Москвы в семье обрусевшего немца, далекого от искусства (он был бухгалтером). Будущий драматург увлекался литературой и с 9 лет уже начал писать стихи. По окончании Петропавловского реального училища он поступил в Археологический институт. К этому времени он уже начал публиковаться. Октябрьскую революцию он принял безоговорочно, она привлекала его своей энергией и провозглашенной социальной справедливостью.
В 1919–1920 годах Эрдман был на фронте, сменив «карандаш ученика и перо стихотворца <…> на винтовку красноармейца»[22]. Но даже там постоянно проявлялся его литературный дар. Во время стоянок он придумывал песни, а во время походов распевал их вместе со своей ротой.
После возвращения в Москву Эрдман быстро вошел в самую гущу литературной жизни. Поначалу он примкнул к группе поэтов-имажинистов, где познакомился с С. Есениным, А. Мариенгофом и В. Шершеневичем, принимал активное участие в жизни сообщества. В столице тогда было голодно и холодно, но москвичи пешком приходили в нетопленый зал Политехнического музея, чтобы послушать молодых поэтов.
Затем началась работа в небольших театрах, рожденных революцией. В них он учился трудному мастерству режиссера. К 1924 году он уже был широко известен как автор многочисленных скетчей и куплетов для кабаре, буффонады «Шестиэтажная авантюра в кабаре «Кривой Джимми»», пьесы «Гибель Европы на Страстной площади».
Но настоящий успех Эрдману принесла пьеса «Мандат» (1925) – «пьеса о лишних людях, которые живут «за заставой»» (Н. Эрдман). Она была поставлена В.Э. Мейерхольдом и имела шумный успех. На следующее утро после постановки «Мандата» 24-летний драматург проснулся знаменитым. Его задорный девиз («Искусство – это скандал») вполне оправдался.
Остроумный сюжет пьесы о том, как Павел Сергеевич Гулячкин, житель вороньей слободки, для того чтобы завлечь жениха для перезрелой сестры, объявил себя партийным и даже выписал себе мандат (документ, уполномочивающий его носителя на крутые революционные действия), пришелся по нраву столичной публике (выдержал 350 постановок). Но за веселой интригой комедии критики не сразу разглядели ее глубинную суть. Эрдман разоблачал не просто недостатки людей, а саму репрессивно-бюрократическую систему. Злая ирония обращена на коммунистов: «Без бумаг коммунисты не бывают». «А вдруг, мамаша, меня не примут? (в партию. – ИМ) – Ну что ты, Павлуша, туда всякую шваль принимают».
Окрыленный удачей, Эрдман сразу же принялся за новую пьесу. В 1928 году он закончил комедию «Самоубийца», проявив в ней талант сатирика в полной мере. К. Станиславский, прослушав ее, восторженно воскликнул: «Гоголь! Гоголь!», но в пьесе сильны традиции А.В. Сухово-Кобылина, а из современников – М. Зощенко. Эрдман безжалостно разоблачил не только обывателя Подсекальникова, его соседей, мнимых «интеллигентов», готовых на смерти «героя» заработать себе сомнительный капиталец, но главное – власть, безжалостную к собственному народу.
Власть отреагировала на идею пьесы запретом постановки. Началась кампания травли автора, которая вскоре закончилась арестом. Это случилось в 1933 году в Гаграх, на съемках кинофильма «Веселые ребята» (по сценарию Н. Эрдмана и В. Масса). Через год фильм вышел на экраны без фамилий арестованных сценаристов. По воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, формальной причиной ареста Эрдмана и Масса стал инцидент на одной кремлевской вечеринке, где артист Качалов прочитал одну из басен сатириков. Басни были услышаны самим Сталиным. Качалов остро переживал свою вину: запил, приходил к родным пострадавших, предлагал денежную помощь[23]. А сатирики были приговорены к трехлетней ссылке: Эрдман – в Енисейск, Масс – в Тобольск.
Так начались скитания драматурга по стране: Енисейск, Томск, затем он был отправлен на вольное поселение с запретом жить в десяти крупнейших городах страны. Но литературные дела диктовали необходимость незаконных приездов в Москву, о которых знали лишь друзья – М. Булгаков и актриса МХАТа Ангелина Степанова.
В 1938 году М. Булгаков предпринял попытку изменить судьбу опального драматурга, написав письмо Сталину. Но обращение к вождю не помогло. И Эрдман продолжал скитаться по городам: Калинин, Вышний Волочок, Торжок, Рязань, Ставрополь. Перед войной вышел еще один кинофильм по сценарию Эрдмана «Волга-Волга» и снова, как и «Веселые ребята», без его имени в титрах.
В 1941 году Эрдман после многократных просьб был мобилизован в армию, был сапером, во время отступления советских войск тяжело больным попал в саратовский госпиталь, где случайно встретился с эвакуированными мхатовцами. В результате хлопот друзей он был зачислен в ансамбль песни и пляски НКВД, писал для него сценарии театрализованных представлений, оставаясь при этом на нелегальном положении вплоть до 1948 года. Лишь в 1949 году после расформирования ансамбля драматург получил право жить в Москве.
В последние годы жизни Эрдман писал многочисленные сценарии кинофильмов, мультфильмов, либретто оперетт, скетчи для эстрады и цирка, инсценировал классику для театра Ю. Любимова на Таганке. Он был по-прежнему душой общества, остроумным собеседником. Его манере речи подражали известные актеры. Он говорил, что пишет пьесу, но ничего достойного своей молодости не создал. Внутреннее состояние Эрдмана лучше всего отражает его признание, зафиксированное в следственном деле: «Красные карандаши Цензуры вычеркивают мою жизнь строчка за строчкой. Иногда мне кажется, что бумага может не выдержать и порвется».
Пьеса «Самоубийца» (1929) – один из шедевров русской драматургии XX века. Написанная ярким, сочным языком, пьеса в каждой своей строчке фонтанирует остротами, удивляет колоритными образами из галереи отрицательных типов молодой советской республики. Задуманная как антиобывательская комедия, в ходе действия пьеса проделывает путь от фарса к трагедии и вместо осмеяния маленького человека поднимается до сочувствия ему. Монолог главного героя Подсекальникова – это трагический крик целой страны, под которым могла бы подписаться вся русская литература, всегда сочувствовавшая слабым и беззащитным.
Эрдман написал пьесу для театра В.Э. Мейерхольда и в 1928 году и даже подписал с ним договор. Однако сразу после этого Главрепертком запретил ее. В газете «Рабочая Москва» появилась зловещая статья «Попытка протащить реакционную пьесу. Антисоветское выступление в Театре им. Мейерхольда». Готов был поставить «Самоубийцу» и Театр им. Е. Вахтангова, но ему это тоже не удалось. К.С. Станиславский, желая помочь талантливому драматургу, обратился к Сталину с просьбой разрешить постановку пьесы во МХАТе и предложил «лично» просмотреть спектакль «до выпуска в исполнении наших актеров». При этом он ссылался на высокую оценку А.М. Горького и А.В. Луначарского. Сталин разрешил Станиславскому «эксперимент», а через год, когда репетиции были завершены, запретил спектакль, написав маститому драматургу вежливое письмо: «Многоуважаемый Константин Сергеевич! Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна». Так решена была театральная судьба пьесы, которая при жизни автора ни разу не была издана и поставлена на его родине.
Первая ее публикация на русском языке состоялась в 1969 году в ФРГ, в том же году осуществилась ее первая постановка в Швеции. В России безуспешные попытки поставить или напечатать «Самоубийцу» предпринимались во время хрущевской «оттепели». Но спектакли в Театре им. Е. Вахтангова, в Театре на Таганке были запрещены. Спектакль Театра сатиры, поставленный в 1982 году В. Плучеком, был снят с репертуара вскоре после премьеры.
«Самоубийца» и «Мандат» впервые были опубликованы на родине лишь в «перестроечном» 1990 году, через двадцать лет после смерти автора. В настоящее время пьеса поставлена В. Смеховым в Театре на Таганке, Театром им. А.С. Пушкина (режиссер Роман Козак), ее сыграли в РАМТе, где постановку осуществил В. Смехов.
Письма. Николай Эрдман. Ангелина Степанова. М., 1995.
Рассадин Ст. Самоубийца Николай Эрдман // Век. 1997. № 45.
Эрдман Н.Р. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990.
Самоубийца
[Действие пьесы происходит в Москве в 1920-х годах нашего века. Безработный обыватель, никчемный человек Семен Семенович Подсекальников, живущий на иждивении жены и тещи, ночью будит жену Марью Лукьяновну и жалуется ей на голод. Из-за ливерной колбасы возникает семейная ссора.]
Мария Лукьяновна. Я говорю, что если ты сам не спишь, то ты дай хоть другому выспаться. <…> Почему же ты в нужный момент не накушался? Кажется, мы тебе с мамочкой все специально, что ты обожаешь, готовим; кажется, мы тебе с мамочкой больше, чем всем, накладываем.
Семен Семенович. А зачем же вы с вашей мамочкой мне больше, чем всем, накладываете? Это вы незадаром накладываете, это вы с психологией мне накладываете, это вы подчеркнуть перед всеми желаете, что вот, мол, Семен Семенович нигде у нас не работает, а мы ему больше, чем всем, накладываем. Это я понял, зачем вы накладываете, это вы в унизительном смысле накладываете, это вы…
Мария Лукьяновна. Погоди, Сеня.
Семен Семенович. Нет уж, ты погоди. А когда я с тобой на супружеском ложе голодаю всю ночь безо всяких свидетелей, тет-а-тет под одним одеялом, ты на мне колбасу начинаешь выгадывать.
Мария Лукьяновна. Да разве я, Сеня, выгадываю? Голубчик ты мой, кушай, пожалуйста. Сейчас я тебе принесу. (Слезает с кровати. Зажигает свечку, идет к двери.) <…>
В комнату возвращается Мария Лукьяновна. В одной руке у нее свеча, в другой – тарелка. На тарелке лежат колбаса и хлеб.
Мария Лукьяновна. Тебе, Сенечка, как колбасу намазывать: на белый или на черный?
Семен Семенович. Цвет для меня никакого значения не имеет, потому что я есть не буду.
Мария Лукьяновна. Как – не будешь?
Семен Семенович. Пусть я лучше скончаюсь на почве ливерной колбасы, а есть я ее все равно не буду.
Мария Лукьяновна. Это еще почему?
Семен Семенович. Потому что я знаю, как ты ее хочешь намазывать. Ты ее со вступительным словом мне хочешь намазывать. Ты сначала всю душу мою на такое дерьмо израсходуешь, а потом уже станешь намазывать. <…> Кто из нас муж, наконец: ты или я? Ты это что же, Мария, думаешь: если я человек без жалованья, то меня уже можно на всякий манер регулировать? Ты бы лучше, Мария, подумала, как ужасно на мне эта жизнь отражается. Вот смотри, до чего ты меня довела. (Садится на кровати. Сбрасывает с себя одеяло. Кладет ногу на ногу. Ребром ладони ударяет себя под колено, после чего подбрасывает ногу вверх.) Видела?
Мария Лукьяновна. Что это, Сеня?
Семен Семенович. Нервный симптом.
Мария Лукьяновна. Так, Семен, жить нельзя. Так, Семен, фокусы в цирке показывать можно, но жить так нельзя.
Семен Семенович. Как это так нельзя? Что же мне, подыхать, по-твоему? Подыхать? Да? Ты, Мария, мне прямо скажи: ты чего домогаешься? Ты последнего вздоха моего домогаешься? И доможешься. Только я тебе в тесном семейном кругу говорю, Мария – ты сволочь.
Мария Лукьяновна.?
Семен Семенович. Сволочь ты! Сукина дочь! Черт!
[Подсекальников объявляет, что готов застрелиться. Но вместо этого тайком отправляется на кухню за ливерной колбасой. Испуганные его заявлением жена и теща сначала ищут его в квартире, а затем ошибочно стерегут у запертой двери коммунальной уборной, опасаясь, что он там застрелится. Постучав к соседу Александру Петровичу Калабушкину, они просят его выломать дверь. Однако выясняется, что в туалете был вовсе не Подсекальников, а старушка-соседка.
Семена Семеновича находят на кухне в тот момент, когда он засовывает себе в рот кусок колбасы. Но увидев вошедших, он прячет ее в карман. Приняв в темноте колбасу за револьвер, Марья Лукьяновна падает в обморок, а Калабушкин предлагает Подсекальникову отдать ему оружие.]
Александр Петрович. <…> (Подбегает к окну. Раздергивает занавеску. Нездоровое городское утро освещает развороченную постель, сломанный фикус и всю невеселую обстановку комнаты.) Гражданин Подсекальников. Жизнь прекрасна.
Семен Семенович. Ну, а мне что из этого?
Александр Петрович. То есть как это что? Гражданин Подсекальников, где вы живете? Вы живете в двадцатом веке. В век просвещения. В век электричества.
Семен Семенович. А когда электричество выключают за неплатеж, то какой же, по-вашему, это век получается? Каменный?
Александр Петрович. Очень каменный, гражданин Подсекальников. Вот какой уже день как в пещере живем. Прямо жить из-за этого даже не хочется. Тьфу ты, черт! Как не хочется. Вы меня не сбивайте, Семен Семенович. Гражданин Подсекальников. Жизнь прекрасна.
Семен Семенович. Я об этом в «Известиях» даже читал, но я думаю – будет опровержение.
Александр Петрович. Вот напрасно вы думаете. Вы не думайте. Вы работайте.
Семен Семенович. Безработным работать не разрешается.
Александр Петрович. Вы все ждете какого-то разрешения. С жизнью надо бороться, Семен Семенович.
Семен Семенович. Разве я не боролся, товарищ Калабушкин? Вот смотрите, пожалуйста. (Вынимает из-под подушки книжку.)
Александр Петрович. Это что?
Семен Семенович. Руководство к игранью на бейном басе.
Александр Петрович. Как? На чем?
Семен Семенович. Бейный бас – это музыка. Духовая труба. Изучить ее можно в двенадцать уроков. И тогда открывается золотое дно. У меня даже смета уже составлена. (Показывает листок бумаги.) Приблизительно двадцать концертов в месяц по пяти с половиной рублей за штуку. Значит, в год получается чистого заработка тысяча триста двадцать рублей. Как вы сами, товарищ Калабушкин, видите, все уже приготовлено, чтоб играть на трубе. Есть желанье, есть смета, есть руководство – нету только трубы.
Александр Петрович. Это общая участь, гражданин Подсекальников. Что же сделаешь, все-таки надо жить.
Семен Семенович. Без сомнения, надо, товарищ Калабушкин.
Александр Петрович. Вы согласны?
Семен Семенович. Согласен, товарищ Калабушкин.
Александр Петрович. Значит, я убедил вас. Спасибо. Ура! Отдавайте револьвер, гражданин Подсекальников.
Семен Семенович. Как револьвер? Какой револьвер?
Александр Петрович. Вы опять начинаете. Я же видел, как вы его в рот засовывали.
Семен Семенович. Я?
Александр Петрович. Вы.
Семен Семенович. Боже мой! Я засовывал. Для чего?
Александр Петрович. Вы зачем из меня идиота устраиваете? Все же знают, что вы стреляетесь.
Семен Семенович. Кто стреляется?
Александр Петрович. Вы стреляетесь.
Семен Семенович. Я?
Александр Петрович. Вы.
Семен Семенович. Боже мой! Подождите минуточку. Лично я?
Александр Петрович. Лично вы, гражданин Подсекальников.
Семен Семенович. Почему я стреляюсь, скажите пожалуйста?
Александр Петрович. Что вы, сами не знаете?
Семен Семенович. Почему, я вас спрашиваю?
Александр Петрович. Потому что вы год как нигде не работаете и вам совестно жить на чужом иждивении. Разве это не глупо, Семен Семенович?
Семен Семенович. Подождите минуточку. Кто сказал?
Александр Петрович. Да уж будьте покойны, Мария Лукьяновна.
Семен Семенович. Ой! Уйдите. Оставьте меня одного. Вон отсюдова к чертовой матери!
Александр Петрович. Вот отдайте револьвер, тогда уйду.
Семен Семенович. Ну вы сами поймите, товарищ Калабушкин. Ну откуда я мог бы его достать?
Александр Петрович. В наше время револьвер достать нетрудно. Вот Панфилыч револьвер на бритву выменивает.
Семен Семенович. Неужели на бритву? <…> Ну, так знайте, товарищ Калабушкин: если вы моментально отсюда не выйдете, я сейчас же у вас на глазах застрелюсь. <…>
Александр Петрович. Я ушел! (Пулей в свою комнату.)
[Окончательно выведенный из себя Подсекальников вынимает из кармана ливерную колбасу, принятую всеми за револьвер, достает из стола отцовскую бритву и пишет предсмертную записку: «В смерти моей прошу никого не винить».]
[К Подсекальникову является Аристарх Доминикович Гранд-Скубик, видит лежащую на столе предсмертную записку.]
Аристарх Доминикович. <…> Так нельзя, гражданин Подсекальников. Ну, кому это нужно, скажите, пожалуйста, «никого не винить». Вы, напротив, должны обвинять и винить, гражданин Подсекальников. Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно. Стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как общественник. Не забудьте, что вы не один, гражданин Подсекальников. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников. Если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам, как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции.
Семен Семенович. Очень рад познакомиться. Садитесь, пожалуйста.
Аристарх Доминикович. Вы прощаетесь с жизнью, гражданин Подсекальников, в этом пункте вы правы: действительно, жить нельзя. Но ведь кто-нибудь виноват в том, что жить нельзя. Если я не могу говорить об этом, то ведь вы, гражданин Подсекальников, можете. Вам терять теперь нечего. Вам теперь ничего не страшно. Вы свободны теперь, гражданин Подсекальников. Так скажите же честно, открыто и смело, гражданин Подсекальников: вы кого обвиняете? <…> Вы хотите погибнуть за правду, гражданин Подсекальников.
Семен Семенович. А вы знаете, это идея.
Аристарх Доминикович. Только правда не ждет, гражданин Подсекальников. Погибайте скорей. Разорвите сейчас же вот эту записочку и пишите другую. Напишите в ней искренне все, что вы думаете. Обвините в ней искренне всех, кого следует. Защитите в ней нас. Защитите интеллигенцию и задайте правительству беспощадный вопрос: почему не использован в деле строительства такой чуткий, лояльный и знающий человек, каковым, безо всякого спора, является Аристарх Доминикович Гранд-Скубик.
Семен Семенович. Кто?
Аристарх Доминикович. Аристарх Доминикович Гранд-Скубик. Через тире.
Семен Семенович. Это кто же такой?
Аристарх Доминикович. Это я. И когда, написавши такую записочку, гражданин Подсекальников, вы застрелитесь, вы застрелитесь, как герой. Выстрел ваш – он раздастся на всю Россию. Он разбудит уснувшую совесть страны. Он послужит сигналом для нашей общественности. Имя ваше прольется из уст в уста. Ваша смерть станет лучшею темой для диспутов. Ваш портрет поместят на страницах газет, и вы станете лозунгом, гражданин Подсекальников.
Семен Семенович. Дочего интересно, Аристарх Доминикович. Дальше. Дальше. Еще, Аристарх Доминикович.
Аристарх Доминикович. Вся российская интеллигенция соберется у вашего гроба, гражданин Подсекальников. Цвет страны понесет вас отсюда на улицу. Вас завалят венками, гражданин Подсекальников. Катафалк ваш утонет в цветах, и прекрасные лошади в белых попонах повезут вас на кладбище, гражданин Подсекальников.
Семен Семенович. Елки-палки. Вот это жизнь! <…>
Семен Семенович один.
Семен Семенович. Пострадаю. Пострадаю за всех. И прекрасные лошади в белых попонах. Обязательно пострадаю. Где бумага? (Ищет.) Я сейчас их на чистую воду выведу. Где бумага? Сейчас я их всех обвиню. <…>
[Приходит «роковая женщина» Клеопатра Максимовна. Она предлагает Подсекальникову застрелиться из-за нее.]
Клеопатра Максимовна. Ну, не будьте таким эгоистом, мсье Подсекальников. Застрелитесь из-за меня.
Семен Семенович. К сожалению, не могу. Я уже обещал.
Клеопатра Максимовна. Вы кому обещали? Раисе Филипповне? Ой, зачем же? Да что вы! Мсье Подсекальников. Если вы из-за этой паскуды застрелитесь, то Олег Леонидович бросит меня. Лучше вы застрелитесь из-за меня, и Олег Леонидович бросит ее. Потому что Олег Леонидович – он эстет, а Раиса Филипповна просто сука. Это я заявляю вам, как романтик. Она даже стаканы от страсти грызет. Она хочет, чтоб он целовал ее тело, она хочет сама целовать его тело, только тело, тело и тело. Я, напротив, хочу обожать его душу, я хочу, чтобы он обожал мою душу, только душу, душу и душу. Заступитесь за душу, господин Подсекальников, застрелитесь из-за меня. Возродите любовь. Возродите романтику. И тогда… Сотни девушек соберутся у вашего гроба, мсье Подсекальников, сотни юношей понесут вас на нежных плечах, и прекрасные женщины…
[Клеопатра Максимовна увозит Подсекальникова к себе писать новую записку. В комнате появляются Александр Петрович, священник отец Елпидий, мясник Никифор Арсентьевич, писатель Виктор Викторович, Аристарх Доминикович и Раиса Филипповна. Все они недовольны тем, что Калабушкин взял у них деньги.]
Раиса Филипповна. Вот вы где мне попались, товарищ Калабушкин. Отдавайте сейчас же пятнадцать рублей.
Александр Петрович. Вы зачем же при людях, Раиса Филип повна?
Раиса Филипповна. А зачем же вы шахеры-махеры делаете? Вы меня обманули, товарищ Калабушкин. Вы надули меня со своим Подсекальниковым. Для чего я дала вам пятнадцать рублей? Чтобы он из-за этой паскуды застреливался? Вы мне что обещали, товарищ Калабушкин? Вы его для меня обещали использовать, а его Клеопатра Максимовна пользует.
Виктор Викторович. Виноват! Как такое – Клеопатра Максимовна? Вы же мне обещали, товарищ Калабушкин.
Отец Елпидий. Вы ему обещали, товарищ Калабушкин? А за что же я деньги тогда заплатил?
Александр Петрович. А скажите, за что вы, товарищи, платите, если вы покупаете лотерейный билет? За судьбу. За участие в риске, товарищи. Так и здесь, в данном случае с Подсекальниковым. Незабвенный покойник пока еще жив, а предсмертных записок большое количество. Кроме вас заплатило немало желающих. Например, вот такие записки составлены. «Умираю, как жертва национальности, затравили жиды». «Жить не в силах по подлости фининспектора». «В смерти прошу никого не винить, кроме нашей любимой советской власти». И так далее, и так далее. Все записочки будут ему предложены, а какую из них он, товарищи, выберет – я сказать не могу.
[Понимая, что одного покойника на всех мало, Виктор Викторович вспоминает Федю Питунина – молодого человека «с какой-то грустнотцой» – и решает «заронить в него червячка». Появившемуся Подсекальникову объявляют, что стреляться он должен завтра в двенадцать часов и что ему устроят грандиозные проводы.
Оставшись наедине с молчаливым молодым человеком, Подсекальников делится с ним своими сомнениями по поводу предстоящего самоубийства.]
Семен Семенович. Как вы думаете, молодой человек? Ради бога, не перебивайте меня, вы сначала подумайте. Вот представьте, что завтра в двенадцать часов вы берете своей рукой револьвер <…> и вставляете дуло в рот. <…> И как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между тиком и таком стена. Да, стена, то есть дуло револьвера. <…> Нажимаете. И тогда раздается пиф-паф. И вот пиф – это еще тик, а вот паф – это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю, а вот все, что касается така и пафа, – совершенно не понимаю. Тик – и вот я еще и с собой, и с женою, и с тещею, с солнцем, с воздухом и водой, это я понимаю. Так – и вот я уже без жены… хотя я без жены – это я понимаю тоже, я без тещи… ну, это я даже совсем хорошо понимаю, но вот я без себя – это я совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете, я? Лично я. Подсекальников. Че-ло-век. Подойдем к человеку по-философски. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка. Ради бога, не перебивайте меня. Человек есть клетка. И томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает. Летит. Ну, конечно, летит и кричит: «Осанна! Осанна!» Ну, конечно, ее подзывает Бог. Спрашивает: «Ты чья»? – «Подсекальникова». – «Ты страдала?» – «Я страдала». – «Ну, пойди же попляши». И душа начинает плясать и петь. (Поет.) «Слава в вышних Богу и на земле мир и в человецех благоволение». Это я понимаю. Ну а если клетка пустая? Если души нет? Что тогда? Как тогда? Как, по-вашему? Есть загробная жизнь или нет? Я вас спрашиваю? (Трясет его.) Я вас спрашиваю – есть или нет? Есть или нет? Отвечайте мне. Отвечайте.
[Но выясняется, что молодой человек глухонемой и не может понять страданий Подсекальникова.]
[В ресторане летнего сада – банкет: Аристарх Доминикович произносит речь, цыгане поют здравницу Подсекальникову, гости славят «героя». Подсекальников, опутанный серпантином и осыпанный конфетти, постоянно со страхом спрашивает, который час. Наконец, он пишет предсмертную записку, текст которой подготовлен Аристархом Доминиковичем.]
Семен Семенович. Нет, вы знаете, что я могу? Нет, вы знаете, что я могу? Я могу никого не бояться, товарищи. Никого. Что хочу, то и сделаю. Все равно умирать. Все равно умирать. Понимаете? Что хочу, то и сделаю. Боже мой! Все могу. Боже мой! Никого не боюсь. В первый раз за всю жизнь никого не боюсь. Захочу вот – пойду на любое собрание, на любое, заметьте себе, товарищи, и могу председателю… язык показать. Не могу? Нет, могу, дорогие товарищи. В том все дело, что все могу. Никого не боюсь. Вот в Союзе сто сорок миллионов, товарищи, и кого-нибудь каждый миллион боится, а я никого не боюсь. Никого. Все равно умирать. Все равно умирать. Ой, держите, а то я плясать начну. Я сегодня над всеми людьми владычествую. Я – диктатор. Я – царь, дорогие товарищи. Все могу. Что хочу, то и сделаю. Что бы сделать такое? Что бы сделать такое со своей сумасшедшей властью, товарищи? Что бы сделать такое, для всего человечества… Знаю. Знаю. Нашел. До чего это будет божественно, граждане. Я сейчас, дорогие товарищи, в Кремль позвоню. Прямо в Кремль. Прямо в красное сердце советской республики. Позвоню… и кого-нибудь там… изругаю по-матерному. Что вы скажете? А? (Идет к автомату.)
Аристарх Доминикович. Ради бога!
Клеопатра Максимовна. Не надо, Семен Семенович.
Отец Елпидий. Что вы делаете?
Маргарита Ивановна. Караул!
Семен Семенович. Цыц! (Снимает трубку.) Все молчат, когда колосс разговаривает с колоссом. Дайте Кремль. Вы не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Ктой-то? Кремль? Говорит Подсекальников. Под-се-каль-ни-ков. Индивидуум. Ин-ди-ви-ду-ум. Позовите кого-нибудь самого главного. Нет у вас? Ну, тогда передайте ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня. И потом передайте ему еще, что я их посылаю… Вы слушаете? Боже мой. (Остолбенел. Выронил трубку.)
Аристарх Доминикович. Что случилось?
Семен Семенович. Повесили.
Виктор Викторович. Как?
Отец Елпидий. Кого?
Семен Семенович. Трубку. Трубку повесили. Испугались. Меня испугались. Вы чувствуете? Постигаете ситуацию? Кремль – меня. Что же я представляю собою, товарищи? Это боязно даже анализировать. Нет, вы только подумайте. С самого раннего детства я хотел быть гениальным человеком, но родители мои были против. Для чего же я жил? Для чего? Для статистики. Жизнь моя, сколько лет издевалась ты надо мной. Сколько лет ты меня оскорбляла, жизнь. Но сегодня мой час настал. Жизнь, я требую сатисфакции.
[Марья Лукьяновна и Серафима Ильинична готовятся к приходу Подсекальникова, мечтают о его новой работе. В это время приносят письмо Подсекальникова, в котором он просит тещу осторожно предупредить жену о том, что его уже нет в живых. Марья Лукьяновна рыдает, в это время в комнату входят участники банкета и утешают ее. Пришедшая с ними портниха тут же внимает с нее мерку для пошива траурного платья, а модистка предлагает выбрать к этому платью шляпку. Гости уходят.]
Серафима Ильинична. Ты бы, Машенька, шляпку сняла, истреплется.
Мария Лукьяновна. Пусть истреплется. Ничего мне не жалко на свете, мамочка. Все равно мне не жить. Для чего мне нужна моя жизнь окаянная, если полного счастья ни разу не было. Сеня был – шляпы не было, шляпа стала – Семена нет. Господи! Почему же ты сразу всего не даешь?
[В это время двое подозрительных мужчин вносят тело мертвецки пьяного Подсекальникова. Придя в себя, он воображает, что уже на том свете. Появляется мальчик из бюро похоронных процессий с огромными венками, а затем приносят гроб. Подсекальников пытается застрелиться, но не может – смелости не хватает. Услышав голоса, он прыгает в гроб. Входит толпа народу, отец Елпидий совершает отпевание.]
[На кладбище у свежевырытой могилы звучат надгробные речи. Отец Елпидий утверждает, что Подсекальников застрелился из-за того, что закрывают церкви, мясник Никифор Арсентьевич – что из-за закрытия кооперативных магазинов, Гранд-Скубик – за идеалы интеллигенции, каждый пытается озвучить собственную версию самоубийства. Во время прощания растроганный Подсекальников встает из гроба.]
Семен Семенович. Рису, рису мне, Маргарита Иванов на, дайте рису. (Вырывает кутью.) Товарищи, я хочу есть. (Ест.) Ночь, и еще ночь, и еще день пролежал я в этом гробу. И только один раз удалось мне выбраться из часовни и купить себе пару булок. Товарищи, я хочу есть. Но больше, чем есть, я хочу жить.
Аристарх Доминикович. Но позвольте… как жить?
Семен Семенович. Как угодно, но жить. Когда курице отрубают голову, она бегает по двору с отрубленной головой, пусть как курица, пусть с отрубленной головой, только жить. Товарищи, я не хочу умирать: ни за вас, ни за них, ни за класс, ни за человечество, ни за Марию Лукьяновну. В жизни вы можете быть мне родными, любимыми, близкими. Даже самыми близкими. Но перед лицом смерти что же может быть ближе, любимей, родней своей руки, своей ноги, своего живота. Я влюблен в свой живот, товарищи. Я безумно влюблен в свой живот, товарищи.
Клеопатра Максимовна. Ну, и этот туда же, за Раисой Филипповной. <…>
Аристарх Доминикович. Вы мерзавец. Вы трус, гражданин Подсекальников! То, что вы говорили сейчас, – отвратительно. Нужно помнить, что общее выше личного, – в этом суть всей общественности.
Семен Семенович. Что такое общественность – фабрика лозунгов. Я же вам не о фабрике здесь говорю, я же вам о живом человеке рассказываю. Что же вы мне толкуете: «общее», «личное». Вы думаете, когда человеку говорят: «Война. Война объявлена», вы думаете, о чем спрашивает человек, вы думаете, человек спрашивает – с кем война, почему война, за какие идеалы война? Нет, человек спрашивает: «Какой год призывают?» И он прав, этот человек.
Аристарх Доминикович. Вы хотите сказать, что на свете не бывает героев.
Семен Семенович. Чего не бывает на свете, товарищи. На свете бывает даже женщина с бородой. Но я говорю не о том, что бывает на свете, а только о том, что есть. А есть на свете всего лишь один человек, который живет и боится смерти больше всего на свете.
Александр Петрович. Но ведь вы же хотели покончить с собой.
Аристарх Доминикович. Разве вы нам об этом не говорили?
Семен Семенович. Говорил. Потому что мысль о самоубийстве скрашивала мою жизнь. Мою скверную жизнь,
Аристарх Доминикович, нечеловеческую жизнь. Нет, вы сами подумайте только, товарищи: жил человек, был человек и вдруг человека разжаловали. А за что? Разве я уклонился от общей участи? Разве я убежал от Октябрьской революции? Весь Октябрь я из дому не выходил. У меня есть свидетели. Вот я стою перед вами, в массу разжалованный человек, и хочу говорить со своей революцией: что ты хочешь? Чего я не отдал тебе? Даже руку я отдал тебе, революция, правую руку свою, и она голосует теперь против меня. Что же ты мне за это дала, революция? Ничего. А другим? Посмотрите в соседние улицы – вон она им какое приданое принесла. Почему же меня обделили, товарищи? Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззвания «Всем. Всем. Всем», даже тогда не читаю я этого, потому что я знаю – всем, но не мне. А прошу я немногого. Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания – все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье. <…> Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: «Нам трудно жить». Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом проживем.
[Присутствующие недовольны таки решением Подсекальникова, однако он, вынув револьвер, предлагает любому занять его место. Желающих не находится.]
Семен Семенович. Испугались, голубчики. Ну, так в чем же тогда вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что живу. Я живу и другим не мешаю, товарищи. Никому я на свете вреда не принес. Я козявки за всю свою жизнь не обидел. В чьей я смерти повинен, пусть он выйдет сюда. <…>
Вбегает Виктор Викторович.
Виктор Викторович. Федя Питунин застрелился. (Пауза.) И оставил записку. <…> «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит».
Траурный марш.
1929
Общая характеристика русской драматургии 2-й половины XX века
К середине 1950-х годов под влиянием мощного общественного импульса обнаружился огромный творческий потенциал художественной интеллигенции, в том числе и деятелей театра. На театральные подмостки, как свежий ветер, ворвалось дыхание жизни. Театральное десятилетие с 1957 по 1967 год вообще было богато на открытия ярких режиссерских имен. Незабываемы такие явления, как Ленинградский Большой драматический театр, возглавляемый Г.А. Товстоноговым, только появившийся «Современник» во главе с О.Н. Ефремовым, выдающиеся постановки А.В. Эфроса в Центральном детском театре, а потом и в Московском театре им. Ленинского комсомола, спектакли Михаила Туманишвили в грузинском Театре им. Руставели или рождение Театра драмы и комедии на Таганке в 1965 году.
Однако было бы неверным представлять время театральной «оттепели» исключительно в оптимистических красках. Конец 1950-х-1960-е годы – период по-своему драматический, в чем-то даже парадоксальный. С одной стороны, гражданская зрелость общества требовала воплощения во всех сферах общественного бытия, и сделано было для этого все же немало. Но, с другой стороны, в искусстве, в том числе и театральном, по-прежнему господствовали командный стиль, волевое администрирование. Не потому ли зрители тогда так и не увидели на столичной сцене пьес замечательного драматурга Александра Вампилова? В том и состоял парадокс времени, что представители творческой интеллигенции неизбежно сталкивались с практическими трудностями в осуществлении своих замыслов.
Расширяется жанровый диапазон драматургии: развивается и социально-психологическая драма, и историко-документальная пьеса, и комедия. Интерес к молодому герою-современнику, стремление к жизненной правде, к воссозданию реальности с ее острыми проблемами и конфликтами свойственны были всей литературе «оттепели», но драматургии в особенности.
С середины 1950-х годов, когда оживились культурные связи с зарубежными странами и знаменитые европейские театры стали гастролировать в Советском Союзе, драматурги и зрители получили возможность приобщиться хотя бы к некоторым интересным явлениям западноевропейской и американской драматургии. Особенно велик в те годы был интерес к творчеству и теоретическим концепциям Б. Брехта. Не случайно Театр драмы и комедии на Таганке открылся спектаклем по его пьесе «Добрый человек из Сезуана».
Главное место в репертуаре театров заняла социально-психологическая драма, исследовавшая нравственные проблемы жизни современного и, как правило, молодого героя. «Молодежная» тема, окрасившая творчество многих прозаиков, в драматургии оказалась связана в первую очередь с именем В.С. Розова («В добрый час!», 1955; «В поисках радости», 1956).
С жизненными устремлениями молодых героев драмы связывались прежде всего мотивы дороги, путешествий, дальних странствий, помогавших им обрести себя, свое призвание. Для тогдашних юных романтиков Сибирь или целина были не просто географическими понятиями, а символами иной жизни, непохожей на заурядную, мещанскую повседневность, и, соответственно, иных нравственных ценностей. Казалось, стоит только отправиться в путь, сменить привычную городскую квартиру на таежную палатку, и твоя жизнь обретет истинный смысл и сам ты изменишься – станешь сильнее, мужественнее, узнаешь цену истинной дружбе, может быть, встретишь свою любовь. Эти настроения тоже были приметой времени, и неудивительно, что они получили в драматургии самое широкое распространение, в частности, нашли отзвук в таких популярных в свое время пьесах, как «Иркутская история» А. Арбузова (1959) и «Океан» А. Штейна (1960).
Однако драматургов-шестидесятников интересовали не только события и обстоятельства чрезвычайные и характеры необычные, яркие. Все чаще их привлекали разные стороны повседневного существования самых обычных людей. Таких драматургов, как А. Володин («Фабричная девчонка», 1956; «Пять вечеров», 1957; «Старшая сестра», 1961), Л. Зорин («Гости», 1953; «Варшавская мелодия», 1967), Э. Радзинский («104 страницы про любовь», 1964; «Чуть-чуть о женщине», 1968), М. Рощин («Старый новый год», 1967), часто упрекали в «бытописательстве» и «мелкотемье», но режиссеров, актеров и зрителей это не смущало. В этих произведениях они искали и находили пристальное внимание к психологии человеческих отношений, добрый, ироничный взгляд на окружающую действительность, поэтизацию милых «мелочей» быта, а также узнаваемые, достоверные жизненные ситуации и характеры.
Важное место в драматургии 1950-1960-х годов продолжала занимать военная тема. События Великой Отечественной войны требовали уже не публицистического прочтения, а нового уровня нравственного осмысления. Этические проблемы – героизм и предательство, честь и бесчестье, долг и совесть – оказались в центре внимания в таких пьесах, как «Гостиница «Астория»» (1956) А. Штейна, «Барабанщица» (1958) А. Салынского, «Где твой брат Авель?» (1956) Ю. Эдлиса, «Соловьиная ночь» (1969) В. Ежова.
Возросший в годы «оттепели» интерес к истории способствовал появлению и серьезной исторической прозы, и исторической драматургии. По-прежнему официальной критикой приветствовалось в первую очередь стремление драматургов воплотить на сцене образ вождя мирового пролетариата. Удивительно, однако, что даже в этой области драматургии нашлись свои «отщепенцы», произведения которых не без труда пробивались на сцену. Речь идет прежде всего о пьесах М. Шатрова. Одна из ранних его пьес «Именем революции» (1958) была выдержана вполне в духе погодинской ленинианы, но в дальнейших произведениях – «Шестое июля» (первая редакция – 1964, вторая редакция – 1973), «Большевики» (1967), «Так победим!» (1981) – драматург по мере сил и тогдашних (конечно, весьма ограниченных) возможностей старался пройти путь от «мифа о вожде пролетариата» к подлинным историческим реалиям сложного и противоречивого революционного и послереволюционного времени.
Опыт М. Шатрова свидетельствовал, что драматург, обращаясь к историческому документу, может добиться успеха только тогда, когда пытается аналитически этот документ осмыслить, а не пересоздать в угоду сложившейся политической конъюнктуре, как это позволили себе сделать, например, С. Алешин в пьесе «Дипломат» (1967) или А. и П. Тур в пьесе «Чрезвычайный посол» (1967). Подобный «псевдодокументализм» был весьма распространен в те годы в драматургии. Его натиску, помимо М. Шатрова, пытался противостоять и Л. Зорин, создавший историко-документальные драмы «Декабристы» (1967) и «Медная бабушка» (1970).
Отечественный театр следующего десятилетия – 1970-х годов – был совершенно особым явлением: здесь на сцену нередко пробивалась правда, которую невозможно было увидеть на теле– и киноэкране из-за того, что телевидение и кино были гораздо более доступны массовой аудитории. Театр для российской интеллигенции периода застоя был и искусством, и политической трибуной, и местом подлинных духовных откровений.
Продолжил в эти годы свой трудный путь Театр на Таганке, не снижал художественной планки и Г.А. Товстоногов в Ленинградском БДТ. В полный голос заявило о себе новое поколение талантливых театральных режиссеров – М. Захаров, Л. Додин, Р. Стуруа, А. Васильев, Ю. Еремин, Р. Виктюк, К. Гинкас и др. Так что говорить о застое в развитии отечественного театра никак не приходилось.
И все же признанным лидером в литературе 1970-х годов была не драматургия, а проза, чутко реагировавшая на изменения в общественном сознании, остроконфликтная, многоплановая. И она мощным потоком хлынула на театральные подмостки, заметно потеснив в репертуаре собственно драматические произведения. Критика даже назвала этот период десятилетием инсценировок. Романы, повести, рассказы Ф. Абрамова, Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, Б. Васильева, Д. Гранина, В. Распутина, Ю. Трифонова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Тендрякова с разным успехом инсценировались в театрах по всей стране.