Коринна, или Италия де Сталь Жермена
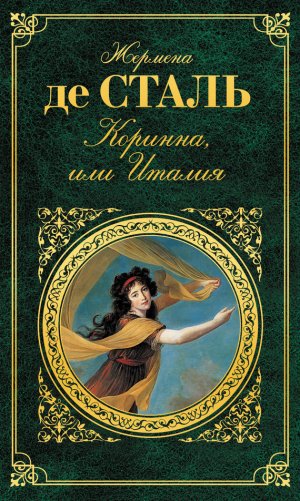
Квиринальский и Виминальский холмы так тесно примыкают друг к другу, что трудно различить их границу; тут находились дома Саллюстия{92} и Помпея, а в новое время папа избрал это место для своей резиденции. В Риме нельзя шагу ступить, чтобы не сблизить минувшее с настоящим, равно как и различные прошедшие эпохи – между собой. Но когда созерцаешь эту вечную смену судеб человечества, учишься спокойно принимать события своего времени: перед лицом стольких столетий, истребивших плоды трудов предшествующих поколений, становится стыдно предаваться мелочным тревогам повседневной жизни.
Подле семи холмов, на их склонах, на вершинах – повсюду вздымаются бесчисленные колокольни, обелиски, колонна Траяна, колонна Антонина, башня Конти, с которой Нерон, по преданию, любовался пожаром Рима{93}, и, наконец, – господствующий над всем городом купол собора Святого Петра. Так и кажется, что все эти вышки, возносящиеся в небо, парят в воздухе и что над земным городом величаво простирается другой город – воздушный.
Возвращаясь домой, Коринна прошла с Освальдом под портиком Октавии – женщины, столь сильно любившей и столь много страдавшей{94}; потом они пересекли «Проклятую дорогу»{95}, по которой проехала нечестивая Туллия, попирая труп своего отца копытами коней; оттуда виднеется вдалеке храм, воздвигнутый Агриппиной в честь Клавдия{96}, отравленного по ее приказанию; наконец, следуя той же дорогою, они миновали гробницу Августа, за внутренней оградой которой можно сейчас видеть площадку, служившую некогда ареной для боя хищных зверей{97}.
– Я повела вас в очень краткое путешествие по следам античной истории, – сказала Коринна лорду Нельвилю, – но вы поймете теперь, сколько наслаждений сулят подобные изыскания – ученые и вместе с тем поэтические: они говорят равно воображению, как и уму. В Риме есть немало почтенных людей, посвятивших себя поискам новых соотношений между историей и древними руинами.
– Я бы не нашел для себя занятия более увлекательного, – ответил Нельвиль, – будь у меня достаточно душевного спокойствия; такого рода изучение истории воодушевляет гораздо больше, чем изучение по книгам: можно сказать, что перед тобой оживает то, что тебе открывается, и минувшее восстает из пепла, под которым оно было погребено.
– Без сомнения, – прибавила Коринна, – страсть к изучению античности – это не пустая причуда. Мы живем в такой век, когда почти всеми поступками людей руководит личный интерес. Но разве может когда-нибудь личный интерес породить сочувствие, вдохновение, энтузиазм? И как сладостно возвращаться в мечтах к тем дням истинной преданности, самоотвержения, героизма! ведь были же они в самом деле, ведь их величавые следы и поныне хранит наша земля!
Глава шестая
Коринна втайне надеялась, что она завоевала сердце Освальда, но, зная его сдержанность и строгость его правил, не осмеливалась открыто выказать ему свое расположение, хотя не в ее натуре было скрывать свои чувства. Может быть, ей казалось, что, когда они вели беседу между собой даже о предметах совершенно посторонних, звук голосов выдавал их взаимную склонность, а в их взорах, говоривших на том неясном и чуть грустном языке, который столь глубоко проникает в душу, таилось молчаливое признание в любви.
Однажды утром, когда Коринна готовилась к обычной прогулке с Освальдом, она получила от него записку, в которой он довольно сухо уведомлял ее, что занемог и на несколько дней прикован к дому. Какое-то мучительное беспокойство сжало сердце Коринны; сначала она испугалась, не опасно ли он заболел; но граф д’Эрфейль, которого она увидела в тот же вечер, сказал ей, что у Освальда приступ меланхолии, какой он бывает подвержен, и что в такое время он ни с кем не хочет говорить.
– Даже я, – прибавил граф д’Эрфейль, – не вижусь с ним, когда он в подобном состоянии.
Это «даже я» не слишком понравилось Коринне, но она остереглась выразить неудовольствие единственному человеку, от кого могла хоть что-нибудь узнать о лорде Нельвиле. Она принялась его расспрашивать, надеясь, что человек столь легкомысленный – по крайней мере с виду – не преминет сообщить ей все, что ему известно. Но то ли он решил под маской таинственности скрыть от Коринны, что Освальд не поверяет ему своих секретов, то ли почел более благопристойным уклониться от ответа, – как бы там ни было, жгучее любопытство Коринны натолкнулось на непоколебимое молчание. Коринна, всегда подчинявшая своему влиянию собеседника, не могла понять, почему вся сила ее убеждения не оказывает действия на графа д’Эрфейля: или она позабыла, что нет ничего на свете более упрямого, чем самолюбие?
Как еще могла Коринна узнать о том, что происходило в душе у Освальда? Написать ему? Но как много предосторожностей надобно соблюдать в письме, а в Коринне милее всего были ее искренность и простота! Прошло уже три дня, как она не видела его, и сердце ее изнывало в смертной тоске. «Что я сделала, – спрашивала она себя, – чтобы так оттолкнуть его? Ведь я не говорила ему о своей любви, я не совершила этой ошибки, за которую так жестоко карают в Англии и так охотно прощают в Италии. Догадался ли он? Но отчего же тогда он должен потерять ко мне уважение?»
Между тем Освальд отдалился от Коринны только потому, что слишком живо почувствовал все возрастающую власть ее обаяния. Правда, он не давал слова жениться на Люсиль Эджермон, но знал, что отец прочил ему ее в жены, и Освальд желал выполнить волю покойного. К тому же настоящее имя Коринны никому не было известно и она несколько лет вела слишком независимый образ жизни; женитьба на ней (лорд Нельвиль был уверен в этом) не получила бы одобрения отца, и сын отлично понимал, что не таким путем мог бы искупить свою вину перед ним. Вот каковы были причины, заставившие Освальда отдалиться от Коринны. Он принял решение покинуть Рим и перед отъездом объясниться с Коринной в письме, рассказав ей о том, что побудило его так поступить; однако у него не хватило сил выполнить свое намерение, и он ограничился тем, что перестал бывать у Коринны, хотя уже на другой день эта жертва показалась ему чересчур тяжелой.
Коринну ужасала мысль, что она более не увидит Освальда и он уедет, не простившись с ней. Каждую минуту она ожидала услышать известие о его отъезде, и непрестанный страх так разжег ее чувства, что страсть уже вонзила свои ястребиные когти в ее душу, – страсть, которая губит и счастье, и независимость человека. Коринне опостылел ее дом, где Освальд уже не бывал, и она часто бродила по римским садам, надеясь там встретить его. В такие часы ей бывало легче: выбирая дорожки наугад, она подстерегала счастливый случай, который дал бы ей возможность увидеть его. Пламенное воображение Коринны было источником ее дарования; но, к несчастью, соединяясь с ее способностью жить глубокими чувствами, оно приносило ей и мучения.
Прошло уже четверо суток со времени жестокой разлуки Коринны с Освальдом. Светила полная луна. Рим прекрасен в ночном безмолвии, когда чудится, будто он обитаем лишь великими тенями! Возвращаясь от своей приятельницы, подавленная горем, Коринна вышла из коляски, чтобы немного отдохнуть у фонтана Треви: этот могучий водомет, взвиваясь каскадом, шумит в самом центре Рима и кажется душою тихой маленькой площади. Когда же случается этому фонтану умолкнуть на несколько дней, то можно подумать, что весь Рим пришел в оцепенение. Если в других городах слух нуждается в привычном стуке колес, то в Риме нельзя жить без рокота этого грандиозного фонтана, неустанно сопровождающего мечтательное существование, которое там ведешь. Лицо Коринны отразилось в воде, такой чистой, что ее веками называли «Водой девы»{98}. Освальд, остановившийся на том же самом месте минуту спустя, заметил в воде прелестный облик своей подруги. Его охватило бурное волнение, и в первый момент он подумал: уж не игра ли это воображения, вызвавшего перед ним образ Коринны, как оно не раз вызывало образ его отца? Он наклонился к бассейну, чтобы лучше разглядеть, и рядом с чертами Коринны появились его черты. Она узнала его, вскрикнула и, бросившись к нему, схватила его за руку, словно боялась, что он снова исчезнет; но едва она отдалась своему неудержимому порыву, как вспомнила о характере лорда Нельвиля и покраснела, устыдившись, что слишком пылко выказала свои чувства; она отдернула руку, которую Освальд задержал в своей, и закрыла лицо руками, чтобы он не видел ее слез.
– Коринна, – сказал Освальд, – дорогая Коринна! Так мое отсутствие причинило вам горе?
– О да! – ответила она. – И вы это знали. Зачем вы заставили меня страдать? Разве я это заслужила?
– Нет! – воскликнул лорд Нельвиль. – Конечно нет! Но если я не считаю себя свободным, если сердце мое полно беспокойства и раскаяния, зачем мне и вас подвергать этим мукам? Зачем…
– Поздно, – перебила его Коринна, – слишком поздно! Тяжкий недуг уже овладел мною: пощадите меня!
– Тяжкий недуг овладел вами! – воскликнул Освальд. – Вами, которая занимает столь блестящее положение, пользуется таким успехом, наделена таким богатым воображением?
– Полно! – ответила Коринна. – Вы меня не знаете: из всех способностей, какими я наделена, самая развитая – это способность страдать. Я рождена для счастья, у меня открытый характер и живое воображение; но страдание доводит меня до исступления, оно может помутить мой разум, заставить наложить на себя руки. Еще раз прошу вас, пощадите меня! Я только с виду кажусь живой и веселой: в глубине моей души таится безмерная печаль, и я бы могла спастись от нее, лишь избегая любви.
Выражение, с каким Коринна произнесла эти слова, взволновало Освальда.
– Я приду к вам завтра утром, – сказал он. – Поверьте мне, Коринна!
– Вы клянетесь мне в этом? – спросила она с тревогой, которую тщетно пыталась скрыть.
– Да, я клянусь вам! – ответил лорд Нельвиль и удалился.
Книга пятая
Гробницы, церкви и дворцы
Глава первая
Наутро Освальд и Коринна встретились в полном смущении. У Коринны уже не было прежней уверенности, что она внушала ему любовь. А Освальд был недоволен собой; он сознавал, что в его характере была известная слабость, побуждавшая его порой восставать против собственных правил, как против несносной тирании. Они решили не касаться в разговоре своих взаимных чувств.
– Сегодня я предлагаю вам, – начала Коринна, – совершить довольно печальную экскурсию, но я думаю, что она вам покажется интересной. Мы поедем осматривать гробницы – последний приют тех, кто жил среди памятников, которые вы видели в развалинах.
– О, вы угадали, – ответил Освальд, – что сегодня подходит к моему настроению.
Он сказал это таким горестным тоном, что Коринна умолкла и некоторое время не осмеливалась заговорить с ним. Но желание облегчить ему душевную муку и развлечь его рассказом о том, что им предстоит вместе увидеть, придало ей храбрости.
– Вы, конечно, знаете, милорд, – продолжала Коринна, – что древние отнюдь не считали, будто вид погребальных памятников наводит уныние. Напротив, гробницы воздвигали на больших дорогах как раз для того, чтобы, напоминая юношеству о знаменитых согражданах, они вселяли в него дух соревнования и безмолвно приглашали следовать великим примерам.
– О, как я завидую тем, – со вздохом проговорил Освальд, – кто может скорбеть о своих близких, не испытывая при этом угрызений совести.
– Угрызений совести! – в изумлении повторила Коринна. – Могут ли у вас быть угрызения совести? Ах, я уверена, что ваши душевные муки только следствие вашей добродетели: вы слишком строги к себе, вы слишком тонко чувствуете.
– Коринна, Коринна, – перебил ее Освальд, – лучше не касайтесь этого предмета! В вашей благодатной стране, под вашим лучезарным небом исчезают все тяжелые думы, а у нас тоска, закравшаяся в сердце, губит всю нашу жизнь.
– Вы неверно судите обо мне, – отвечала Коринна, – я говорила вам, что рождена для счастья, но я бы страдала больше вас, если бы…
Она запнулась и поспешила переменить разговор.
– У меня лишь одно желание, милорд, – сказала она, – это развлечь вас хоть на мгновение; больше я ни на что не надеюсь.
Смирение, с каким были сказаны эти слова, тронуло лорда Нельвиля; заметив, как затуманились глаза Коринны, всегда полные жизни и огня, он упрекнул себя в том, что опечалил женщину, созданную для ярких и радостных впечатлений. Он попытался разогнать ее грусть, но она была так озабочена его планами на будущее и возможным его отъездом, что обычная ясность духа уже больше не возвращалась к ней.
Коринна и лорд Нельвиль поехали за город – туда, где посреди Римской Кампаньи некогда проходила Аппиева дорога{99}. На древние следы этой дороги указывают надгробия, тянущиеся по обеим ее сторонам, покуда хватает глаз, на расстоянии нескольких миль от городских ворот. Римляне запрещали погребения внутри города: исключение из этого правила делалось только для императорских усыпальниц. Впрочем, некий простой гражданин Публий Библий был удостоен этой чести за какие-то неведомые заслуги. Пожалуй, именно такие заслуги охотнее всего почитаются современниками.
Аппиева дорога идет от врат Святого Себастьяна, прежде называвшихся Капенскими воротами. Цицерон говорил, что при выходе из этих ворот первыми виднелись фамильные склепы рода Метеллов, Сципионов и Сервилиев. Гробница одного из Сципионов{100}, найденная в этих местах, была перенесена в Ватикан. Когда переносят прах покойников и трогают руины, то совершают нечто похожее на святотатство. Моральное начало крепче держится в сознании людей, чем это можно предположить, и не следует его оскорблять. Среди множества гробниц, привлекающих к себе внимание на Аппиевой дороге, попадаются и такие, на которых имена усопших начертаны наугад, ибо невозможно было проверить их правильность; но и самая эта неизвестность вызывает волнение и не позволяет спокойно проходить мимо них. Некоторые из этих гробниц крестьяне превратили в жилища: римляне воздвигали просторные постройки над урнами своих друзей и именитых сограждан. Им был чужд тот бесплодный принцип утилитарности, при котором предпочитают несколько лишних клочков возделанной земли обширному миру чувств и воображения.
Невдалеке от Аппиевой дороги высится храм, который республика воздвигнула Чести и Доблести, а немного поодаль виден другой храм – он посвящен богу, внушившему Ганнибалу повернуть свои стопы обратно{101}; там же находится источник нимфы Эгерии{102}, куда Нума приходил спрашивать совета у божества, особенно почитаемого добропорядочными людьми, – у совести, с которой ведут беседу наедине с собой. Кажется, что близ гробниц на Аппиевой дороге все говорит лишь о римской добродетели. Века преступлений не оставили следов в этих местах, где покоятся славные мужи древности: самый воздух, окружающий их, точно дышит благоговением и благородными, ничем не омраченными воспоминаниями.
Облик Римской Кампаньи на редкость своеобразен: это, конечно, пустыня, где нет ни деревьев, ни селений; но земля там покрыта буйным, взращенным природой, зеленым покровом. Вьющиеся растения оплетают гробницы и, украшая развалины, живут словно лишь для того, чтобы воздавать почести мертвым. С тех пор как Цинциннаты перестали ходить за плугом{103}, бороздя лоно земли, кажется, будто она надменно отвергла труды человека; земля рождает здесь щедро, без счета, не позволяя людям, однако, вкушать от ее плодов. Эта невозделанная равнина, конечно, не радует взоров земледельцев, государственных деятелей – всех тех, кто, извлекая доход из земли, обрабатывает ее ради потребностей и нужд человеческих; но души, погруженные в мечтания, – те, кого мысль о смерти занимает не меньше, чем мысль о жизни, находят отраду в созерцании Римской Кампаньи, лишенной малейшей приметы современного века, – этой земли, которая в нежной заботе о покойных покрывает гробницы бесполезными травами и бесполезными цветами; и эти растения стелются всегда понизу, никогда не поднимаясь кверху, словно из опасения расстаться с прахом, который они будто ласкают.
Освальд согласился с Коринной, что в этом месте больше, чем где-либо, можно насладиться душевным покоем. Сердце не терзают здесь так сильно печальные образы, беспрестанно встающие перед мысленным взором страждущего; здесь словно разделяешь вместе с ушедшими радость, которую дарят и этот воздух, и это солнце, и эта зелень. Коринна заметила, какое впечатление произвела Кампанья на Освальда, и в душе у нее зародилась надежда. Она не обольщала себя мыслью, что сможет утешить Освальда в его горе; да она и не стремилась вовсе изгладить из его сердца скорбь, столь естественную при потере отца; но она знала, что и в самой скорби есть нечто благотворное, успокаивающее, и надо стараться внушить это тем, кто ведает лишь горечь утраты: только так можно помочь им.
– Остановимся подле этой гробницы, – предложила Коринна, – единственной, почти не тронутой временем. Здесь покоятся останки не знаменитого римлянина, а юной Цецилии Метеллы{104}, и памятник этот ей поставил отец.
– О, как счастливы дети, которые умирают в объятиях своих отцов, – сказал Освальд, – они встречают свой конец на груди тех, кто даровал им жизнь. Сама смерть уже тогда не страшна.
– Да, – с волнением подхватила Коринна, – счастливы те, кто не остался сиротами. Смотрите: на этой гробнице изображено оружие, хоть здесь и похоронена женщина, но дочери героев имеют право на то, чтобы их могилы украшали трофеями отцов: какое прекрасное соединение невинности и мужества! У Проперция есть элегия, лучше всех произведений античной поэзии рисующая нравственные достоинства римлянок – еще более высокие и чистые, чем те, какие вызывали такое преклонение перед женщинами в эпоху рыцарства. Корнелия умирает во цвете лет и, необычайно трогательно прощаясь с мужем, обращает к нему слова утешения, и почти в каждом ее слове чувствуется, как святы и почитаемы были тогда брачные узы. Эти величавые латинские стихи, суровые и возвышенные, созданные властелинами мира, проникнуты благородной гордостью за безупречно прожитую жизнь. «Да, – говорит Корнелия, – ни одно пятно не легло на мою жизнь от факела Гименея и до погребального костра: я прожила чистою между этими двумя светильниками»{105}.
– Как это чудесно выражено! – воскликнула Коринна. – Какой возвышенный образ! И как достоин зависти удел женщины, которая сберегла нерушимым свой семейный очаг и унесла в могилу лишь одно-единственное воспоминание! Этого достаточно для целой жизни!
Коринна умолкла, и на глазах у нее показались слезы; какое-то тяжелое чувство вдруг охватило Освальда: ужасное подозрение шевельнулось в его душе.
– Коринна, – вскричал он, – Коринна! Неужели и вы можете в чем-нибудь упрекнуть себя? Если бы я мог располагать собой, если бы я мог предложить вам свою жизнь – не имел ли бы я соперников в прошлом? Был ли бы я вправе гордиться своим выбором? не омрачила ли бы мое счастье жестокая ревность?
– Я свободна, – ответила Коринна, – и люблю вас так, как никогда никого не любила. Чего же вы еще хотите? Неужто надо меня вынуждать признаться вам в том, что прежде, чем я вас узнала, я прельстилась обманчивой мечтой? Разве нет в человеческом сердце кроткого снисхождения к ошибкам, совершенным под влиянием чувства или хотя бы иллюзии чувства?
При этих словах лицо ее покрылось легким румянцем. Освальд затрепетал, но не промолвил ни слова. Во взгляде Коринны было такое смиренное раскаяние, что он не посмел ее строго судить; ему показалось, что само небо озарило ее своим лучом, отпустив ей вину. Он взял ее руку, прижал к груди и опустился перед ней на колени; он молчал, не давал никаких обетов, но его любящий взгляд обещал все.
– Послушайте меня! – сказала Коринна лорду Нельвилю. – Не надо задумываться о том, что будет. Самые счастливые минуты, выпадающие нам в жизни, – эта те, какие дарит нам благословенный случай. Да неужели можно здесь, среди этих гробниц, предаваться размышлениям о будущем?
– Нет, – воскликнул лорд Нельвиль, – нет! и я не верю, что будущее сможет разлучить нас. Четыре дня нашей разлуки показали мне, что я живу только вами.
Коринна ничего не ответила на эти пылкие слова, но с каким-то молитвенным благоговением заключила их в своем сердце; она боялась продолжить этот разговор, больше всего на свете занимавший ее, чтобы не заставить Освальда высказаться о своих намерениях, прежде чем сила длительной привычки сделает невозможным его отъезд. Иногда она даже умышленно направляла его внимание на посторонние предметы, подобно султанше из арабских сказок, которая хотела увлечь любимого тысячью разных рассказов и отдалить решение своей участи, доколе чары ее ума не одержат окончательной победы над его сердцем.
Глава вторая
Неподалеку от Аппиевой дороги Освальд и Коринна остановились, чтобы осмотреть один из колумбариев, в которых хоронили рабов вместе с господами и где под общими сводами покоились останки всех домочадцев, живших милостями своего покровителя или покровительницы. Так, например, подле урны Ливии{106} тянется ряд урн поменьше с прахом ее прислужниц, которые заботились о ее красоте и воевали с неумолимою силою времени, оспаривая у него прелести своей повелительницы. Кажется, будто целое сонмище безвестных усопших окружило одну знаменитую покойницу, столь же безгласную, как и вся ее свита! На некотором расстоянии от этого колумбария простирается поле, где зарывали живыми в землю весталок, изменивших своему обету{107}; странная черта фанатизма в религии, отличавшейся в основе своей терпимостью!
– Я не поведу вас в катакомбы, – сказала Коринна лорду Нельвилю, – хотя по странной случайности они расположены как раз под Аппиевой дорогой, так что одни могилы покоятся над другими. Эти убежища преследуемых за веру христиан так мрачны и страшны, что я бы не решилась спуститься туда еще раз: там не ощущаешь той умиротворяющей печали, которая нисходит на душу близ мест погребения под открытым небом. В катакомбах видишь темницу рядом с могилой, там мерещатся пытки рядом с ужасом смерти. Конечно, мы преклоняемся перед людьми, которые были охвачены таким религиозным экстазом, что смогли обречь себя на жизнь под землей, расставшись с природой и солнечным светом; но наша душа в подземелье томится, ничто там не радует ее. Человек – частица творения: он должен жить в нравственном согласии со всем мирозданием и включиться во всеобщий порядок вещей; могучие и внушающие ужас исключения из этого миропорядка поражают нас, но душа, находясь в обычном своем состоянии, не находит в этом ничего для себя утешительного. Пойдемте-ка лучше, – прибавила Коринна, – посмотрим пирамиду Цестия!{108} Около нее хоронят всех протестантов, скончавшихся в Риме. Это тихий уголок: все там дышит терпимостью и благожелательством.
– Да, – ответил Освальд, – многие из моих соотечественников нашли там себе место вечного упокоения. Пойдемте туда! Быть может, таким образом я не покину вас никогда.
Коринна встрепенулась при этих словах, и рука ее, опиравшаяся на руку Освальда, задрожала.
– Я лучше себя чувствую, – продолжал он, – гораздо лучше себя чувствую с тех пор, как узнал вас.
Лицо Коринны осветилось обычным ее выражением мягкой и нежной радости.
Цестий ведал при жизни празднествами римлян; его имя не вошло в историю, но гробница прославила его. Массивная пирамида, укрывшая прах Цестия, спасла его смерть от забвения, в которое канула его жизнь. Аврелиан, боясь, чтобы враги не использовали эту пирамиду как крепость при нападении на Рим, повелел включить ее в городскую стену, которая существует и ныне, но не как бесполезная руина, а как ограда современного города{109}. Полагают, что форма пирамиды возникла из подражания огненным языкам, поднимающимся над кострами. Верно это или нет, но таинственная форма пирамиды и в самом деле влечет к себе взоры, придавая живописный вид любой местности. Против пирамиды Цестия возвышается Тестацейская гора: она изобилует удивительно прохладными пещерами, и в летнее время в них устраиваются пиршества. Близость погребальных памятников никогда не смущает веселия в Риме. Пинии и кипарисы, чернеющие то тут, то там среди жизнерадостной природы Италии, тоже наводят на торжественно-скорбные размышления, но этот контраст производит такое же действие, что и стихи Горация{110}:
- ……………….Moriture Delli,
- …………………………..
- Linquenda tellus, et domus, et placens
- Uxor…[10] —
среди других его стихов, воспевающих наслаждения жизни. Древние всегда находили особую прелесть в мысли о смерти, к ней они обращались в любви и в веселье, и сознание быстротечности жизни заставляло их еще сильнее ощущать ее радости.
Коринна и Освальд возвращались домой после осмотра гробниц берегом Тибра. Когда-то он был усеян кораблями, по обеим его сторонам тянулись дворцы; даже в разливах его искали важных знамений: то была река-пророчица, река-божество, охраняющая Рим. Теперь Тибр течет словно в царстве теней – так пустынны его берега, так свинцово-мутны его воды! Прекраснейшие сокровища искусства, чудеснейшие статуи были брошены в него и исчезли в его волнах. Кто знает, не отведут ли когда-нибудь в сторону русло Тибра, чтобы их разыскать? При одной мысли о том, что лучшие создания человеческого гения, быть может, лежат здесь так близко от нас, и кто-то другой, более зоркий, чем мы, быть может, увидит когда-нибудь их сквозь воду, испытываешь неизъяснимое волнение, которое никогда не утихает в Риме, где все предметы – немые в других местах – ведут с нашей душой неумолкаемый разговор.
Глава третья
Рафаэль говорил, что новый Рим почти полностью вырос из обломков древнего города; и действительно – там и шагу ступить нельзя, не остановившись в изумлении перед остатками античности. Сквозь следы, наложенные столетиями, различаешь «вечные стены», как назвал их Плиний; печать истории лежит почти на всех римских постройках, и по ним можно проследить, как изменялся лик веков. Со времени этрусков – народа еще более древнего, чем римляне, создававшего, подобно египтянам, прочные памятники и причудливые изображения, – со времен этрусков до жеманного шевалье Бернини, близкого по манере итальянским поэтам XVII века{111}, и вплоть до наших дней мы повсюду в Риме улавливаем черты присущего ему духа: в архитектуре, в руинах, в характере различных искусств. Средневековье и блестящая пора Медичи{112} воскресают перед нами в произведениях старых художников; подобное изучение прошлого при помощи зримых предметов дает нам возможность проникнуть в душу эпохи. Есть предположение, что Рим когда-то носил другое – таинственное имя, известное лишь немногим посвященным. Вероятно, и сейчас надобно приобщиться к тайнам этого города. Это не просто скопление домов, – это история мира, олицетворенная в различных эмблемах, представленная в различных формах.
Коринна уговорилась с лордом Нельвилем, что сначала они осмотрят любопытные здания нового Рима, а знакомство с чудесными собраниями картин и статуй отложат до другого раза. Коринна, быть может безотчетно, желала как можно дольше оттянуть осмотр выдающихся произведений, без которого немыслимо покинуть Рим: кто же уезжал из этого города, не повидав Аполлона Бельведерского и картин Рафаэля? Как ни слаба была эта надежда, но мысль, что Освальд побудет еще немного в Риме, успокаивала Коринну. Но тут могут спросить: а есть ли гордость у женщины, которая хочет удержать любимого иными средствами, чем средствами любви? Не знаю; но чем больше любишь, тем меньше веришь, что внушаешь к себе подобное же чувство, и с радостью хватаешься за любой предлог, чтобы заставить дорогого человека остаться подле тебя. В известного рода гордости всегда есть немалая доля тщеславия; однако к пленительным свойствам Коринны, покоряющим сердца, принадлежало как раз и то достоинство, что она гордилась не тем, что внушала к себе любовь, а тем, что любила сама.
Коринна и Освальд возобновили свои прогулки по Риму, начав с посещения наиболее замечательных из многочисленных городских церквей. Все они убраны остатками былого античного великолепия, но нечто странное и сумрачное мерещится в этом прекрасном мраморе, в этих пышных украшениях, похищенных из языческих храмов. В Риме осталось от прошлых веков такое множество гранитных и порфировых колонн, что их совсем не щадили, не придавая им цены. В церкви Святого Иоанна Латеранского, прославленной происходившими в ней Вселенскими соборами, было такое огромное количество мраморных колонн, что часть из них облили гипсом и превратили в пилястры: чрезмерность богатства породила равнодушие к нему.
Одни из этих колонн окружали гробницу Адриана, другие – Капитолий; последние сохранили еще на своих капителях фигурки гусей, спасших римский народ{113}. На одних колоннах готический орнамент, а на других – арабский. В урне Адриана покоится прах одного из пап: теперь даже умершие уступают места другим покойникам и гробницы почти так же часто меняют своих хозяев, как дома – живых обитателей.
Близ церкви Святого Иоанна Латеранского находится святая лестница{114}, перенесенная, как говорят, из Иерусалима в Рим. Как того требует обычай, по ней поднимаются только на коленях. Сам Юлий Цезарь и Клавдий поднимались на коленях по ступеням, которые вели в храм Юпитера Капитолийского. Рядом с церковью Святого Иоанна Латеранского находится часовня, где, по преданию, крестили Константина. Посреди площади перед церковью высится обелиск{115} – быть может, самый древний монумент в мире: обелиск – современник Троянской войны! Обелиск, который варвар Камбиз настолько почтил своим уважением{116}, что для его спасения велел прекратить страшный пожар, грозивший гибелью всему городу! Обелиск, ради которого один царь отдал в заложники своего единственного сына! Римляне чудесным образом перевезли его из глубины Египта в Италию{117}: они отвели русло Нила так, чтобы он донес обелиск на волнах своих к морю. Этот обелиск испещрен иероглифами, которые столько веков хранят свои тайны и по сей день бросают вызов ученым, пытающимся их разгадать. Быть может, эти неразгаданные знаки рассказали бы об индийцах, египтянах, о древнейших из древних народов. Волшебное очарование Рима заключается не столько в самой красоте его памятников, сколько в том живом интересе, какой они возбуждают, – в интересе, возрастающем день ото дня при их изучении.
Одна из самых своеобразных церквей в Риме – это церковь Святого Павла: по внешнему виду она напоминает грубо сколоченный овин, но внутри украшена восемьюдесятью колоннами такого чудесного мрамора и такой совершенной формы, что полагают, будто они принадлежали одному из храмов в Афинах, описанных Павсанием{118}. Цицерон говорил: «Мы окружены следами истории». Если он так говорил в свое время, что же нам сказать сейчас?
Колонны, статуи и барельефы древнего Рима рассеяны в таком множестве по церквам современного города, что в одной из них (церкви Святой Агнесы) перевернутые на обратную сторону плиты с барельефами служат ступенями для лестницы, и никто не дает себе труда выяснить, что же изображено на них. Какое удивительное зрелище явил бы сейчас Рим, если бы весь этот мрамор – все эти колонны и статуи – поставили на то самое место, где их нашли! Древний город можно было бы восстановить почти целиком, но кто же из наших современников осмелился бы по нему прогуляться?
Дворцы римских вельмож громадны, зачастую прекрасны по своей архитектуре и всегда производят внушительное впечатление; однако их внутреннее убранство редко отличается хорошим вкусом и не идет ни в какое сравнение с изысканностью элегантных гостиных, отвечающих требованиям более развитой светской жизни других стран. Просторные апартаменты римских князей пустынны и безмолвны: беспечные обитатели дворцов предпочитают ютиться в невзрачных комнатках, предоставляя чужестранцам бродить по великолепным галереям, в которых собраны лучшие картины века Льва X. Римская знать в наше время столь же далека от пышной роскоши своих предков, сколь те были чужды добродетелям римлян эпохи республики. Загородные виллы дают еще более яркое представление о том замкнутом образе жизни, какой ведут равнодушные владельцы этих прелестнейших в мире спокойных уголков. Прогуливаясь по этим обширным садам, трудно поверить, что здесь живут их хозяева. Аллеи поросли травой, но деревья в заброшенных аллеях искусно подстрижены по старинной моде, некогда царившей во Франции. Странная прихоть: при полном небрежении к насущным потребностям такое увлечение всем ненужным! В Риме, да и в других городах Италии часто удивляет пристрастие итальянцев к вычурным украшениям, меж тем как перед глазами у них всегда столько примеров благородной античной простоты. Они любят блеск больше, нежели комфорт, изящество и уют. Пользуясь всеми преимуществами жизни, удаленной от общества, римские аристократы терпят, однако, и все ее неудобства. Им хочется скорее поражать воображение роскошью, чем наслаждаться ею; живя обособленно, они не опасаются насмешливых взоров, редко проникающих в их домашние тайны, и при виде контраста между внешним и внутренним обликом дворцов можно подумать, что римская знать, отделывая свои жилища, больше хлопочет о том, чтобы ослеплять прохожих, чем о том, чтобы принимать у себя друзей.
После того как Коринна и Освальд обошли церкви и дворцы, она повела его на виллу Меллини, окруженную уединенным садом, украшением которому служат лишь прекрасные деревья. Оттуда виднеется вдалеке цепь Апеннин; прозрачный воздух окрашивает вершины гор в разные цвета и, как бы приближая их резко обозначенные контуры, придает им причудливо-живописный вид. Освальд и Коринна помедлили немного в саду, радуясь ясному небу и спокойствию природы. Кто не бывал на Юге, тот не может представить себе этот удивительный покой. В жаркую пору не чувствуется дуновения ветерка; ни былинка не шелохнется в густой траве; даже животные охвачены сладкою ленью, которой все дышит летом: в полдень не слышно ни жужжания мух, ни стрекота цикад, ни пения птиц, никто и ничто не утомляет себя ненужными, скоропреходящими волнениями; все спит до мгновения, пока бури и страсти не разбудят буйную природу, которая с неистовством сбросит с себя цепи покоя.
Множество вечнозеленых растений еще больше усиливает иллюзию вечного лета, какую создает зимой в римских садах мягкий климат. Необыкновенно стройные сосны стоят так близко друг к другу, что их пушистые густые кроны образуют как бы лужайку в воздухе, которая открывается восхищенному взору того, кто поднялся настолько высоко, чтобы это увидеть. Под защитой зеленого свода тянутся вверх более низкие деревья. В Риме растут всего лишь две пальмы, и обе они находятся в монастырских садах: та из них, что виднеется на горе, позволяет издалека определять местность, и приятно наблюдать с различных пунктов города эту посланницу Африки, этот образ Юга, еще более пламенного, чем юг Италии, – образ, пробуждающий столько мыслей и новых ощущений.
– Не кажется ли вам, – спросила Коринна, любуясь вместе с Освальдом равниной, простирающейся вокруг них, – что нигде природа не располагает к мечтательности так, как в Италии? Можно сказать, что природа у нас так тесно связана с человеком, что Создатель через нее ведет беседу со своим творением.
– Без сомнения, – ответил Освальд. – Я тоже так думаю; но кто знает, быть может, глубокая нежность к вам, которая живет в моем сердце, помогает мне так живо отзываться на все, что я вижу перед собой; вы открыли мне те мысли и чувства, какие могут быть рождены лишь впечатлениями внешнего мира. Я жил моим сердцем, а вы разбудили мое воображение. Но все очарование мира, которое вы научили меня постигать, не подарит мне ничего более прекрасного, чем ваш взор, ничего более трогательного, чем ваш голос.
– О, если бы чувство, которое я вам внушаю сейчас, продлилось до тех пор, пока я живу, – воскликнула Коринна, – или пусть моя жизнь продлится до тех пор, пока это чувство живет!
Свою прогулку по городу Освальд и Коринна завершили посещением виллы Боргезе{119}, затмившей все сады и дворцы Рима великолепием природы и изысканностью художественных коллекций. В садах виллы Боргезе множество чудесных водоемов и всевозможных пород деревьев. Несравненные статуи, вазы, античные саркофаги, рассеянные на фоне свежей зелени юной природы Юга, производят удивительное впечатление. Так и кажется, что здесь ожили образы античной мифологии. На берегах вод отдыхают наяды, в зеленых рощах застыли нимфы, в прохладной тени деревьев, напоминающей о блаженстве елисейских полей{120}, прячутся гробницы. Посредине одного островка высится статуя Эскулапа; из волн словно поднимается Венера – по этим местам могли бы прогуливаться Овидий и Вергилий, воображая, что они все еще живут в век Августа. Совершенные образцы скульптуры, находящиеся в этом дворце, озаряют его немеркнущим светом. Сквозь ветви деревьев виднеется Рим: собор Святого Петра, окрестные равнины, длинные аркады, развалины акведуков, некогда доставлявших в город воду из горных источников. Все здесь дает пищу уму, воображению, мечтам. Чистейшие чувства, проникнутые душевной радостью, наводят на мысль о полном счастье; однако на вопрос, почему это дивное место необитаемо, обычно отвечают: нездоровый воздух (la cattiva aria) не позволяет здесь жить летом.
Нездоровый воздух словно идет приступом на Рим: с каждым годом он завоевывает себе все большее пространство, и люди вынуждены покидать очаровательные пригороды, подпавшие под его власть. Отсутствие деревьев вокруг Рима, несомненно, является одной из причин тлетворности тамошнего воздуха; быть может, поэтому древние римляне посвящали богиням свои леса, желая внушить народу почтение к ним. А теперь нет числа вырубленным лесам: разве есть в наши дни что-нибудь святое, перед чем остановилась бы человеческая алчность? Нездоровый воздух – бич жителей Рима, он угрожает городу полным опустением; но именно поэтому роскошные сады, расположенные в пределах Рима, имеют еще большее значение. Коварное действие вредоносного воздуха не дает себя знать никакими внешними признаками: когда его вдыхаешь, он кажется чистым и очень приятным, земля щедра и обильна плодами, прелестная вечерняя прохлада успокаивает после дневного палящего зноя, но во всем этом таится смерть!
– Меня влечет к себе, – сказал Освальд, – эта таинственная невидимая опасность, прячущаяся под сладостной личиной. Если смерть – в чем я уверен – призывает нас к более счастливому существованию, то почему бы аромату цветов, тени прекрасных деревьев, свежему дыханию вечера не быть ее вестниками? Конечно, всякое правительство должно заботиться о сохранении жизни людей; но у природы есть свои тайны, постичь которые можно лишь с помощью воображения, и я прекрасно понимаю, почему местные жители и иностранцы не бегут из Рима, хотя жить там в лучшую пору года бывает опасно.
Книга шестая
Нравы и характеры итальянцев
Глава первая
Нерешительность, свойственная натуре Освальда, еще более усугубившаяся его несчастьями, привела к тому, что он стал бояться бесповоротных решений. При своей неуверенности он даже не осмелился спросить у Коринны тайну ее имени и происхождения; однако же любовь его к ней с каждым днем все росла. Он не мог смотреть на нее без волнения; в обществе он с трудом мог заставить себя отойти на мгновение от места, где она сидела; он ловил каждое ее слово; малейшее выражение радости или печали, мелькавшее в ее глазах, отражалось и на его лице. Но как ни любил Освальд Коринну, как ни восхищался ею, он не забывал, насколько подобная женщина чужда всему жизненному укладу англичан, насколько не походит она на тот идеал, какой составил себе его отец, желая найти сыну достойную его супругу; поэтому, разговаривая с нею, он всегда испытывал чувство неловкости и смущения, вызванное постоянными раздумьями.
Коринна все это примечала, но ей было бы так тяжело порвать с лордом Нельвилем, что она сама решила не торопить минуту окончательного объяснения; от природы беззаботная, она была счастлива настоящим, не задумываясь над тем, что из всего этого может произойти.
Она совершенно отказалась от общества, чтобы всецело предаться своей любви к Освальду. Но все же, задетая под конец его молчанием относительно их будущего, она решила принять приглашение на бал, где была чрезвычайно желанной гостьей. Ни к чему в Риме не выказывают такого равнодушия, как к появлению в обществе человека, который недавно по собственной прихоти покинул его: в этом городе менее всего занимаются тем, что в других местах зовут «бабьими сплетнями»; каждый поступает, как ему заблагорассудится, и никого это не заботит – до тех пор, по крайней мере, пока его намерения не придут в столкновение с чьими-нибудь любовными или честолюбивыми интересами. Жителей Рима столь же мало беспокоит поведение их соотечественников, как и поведение иностранцев, которые то приезжают, то уезжают из Вечного города – этого места встречи всех европейцев.
Когда лорд Нельвиль услыхал, что Коринна собирается появиться на балу, он был раздосадован. Он полагал, что, сочувствуя ему, она и сама с некоторых пор находится в меланхолическом расположении духа; но вдруг оказалось, что ее охватило желание танцевать – искусство, в котором она особенно блистала, – и что она очень оживилась в ожидании праздника. Коринна отнюдь не была ветреной, но она сознавала, что любовь к Освальду с каждым днем все больше ее порабощает, и вздумала попытаться ослабить силу этого ига. По собственному опыту она знала, что никакие рассуждения и жертвы не воздействуют на пылкие натуры так, как развлечения, и считала, что в подобных случаях надлежит поступать не по принятым правилам, а сообразно своему характеру.
– Ведь мне надобно знать, – говорила она лорду Нельвилю, упрекавшему ее за это намерение, – мне надобно знать, только ли вами полна моя жизнь и может ли сейчас занимать меня то, что так радовало когда-то, или же моя любовь к вам поглотила все мои стремления и помыслы.
– Так вы хотите разлюбить меня? – прервал ее Освальд.
– Нет, – отвечала Коринна, – но только в семейной жизни можно быть счастливой, дыша одною лишь привязанностью. Я же должна развивать мои способности, мой ум и фантазию, чтобы поддерживать то положение в обществе, какое я избрала себе, а любить так, как я люблю вас, – это значит страдать, и очень сильно страдать.
– И вы бы не пожертвовали ради меня, – спросил Освальд, – всей вашей славой, поклонением, которым вас окружают?
– Вам нет нужды знать, пожертвовала ли бы я этим ради вас, – возразила Коринна. – Раз уж судьба не предназначила нас друг для друга, мне не к чему навеки губить хотя бы то счастье, каким я должна довольствоваться.
Лорд Нельвиль ничего не ответил на это: ведь, признайся он ей в своих чувствах, ему пришлось бы высказаться и о дальнейших своих намерениях, а он сам еще в сердце своем ни на что не решился. Он умолк и со вздохом против воли последовал за Коринной на бал.
Впервые со времени своей тяжелой потери он очутился в многолюдном собрании; праздничный шум причинил ему столь глубокую печаль, что он долго сидел в комнате рядом с бальным залом, склонив голову на руки, не пытаясь даже взглянуть на танцующую Коринну. Он слушал танцевальную музыку, которая, как и всякая музыка, погружает в задумчивость, хотя и создана для веселья. Тут появился и граф д’Эрфейль; он был в полном восторге от бала и многочисленного общества, отчасти напоминавшего ему Францию.
– Я всеми силами старался, – заявил он лорду Нельвилю, – найти хоть что-нибудь интересное в этих развалинах, о которых так много толкуют в Риме, но не вижу ничего замечательного в них: это лишь принято восхищаться обломками, поросшими колючками. Я выскажу свое мнение по этому поводу, когда вернусь в Париж: пришла пора покончить с пресловутым престижем Италии. Любой памятник в Европе, сохранившийся до наших дней, стоит гораздо больше, чем все эти обрубки колонн, эти почерневшие от времени барельефы, которыми можно любоваться, лишь имея известные знания. Удовольствие, купленное ценою стольких трудов, не представляет для меня ничего привлекательного – ведь, чтобы восторгаться спектаклями в парижских театрах, незачем корпеть над книгами.
Лорд Нельвиль промолчал. Граф д’Эрфейль снова спросил, какое впечатление произвел на него Рим.
– В разгаре бала, – сказал Освальд, – не время говорить об этом серьезно, а вам известно, что иначе говорить я не умею.
– В добрый час! – воскликнул граф д’Эрфейль. – Сознаюсь, что я более жизнерадостен, чем вы; но кто знает, может быть, я и мудрее вас? В моем кажущемся легкомыслии – много философии, поверьте мне! Жизнь следует принимать именно так.
– Может быть, вы и правы, – возразил Освальд, – но ведь природа, а не размышления создали вас таким: потому-то ваш образ жизни подходит только вам.
Граф д’Эрфейль услышал имя Коринны, которое громко повторяли в бальном зале, и пошел узнать, что там происходит. Лорд Нельвиль тоже приблизился к двери и увидел князя д’Амальфи, неаполитанца необыкновенной красоты, который приглашал Коринну протанцевать с ним тарантеллу – полный очарования национальный неаполитанский танец. Друзья Коринны просили ее о том же. Она не заставила себя долго упрашивать, весьма удивив тем графа д’Эрфейля, который привык, что тот, кого просят показать свой талант, прежде чем согласиться на это, неоднократно отвечает отказом. Однако в Италии не знают подобного рода жеманства; напротив, всякий, кто хочет понравиться, спешит, не чинясь, выполнить пожелания общества. Но если бы даже в Италии и не было этого милого обычая, Коринна сама бы ввела его. На ней было легкое, очень изящное бальное платье, волосы ее были собраны на итальянский манер в шелковую сетку; глаза, сиявшие живой радостью, придавали ей еще больше прелести, чем обычно. При виде Коринны Освальд смутился; он пытался овладеть собою, возмущенный тем, что снова поддается ее обаянию; он с тоскою глядел на нее: сейчас ей не было дела до него, и красовалась она перед всеми лишь затем, чтобы освободиться от своего чувства к нему. Но кто в силах сопротивляться обольщению красоты? Если даже она и отвергла его, все равно – власть ее над ним безгранична. А Коринна, конечно, и не думала отвергать его. Заметив лорда Нельвиля, она покраснела, и глаза ее, устремленные на него, засветились обворожительной нежностью.
Князь д’Амальфи танцевал, прищелкивая кастаньетами. Коринна же, прежде чем начать, протянула вперед руки и грациозным поклоном приветствовала присутствующих; затем, сделав легкий поворот, взяла из рук князя д’Амальфи тамбурин. Она пустилась в пляс, размахивая в воздухе тамбурином, и ее гибкие, мягкие движения, полные целомудренной чистоты и вместе с тем страстной неги, напоминали о том, какое неотразимое впечатление производят на индусов баядерки, эти поэтессы в танцах, постигшие искусство выражать столько разнообразных чувств особыми жестами, разворачивая перед взорами зрителей целый свиток волшебных картин. Коринна превосходно знала все танцевальные позы, изображенные античными мастерами в живописи и скульптуре; когда она легким мановением руки поднимала тамбурин над головой или же, держа его перед собой, другой рукой с невероятной быстротой перебирала бубенчики, она походила на танцовщиц из Геркуланума{121} и каждое ее движение могло внушить художнику множество идей для создания рисунков и картин.
Ее танец совсем не напоминал французские танцы, отмеченные изысканностью и сложностью своих фигур, – ее танец, рожденный талантом, был сродни искусству, требовавшему фантазии и огня. А музыка этого танца требовала точности и плавности движений. Танцуя, Коринна заражала зрителей теми чувствами, какие она переживала сама, и так бывало всегда – импровизировала ли она, играла ли на лире или рисовала: она владела всеми этими языками. Музыканты, глядя на Коринну, воодушевлялись и глубже проникали в дух своего искусства; какая-то бурная радость вместе с какой-то утонченной чувствительностью, разбуженной воображением, воспламеняла всех зрителей ее магических танцев, унося их в тот идеальный мир, где обитает счастье, о котором можно только мечтать, но которого нет на земле.
В неаполитанском танце есть момент, когда дама опускается на колени, а кавалер кружится над нею, и не только как господин, но и как победитель. Как была хороша, как была величава в это мгновение Коринна! Как царственна была она коленопреклоненная! И когда она вскочила и ударила в свой легкий кимвал, то казалось, что ей, упоенной радостью жизни, молодостью и красотой, никто не был нужен для полноты счастья. Но увы! Это было не так! Однако Освальд этого боялся и испускал вздохи, любуясь Коринной, словно успех ее их разлучил. В конце танца уже кавалер падает на колени, а дама танцует вокруг него. Коринна в это мгновенье превзошла самое себя: она так легко кружилась, что ее ножки в тонких башмачках летали по полу с быстротою молнии; а когда она одною рукой потрясала тамбурином над головой, а другою – сделала знак графу д’Амальфи подняться, все мужчины были готовы броситься, подобно ему, перед ней на колени, – все, кроме лорда Нельвиля, отступившего на несколько шагов, и графа д’Эрфейля, сделавшего несколько шагов вперед, чтобы принести ей свои поздравления. Что же до итальянцев, которые там находились, то они совсем не старались обратить на себя внимание своими похвалами: они просто от всей души восхищались Коринной и выражали свой восторг именно так, как его чувствовали. Они не отличались самолюбием, свойственным представителям высших классов, и не заботились о том, какое впечатление производят их поступки: они никогда не пожертвовали бы удовольствием ради удовлетворения своего тщеславия и никогда не изменили бы своей цели ради громких одобрений.
Коринна, счастливая своим успехом, благодарила всех с присущей ей милой простотой. Она была довольна тем, что все прошло так удачно, и, если можно так выразиться, с детской непосредственностью выражала свою радость. Однако больше всего ей хотелось в эту минуту пробиться сквозь толпу к двери, у которой стоял Освальд. Ей это наконец удалось, и она остановилась, чтобы услышать, что он ей скажет.
– Коринна, – вымолвил он, стараясь скрыть свое волнение, свой восторг, свою боль, – Коринна, какое признание, какое торжество! Но есть ли среди всех ваших восторженных поклонников хоть один верный и мужественный друг? Есть ли среди них хоть один, способный оберегать вас всю жизнь? И неужели этот пустой шум рукоплесканий может удовлетворить такую душу, как ваша?
Глава вторая
Толпа гостей помешала Коринне ответить лорду Нельвилю. Подали ужин, и каждый cavaliere servente[11]{122} поспешил занять место рядом со своей дамой. Немного позже приехала одна иностранная гостья; ей уже негде было сесть, но, кроме лорда Нельвиля и графа д’Эрфейля, никому из мужчин не пришло в голову уступить ей место. Дело тут было не в отсутствии учтивости, не в эгоизме – просто римские аристократы почитают своим долгом и наивысшей честью ни на мгновение не покидать своих дам. Те же, кому не хватило мест, стояли за стульями своих красавиц, ожидая лишь знака, чтобы выполнить малейшее их желание. Дамы говорили только со своими кавалерами; иностранцы безуспешно бродили вокруг этого кружка: с ними некому было перемолвиться словом, ибо женщины в Италии не знают кокетства, чужды тщеславия в любви и хотят нравиться лишь тем, кого любят. Здесь не встретишь холодных обольстительниц, дамы оказывают внимание только тому, кто мил их очам и сердцу. Любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, часто превращается здесь в глубокую привязанность, отличающуюся твердым постоянством. Неверность мужчин порицается в Италии более сурово, чем неверность женщин. Трое или четверо поклонников, каждый в своей роли, составляют свиту какой-нибудь дамы, которая иной раз даже не дает себе труда представить их хозяину дома, где ее принимают: один из этих кавалеров ее избранник, другой – мечтает им стать, а третий, кого называют «страдающим» (il patito), безнадежно отвергнут, но не лишается права нести службу воздыхателя. Все три соперника мирно ладят друг с другом, ибо только в народе сохранилась привычка в случае ссоры пускать в ход кинжал. В Италии можно встретить причудливое смешение чистосердечия и нравственной испорченности, притворства и правдивости, добродушия и мстительности, силы и слабости; это легко объясняется тем, что здесь добрые качества связаны с полным отсутствием тщеславия, а дурные порождаются стремлением к выгоде, где бы ее ни искали: в любви, в богатстве или на поприще славы.
Различие в общественном положении не играет особой роли в Италии; презрение к аристократическим предрассудкам коренится не в какой-либо философии, а в простоте нравов, в непринужденности обхождения; и поскольку общество не берет на себя обязанности судьи, оно дозволяет все.
После ужина сели за карты; одни дамы стали играть в азартные игры, другие же – в степенный вист, и в комнате, только что такой шумной, наступило полное молчание. Жители Юга очень быстро переходят от сильнейшего возбуждения к глубокому спокойствию; вот еще одно противоречие в их характере: беспечная леность в них сочетается с неутомимой энергией. Следует остерегаться высказывать свое мнение об итальянцах по первому впечатлению, ибо они обладают самыми противоположными добродетелями и пороками; если сейчас они кажутся излишне осмотрительными, то через минуту покажут себя безрассудно храбрыми; если сейчас они предаются праздности, то, значит, отдыхают после трудов или же готовятся к ним; вообще говоря, они не расточают своих душевных сил на глазах у всех, но берегут их для решительных действий.
В римском обществе, где находились Освальд и Коринна, были люди, которые могли проиграть огромные суммы, ничуть не изменившись в лице; те же люди сопровождали свой рассказ о каких-нибудь незначительных событиях самой выразительной мимикой и живейшей жестикуляцией. Но когда страсти доходят до высшей точки кипения, они страшатся свидетелей и обычно прячутся, не выдавая себя ни словом, ни жестом.
Сцена на балу вызвала у лорда Нельвиля неприязненное чувство; ему казалось, что итальянцы, с их бурной манерой выражать свой энтузиазм, отвлекли от него, по крайней мере на время, внимание Коринны; он жестоко страдал, но уязвленная гордость внушала ему, чтобы он это скрывал или же выказывал пренебрежение к похвалам, которые радовали его блестящую подругу. Его пригласили принять участие в карточной игре. Он отказался; отказалась и Коринна. Она сделала ему знак сесть рядом с нею. Освальд выразил опасение, что скомпрометирует ее, если проведет с нею целый вечер у всех на глазах.
– Пусть вас это не тревожит, – сказала она ему, – никто нами не занимается; у нас в обществе принято делать лишь то, что приятно; у нас не требуют соблюдения условных правил приличия и подчинения этикету: достаточно доброжелательной вежливости; никто здесь не хочет стеснять друг друга. В нашей стране, разумеется, нет такой свободы, как вы понимаете ее в Англии, но зато в обществе у нас наслаждаются полной независимостью.
– Это значит, – возразил ей Освальд, – что у вас не придают никакого значения морали.
– Во всяком случае, – перебила его Коринна, – у нас не знают лицемерия. Ларошфуко еще сказал{123}: «Самый незначительный недостаток легкомысленной женщины – ее легкомыслие». В самом деле, сколько бы ни грешили женщины в Италии, они не прибегают к обману, и если брачные узы здесь недостаточно почитаются, то это бывает с согласия обоих супругов.
– Причина такого рода вольности нравов, – ответил Освальд, – отнюдь не в правдивости, а в равнодушии к общественному мнению. Я приехал сюда, имея на руках рекомендательное письмо к одной княгине; я велел своему слуге отнести ей это письмо, но он мне сказал: «Сударь, это письмо вам сейчас ни к чему не послужит, княгиня никого не принимает: она innamorata»[12]. Итак, здесь объявляют во всеуслышание, что такая-то innamorata, будто речь идет об обычном житейском деле; и подобная гласность не находит себе оправдания даже в какой-нибудь исключительной страсти; множество сердечных привязанностей, быстро сменяющих друг друга, также становятся общеизвестными. У вас женщины не находят нужным хранить свои тайны и рассказывают о своих увлечениях свободнее, чем наши женщины о своих мужьях. Легко догадаться, что подобная, лишенная стыда, склонность к изменам не может ужиться с глубоким и нежным чувством. Вот почему в литературе вашего народа, который только и думает, что о любви, почти не существует жанра романа: любовь здесь так мимолетна, так доступна постороннему глазу, что она не имеет развития и, чтобы правдиво обрисовать с этой стороны ваши нравы, пришлось бы роман и начать и закончить на первой же странице. Простите меня, Коринна, – воскликнул лорд Нельвиль, заметив, какую боль он причинил ей своими словами, – вы итальянка, и одно это должно было бы меня обезоружить. Но сила вашего несравненного обаяния заключается именно в том, что в вас сочетаются привлекательные черты, присущие разным нациям. Не знаю, в какой стране вы воспитывались, но я не сомневаюсь, что не в Италии вы провели всю свою жизнь, а может быть, вы жили в Англии… Ах, Коринна, если это верно, то как же могли вы покинуть этот храм, где так свято чтут непорочные нравы и чистые чувства, чтобы приехать в страну, где не знают не только добродетели, но даже любви? Ее вдыхают здесь с воздухом, но разве проникает она в сердце? В итальянской поэзии, где столь важное место занимает любовь, много изящества, много игры воображения; блестящие картины, которые украшают ее, написаны яркими, роскошными красками. Но найдете ли вы здесь то нежное, грустное чувство, которое одухотворяет нашу поэзию? Что вы сравните со сценой Бельвидеры и ее мужа у Отвея{124} с образом Ромео у Шекспира, особенно же с чудесными стихами Томсона в его «Песне о весне»{125}, в которой он рисует такими благородными и трогательными чертами счастье любви в браке? Бывают ли счастливые браки в Италии? и может ли быть любовь там, где нет семейного счастья? Не правда ли, к такому счастью стремится страсть, живущая в сердце, меж тем как страсть чувственная стремится лишь к обладанию? Чем отличаются друг от друга молодые и прекрасные девушки, если не качествами ума и сердца, которые делают одних из них предпочтительнее другим? Чего же достойны их высокие качества? вступления в брак, в этот союз мыслей и чувств. Но если у нас, к несчастью, и встречается незаконная любовь, то даже в ней есть, я позволю себе так выразиться, отблеск супружества. В ней ищут того сокровенного счастья, какое не всем выпадает на долю в семье, и даже сама неверность в Англии более нравственна, чем брак в Италии.
Эти суровые слова глубоко ранили Коринну; она тут же встала, вышла из комнаты с глазами полными слез и уехала домой. Освальд был в отчаянии, увидев, как он оскорбил Коринну; но ее успех на балу вызвал в нем такую досаду, что он, не сумев сдержаться, обрушил на нее поток необдуманных слов. Он поехал вслед за ней, но она не пожелала с ним говорить; наутро он снова явился к ней, но напрасно: ее дверь была для него заперта. Упорное нежелание принять лорда Нельвиля как-то не вязалось с характером Коринны; но ее очень опечалило высказанное им мнение об итальянках, и одно это должно было научить ее в будущем скрывать, насколько это возможно, свое чувство к нему.
Что до Освальда, то он считал, что в поведении Коринны на этот раз не было ее обычной простоты, и неудовольствие, вызванное балом, все возрастало в нем; подобное расположение духа могло бы в конце концов восторжествовать над тем чувством, власти которого он так боялся. У него были строгие правила, и тайна, окружавшая прошлое любимой женщины, заставляла его тяжело страдать. Ему казалось, что, при всем своем очаровательном обхождении с людьми, Коринна порой бывала чересчур оживленной, желая всем нравиться. Он находил, что в ее манере говорить и держаться было много благородства и скромности, но в суждениях, какие она высказывала, слишком много снисходительности. Одним словом, Освальд был покорен и увлечен Коринной, но внутреннее чувство, жившее в нем, сопротивлялось этому. Подобное состояние духа бывает мучительно и вызывает недовольство собой и другими. Человек, страдая, испытывает при этом потребность если не растравлять еще больше свои душевные раны, то добиться решительного объяснения и победить одно из терзающих его противоречивых чувств.
В таком настроении лорд Нельвиль и написал Коринне. Его письмо было проникнуто горечью и не слишком учтиво; он сам это сознавал, но какое-то неясное побуждение толкало его отправить это письмо: столь нестерпима была для него происходившая в нем душевная борьба, что он хотел бы любою ценой с ней покончить.
Новость, которую принес ему граф д’Эрфейль и которой он не поверил, быть может, еще усилила резкость выражений его письма. В Риме распространился слух, будто Коринна выходит замуж за князя д’Амальфи. Освальд прекрасно знал, что она не любит князя и что единственным основанием для этого слуха был бал; однако он вообразил, что Коринна принимала у себя д’Амальфи в то утро, когда отказалась принять его самого, и, слишком гордый, чтобы обнаружить свою ревность, удовлетворил свое тайное раздражение, очернив в письме нацию, которую, к его огорчению, так нежно любила Коринна.
Глава третья
Письмо Освальда Коринне24 января 1795 года
Вы отказываетесь меня видеть; вас оскорбил наш разговор третьего дня; наверное, вы решили никого не принимать, кроме своих соотечественников: очевидно, вы хотите загладить ошибку, которую совершили, допустив к себе иностранца. Однако я не только не раскаиваюсь, что откровенно высказал свое мнение об итальянках, и высказал его вам, той, кого я в своих несбыточных мечтах воображал себе англичанкой, но с еще большей твердостью осмеливаюсь вас уверить, что вы не найдете ни счастья, ни почетного положения в обществе, если изберете себе мужа из числа тех, кто вас окружает. Среди итальянцев я не знаю никого, кто был бы достоин вашей руки, никого, кто принес бы вам честь, женившись на вас, какие бы громкие титулы ни сложил он к вашим ногам. Мужчины в Италии гораздо хуже, чем женщины. Наделенные всеми женскими слабостями, они сверх того обладают еще своими собственными. Неужели вы сможете убедить меня в том, что уроженцы Юга, которые так старательно избегают огорчений и думают об одних лишь удовольствиях, способны любить? Не от вас ли я слышал, что месяц назад вы встретили в театре человека, за неделю до этого похоронившего свою жену, к тому же любимую жену, по его собственному признанию? Здесь спешат отделаться от мысли о покойниках и о том, что существует смерть. Священники с такой же невозмутимостью совершают погребальный обряд, с какой cavaliere servente выполняет правила любовного этикета. Все рассчитано заранее в этом привычном ритуале, в нем нет места ни для страданий, ни для восторгов любви. Наконец, и это особенно губительно для любви, ваши мужчины не вызывают уважения у женщин. Бесхарактерные, не знающие серьезных занятий в жизни, они немногого стоят в глазах женщин, у которых находятся в полном подчинении. Для того чтобы законы природы и общественного порядка обнаружили себя в полном блеске, мужчина должен сознавать себя покровителем женщины, должен, охраняя ее, боготворить в ней то слабое существо, которое он охраняет, поклоняться ей как божеству, не имеющему власти, но приносящему счастье своему дому, подобно благим пенатам{126}. Пожалуй, можно сказать, что в Италии женщина царит, подобно султану, и мужчины там составляют ее сераль.
Ваши мужчины отличаются гибким и податливым нравом, свойственным женщинам. Итальянская поговорка гласит: «Кто не умеет притворяться, тот не умеет жить». Не правда ли, и это чисто женская поговорка? В самом деле, как может мужчина воспитать в себе твердость духа и достоинство, если он живет в стране, где ему недоступна военная карьера, где нет свободных политических учреждений? Вот почему итальянцы направляют все силы своего ума на то, чтобы ловко устраивать свои дела; жизнь для них как бы партия в шахматы, где выигрыш – это все. От античности у них осталось лишь пристрастие к пышным фразам и к внешнему великолепию; но рядом с этим беспочвенным величием вы непрестанно наталкиваетесь на грубейшую безвкусицу и на самое постыдное неряшество в домашнем быту. Почему же, Коринна, этому народу вы отдаете предпочтение перед всеми другими? Неужели вам так нужны бурные рукоплескания итальянцев, что всякая иная судьба без этих оглушительных «браво» представляется вам бесцветной и скучной? Но кто может надеяться, что сделает вас счастливой, исторгнув вас из этой суеты? Вы непостижимая женщина, Коринна! Глубоко чувствующая, но с нетребовательными вкусами; независимая, наделенная гордой душой, но рабски приверженная к развлечениям; способная любить одного, но нуждающаяся во всех. Вы чародейка, которая то приводит в трепет, то успокаивает; порой вы недосягаемы, а то вдруг нисходите с высот, где безраздельно царите, чтобы смешаться с толпой. Коринна, Коринна, как не страшиться тому, кто вас полюбит?
Освальд
Читая это письмо, проникнутое неприязнью и предубеждением против ее народа, Коринна почувствовала себя оскорбленной. Но к счастью, она поняла, что Освальд был до крайности раздосадован и балом, и тем, что она отказалась принять его после разговора за ужином: эта мысль несколько смягчила тягостное впечатление, произведенное на нее письмом. Она колебалась некоторое время – по крайней мере ей казалось, что она колеблется, – раздумывая о том, как повести себя дальше. Чувство влекло ее увидеться с ним, но ее угнетала мысль, что он сможет вообразить, будто она хочет, чтобы он женился на ней, хотя ни по своему состоянию, ни по происхождению – ей стоило лишь открыть ему свое имя – она ни в чем не уступала лорду Нельвилю. К тому же при том особом, независимом образе жизни, какой избрала себе Коринна, она не склонна была выйти замуж и, конечно, отогнала бы от себя эту мысль, если бы, охваченная страстью к Освальду, не позабыла о том, сколько горя ей может принести союз с англичанином и необходимость покинуть Италию.
Ради любви можно поступиться своей гордостью; но едва лишь условности и расчеты света станут на пути у влюбленных, едва лишь появится подозрение, что тот, кого любишь, принесет себя в жертву, соединившись с тобой, как сразу исчезнет возможность свободно выражать свои чувства к нему. У Коринны не хватало духу порвать с Освальдом, но она уверила себя, что сможет видеться с ним, затаив от него свою любовь; с этим намерением она решила написать ему письмо и ответить лишь на его несправедливые обвинения против итальянского народа, ничего больше не касаясь, словно ее только это и занимало. Пожалуй, для выдающейся женщины нет иного способа вновь обрести душевное равновесие и чувство собственного достоинства, как укрыться в область мысли.
Коринна лорду Нельвилю25 января 1795 года
Если бы ваше письмо касалось только меня, то, право, я не стала бы оправдываться перед вами: мой характер так легко разгадать, что кто сам не в состоянии понять меня, не поймет, даже если бы я стала давать ему пояснения. Добродетельная сдержанность англичанок, тонкая любезность француженок помогает им, поверьте мне, скрывать добрую половину того, что происходит у них в душе. Но то, что вам было угодно назвать во мне чародейством, всего лишь естественная непринужденность, которая позволяет порой обнаружить разнородные чувства и противоречивые мысли, не пытаясь привести их в согласие, ибо, если и существует подобное согласие, оно всегда бывает искусственным, а правдивые натуры большей частью не бывают последовательны; однако я хочу говорить с вами не о себе, а о том несчастном народе, на который вы с таким гневом обрушились. Уж не моя ли привязанность к друзьям вызвала в вас такую недоброжелательность к итальянцам? Но вы слишком хорошо меня знаете, чтобы ревновать к ним, а я не отличаюсь таким самомнением, чтобы подумать, будто ревность вас сделала столь несправедливым. Вы рассуждаете об итальянцах точно так же, как все иностранцы, которые замечают лишь то, что сразу бросается в глаза; но, чтобы верно судить о стране, проявившей столько величия в разные эпохи, надо уметь видеть дальше и глубже. Чем объяснить, что во времена господства древнего Рима наш народ был самым воинственным на земле, в эпоху средневековых республик – самым рьяным поборником гражданских свобод, а в шестнадцатом веке славился на весь мир своими науками, литературой, искусством? Не блистал ли этот народ славой во всех видах человеческой деятельности? И если теперь эта слава померкла, не виной ли тому политическое положение нашей страны, ибо при других обстоятельствах итальянский народ был бы совсем не таким, каков он сейчас.
Не знаю, может быть, я не права, но прегрешения итальянцев вызывают во мне лишь сочувствие к их судьбе. Чужеземцы издавна вторгались в Италию и раздирали на части эту прекрасную страну – предмет их постоянных властолюбивых вожделений; и они же горько попрекают итальянцев недостатками, присущими всем побежденным и поверженным народам! Европа, получившая от нас науки и искусства, обратила против нас эти дары и еще оспаривает у нас единственную славу, доступную народу, лишенному воинской мощи и политической свободы, – славу на поприще наук и искусств.
Не подлежит сомнению, что образ правления влияет на характер народов, и в самой Италии можно увидеть удивительное различие в нравах различных государств, которые ее составляют. Пьемонтцы, образующие ядро нации, наиболее воинственны; флорентийцы, знавшие, что такое свобода и терпимость правителей, выделяются своей просвещенностью и душевною мягкостью; венецианцы и генуэзцы отличаются способностью к усвоению политических учений, ибо имеют аристократию, проникнутую республиканским духом; миланцы более искренни, чем остальные итальянцы, ибо народы Севера испокон веков привили им эту черту; неаполитанцы могли бы стать храбрыми воинами, потому что у них столько веков было хоть и несовершенное, но свое собственное правительство. А римская знать, лишенная возможности проявить себя на военном и политическом поприще, неизбежно становилась ленивой и невежественной; но духовенство, перед которым открыта широкая дорога и которое занято серьезной деятельностью, неизмеримо более развито умственно, чем аристократия; папская власть не признает никаких привилегий, связанных с происхождением, и утверждает принцип выборности духовенства – отсюда и проистекает своего рода либерализм если не в идеях, то в нравах, что делает пребывание в Риме приятным для тех, у кого уже нет ни честолюбивых стремлений, ни возможности играть роль в обществе.
Народы Юга легче меняются под воздействием государственных учреждений, чем народы Севера; в характере у них есть беспечность, которая скоро превращается в полную покорность судьбе; к тому же природа дает им столько наслаждений, что они без труда утешаются, когда общество отказывает им в известных преимуществах. Конечно, и в Италии велика испорченность нравов, и сама цивилизация там гораздо менее утонченна, чем в других странах. В итальянском народе можно найти еще нечто дикое, несмотря на присущую ему хитрость, которая напоминает хитрость охотника, умело подстерегающего добычу. Беспечные народы склонны к лукавству: они умеют под мягкой улыбкой таить даже гнев, когда им это нужно; такая привычная маска позволяет легко скрывать свое бедственное положение.
В частной жизни итальянцы обычно искренни и верны. Вопросы выгоды и честолюбия имеют над ними большую власть, но соображения гордости и пустого тщеславия – ни малейшей; различия в рангах у них играют лишь незначительную роль; у них нет ни светского общества, ни салонов, ни мод, ни постоянной потребности производить эффект, даже в мелочах. У итальянцев отсутствуют эти вечные источники притворства и зависти: они обманывают своих недругов и соперников, когда находятся с ними в состоянии войны, но в мирное время естественны и правдивы. Вот эта правдивость и способствует вольности нравов, которую вы так порицаете; слушая постоянно объяснения в любви, живя в обстановке стольких любовных соблазнов, женщины уже не прячут своих чувств и вносят, если можно так выразиться, в распущенность оттенок невинности; они совсем не думают о том, что могут показаться смешными, особенно в обществе. Иные из них столь невежественны, что не умеют подписаться и во всеуслышание признаются в этом; они заставляют своих стряпчих (il paglietto) отвечать на записки, полученные ими утром, и эти ответы пишутся на бумаге большого формата и в стиле судебных ходатайств. Но зато среди образованных женщин вы встретите профессоров академий, которые читают публичные лекции, перекинув через плечо черный шарф; и если вы вздумаете над ними смеяться, вас спросят: «Что дурного в том, если женщина знает греческий язык? Что дурного в том, если она своим трудом зарабатывает себе на хлеб? Почему вы смеетесь над такими простыми вещами?»
Наконец, милорд, я собираюсь затронуть очень щекотливый вопрос: чем объяснить, что наши мужчины так редко проявляют воинственный пыл? Они легко подвергают опасности свою жизнь, когда вступает в свои права любовь или ненависть, и удары кинжала, нанесенные или полученные в таком деле, никого не удивляют и никого не страшат; воспламененные истинной страстью, итальянцы ничуть не боятся смерти: они презирают ее. Но часто бывает и так, и это следует признать, что жизнью своей они дорожат больше, чем политикой, которая их мало волнует, ибо у них нет отечества. К тому же понятия рыцарской чести обычно не слишком в почете у народа, не имеющего общественного мнения. Немудрено, что при таком упадке общественной жизни женщины пользуются большим влиянием, быть может чрезмерным, и поэтому не могут уважать мужчин и восхищаться ими. Тем не менее мужчины у нас относятся к женщинам с нежностью и преданностью. Семейные добродетели составляют гордость и счастье женщины в Англии; но если есть такие страны, где существует любовь вне священных уз брака, Италии среди них принадлежит первое место, ибо нигде не стараются так беречь счастье женщины. Мужчины здесь создали своего рода мораль для отношений вне морали, но, по крайней мере, они справедливы и великодушны в распределении взаимных обязательств; когда порываются любовные связи, мужчины сами считают, что скорее за это в ответе они, ибо женщины большим пожертвовали и больше потеряли; перед судилищем сердца, говорят у нас, большую ответственность несет тот, кто причинил больше страданий другому. Если мужчина виновен, значит, он жесток, если женщина виновна, значит, она слаба. Общество, развращенное и в то же время нетерпимое, следовательно, безжалостное к ошибкам, имеющим гибельные последствия, всегда более сурово к женщине; однако в странах, где не существует общества, в суждениях людей преобладает природная доброта.
Уважение к человеческому достоинству менее развито и, быть может, даже менее известно в Италии, нежели в других странах, не спорю; но причину этого опять-таки следует искать в отсутствии того же общества и общественного мнения. Однако наперекор всем басням о вероломстве итальянцев я утверждаю, что нигде в мире нельзя найти столько добродушных людей, как среди них. Этим добродушием проникнуто даже тщеславие, и, хотя иностранцы говорят много дурного о нашей стране, нигде их не встречают с большим радушием. Итальянцев обвиняют в излишней склонности к льстивым речам; но надобно также признать, что они расточают приятные слова чаще всего без всякого расчета – просто из желания нравиться, из искренней потребности быть любезными, и эти слова отнюдь не противоречат их поведению. Однако способны ли они сохранить верность в дружбе в исключительных обстоятельствах, когда надобно подвергать себя опасностям или бросить смелый вызов врагам? Я согласна, что на это способны лишь немногие; но подобное наблюдение можно сделать не только в Италии.
В повседневной жизни итальянцы отличаются чисто восточной ленью; но нет людей более настойчивых и энергичных, когда воспламеняются их чувства. А женщины, которые зачастую напоминают апатичных одалисок в серале, внезапно оказываются способными на подвиги самоотвержения. В характере и силе воображения итальянцев есть много таинственного: то они поражают неожиданными проявлениями великодушия и беззаветной преданности в дружбе, то пугают мрачным духом ненависти и мстительности. В Италии совершенно не развито соперничество: жизнь под этим прекрасным небом походит на сладостный сон; но дайте этим людям цель, и вы увидите, как они за полгода все познают, все постигнут. С женщинами произойдет то же самое: зачем им учиться, если большая часть мужчин их не поймет? чем образованнее будет ум женщины, тем более одиноким будет ее сердце; но в какой короткий срок эта женщина может стать достойной выдающегося человека, если только она полюбит его! Здесь все погружено в сон; но в стране, где подавлены высокие интересы, покой и беспечность заключают в себе более благородства, чем пустая суета из-за пустяков.
Там, где мысль не черпает силу в важной и разнообразной жизненной деятельности, увядают изящные искусства и литература. Однако же, где они вызывают больший восторг, чем в Италии? Из истории мы знаем, что папы, государи, весь наш народ во все времена воздавали блестящие почести художникам, поэтам, замечательным писателям. Подобное преклонение перед талантами, признаюсь вам, милорд, является главной причиной моей привязанности к этой стране. Здесь вы не встретите людей с пресыщенным воображением, людей, чей насмешливый ум убивает в вас веру в себя, не найдете и деспотической посредственности, которая в других местах так беспощадно мучит и душит таланты. Верная мысль, живое чувство, удачное выражение – все это разгорается ярким пламенем, едва лишь коснется уха слушателей. Талант возбуждает в Италии сильную зависть уже потому, что он занимает здесь первое место. Перголезе был убит из-за своей «Stabat»{127}; Джорджоне облекался в кирасу всякий раз, когда бывал вынужден рисовать на глазах у толпы; одним словом, зависть, которую в других странах порождает власть, у нас вызывает талант; подобного рода зависть не принижает художника; она может его ненавидеть, гнать, убивать, и все же, охваченная фанатическим восторгом, зависть, и преследуя гения, побуждает его ко все большему совершенству. Наконец, когда видишь, сколько жизни таится в этом стесненном кругу, ограниченном столькими помехами и запретами, нельзя не принять, как мне кажется, горячего участия в этом народе, столь жадно вдыхающем воздух, который, благодаря искусству, проникает сквозь замкнутые границы его существования.
Эти границы, я не отрицаю этого, приостановили развитие у итальянцев того чувства собственного достоинства и той гордости, которые отличают представителей свободных и воинственных наций. В угоду вам, милорд, я охотно соглашусь, что люди с подобным характером скорее способны внушить женщинам восторженную любовь к себе. Но ведь можно также допустить и то, что мужественный, благородный, суровый человек соединяет в себе все качества, достойные любви, за исключением тех, какие могут дать счастье.
Коринна
Глава четвертая
Письмо Коринны еще раз заставило Освальда раскаяться в том, что он мог даже подумать о разрыве с ней. Его восхитило и тронуло то, с каким умом и кротким достоинством возражала она на резкие нападки, которые он позволил себе в своем письме к ней. Он убедился, как велико и неоспоримо ее истинное превосходство над общепринятыми нормами морали. Но он хорошо понимал также, что Коринна не слабая и робкая женщина, которую смущает все, что выходит за пределы ее семейных привязанностей и семейного долга, одним словом, совсем не та женщина, какую он мысленно избрал себе в подруги жизни; к этому идеалу скорее приближался образ двенадцатилетней Люсиль, но кто же мог сравниться с Коринной? Можно ли применять обычные законы к женщине, одаренной столькими достоинствами, талантом и тонкой чувствительностью? Коринна, конечно, была чудом природы, но разве не было чудом то, что подобная женщина остановила свое внимание на нем? Но каково же ее настоящее имя? каково ее прошлое? на что решится она, когда он признается ей в своем желании навек соединить свою судьбу с ее судьбой? Все это тонуло во мраке неизвестности, и, хотя Освальд, увлеченный Коринной, готов был жениться на ней, мысль о том, что жизнь ее не во всем была безупречной и отец его, безусловно, осудил бы этот брак, снова приводила его в смятение и погружала в мучительную тревогу.
Освальд уже не был столь подавлен горем, как в те дни, когда еще не знал Коринны, однако он лишился того спокойствия, какое может усладить душу человека, терзаемого раскаянием, но всецело посвятившего жизнь искуплению своей великой вины. Раньше он не страшился воспоминаний, как бы горьки они ни были, но теперь он боялся предаваться глубоким размышлениям, способным приоткрыть ему то, что происходило в тайниках его души. Он собирался поехать к Коринне, чтобы поблагодарить ее за письмо и испросить у нее прощения за все написанное им, как вдруг в комнату вошел мистер Эджермон, родственник юной Люсиль.
Это был почтенный английский дворянин, живший почти безвыездно в своем поместье, в Уэльсе; у него были свои убеждения и свои предрассудки, которые служат к поддержанию существующего порядка в любой стране; благо, когда этот порядок разумен: в таких случаях люди, подобные мистеру Эджермону, то есть сторонники установленного строя, упорно и слепо привязанные к своим привычкам и мнениям, все же могут почитаться мыслящими и просвещенными личностями.
Лорд Нельвиль вздрогнул, услышав имя мистера Эджермона, о котором доложил слуга: ему показалось, что разом воскресли все его воспоминания; но потом ему пришло в голову, что леди Эджермон, мать Люсиль, прислала к нему своего родственника, чтобы сделать ему выговор и тем самым посягнуть на его свободу. Эта мысль вернула ему твердость духа, и он принял мистера Эджермона с величайшей холодностью. Он был тем более не прав, оказывая мистеру Эджермону подобный прием, что тот не предъявлял ни малейших претензий по отношению к лорду Нельвилю. Мистер Эджермон путешествовал по Италии, чтобы укрепить свое здоровье, занимался физическими упражнениями, ездил на охоту и по всякому поводу пил за здоровье короля Георга и за добрую старую Англию. Это был в высшей степени порядочный человек и даже более умный и образованный, чем можно было подумать, судя по его повадкам. Он был англичанин до мозга костей: не только в положительном, но и в отрицательном смысле; куда бы он ни попал, он не изменял обычаям своей страны, водился только с англичанами и никогда не вступал в разговор с иностранцами – не из высокомерия, но из непобедимого отвращения к чужим языкам, а также из-за того, что и в пятьдесят лет не мог избавиться от застенчивости, мешавшей ему завязывать новые знакомства.
– Очень рад вас видеть, – сказал он лорду Нельвилю, – через две недели я еду в Неаполь – застану ли я вас там? Мне бы очень хотелось этого; ведь мне недолго осталось пробыть в Италии: мой полк скоро отправляется в путь.
– Ваш полк? – повторил лорд Нельвиль и покраснел: он вспомнил, что взял отпуск на год и ранее этого срока его полк не выступит, но покраснел при мысли, что Коринна могла бы заставить его даже позабыть свой долг.
– Ну а ваш полк, – продолжал мистер Эджермон, – еще не скоро будет введен в действие; поправляйте здесь покамест свое здоровье и ни о чем не беспокойтесь. Перед отъездом я видел мою молоденькую кузину, которою вы интересуетесь, она сейчас еще очаровательнее, чем прежде, а через год, когда вы вернетесь, без сомнения, станет первой красавицей Англии.
Лорд Нельвиль промолчал, мистер Эджермон тоже не прибавил ни слова. Они обменялись еще несколькими лаконическими, но дружественными замечаниями. Мистер Эджермон уже выходил из комнаты, как вдруг, что-то вспомнив, остановился.
– Кстати, милорд, вы можете доставить мне удовольствие, – сказал он, – я слышал, что вы бываете у знаменитой Коринны, и хоть я вообще-то не люблю новых знакомств, но познакомиться с ней мне было бы любопытно.
– Если вам этого хочется, – ответил Освальд, – я попрошу у Коринны позволения привести вас к ней.
– И постарайтесь, пожалуйста, – подхватил мистер Эджермон, – чтобы она показала нам, когда мы будем у нее, как она импровизирует, поет, танцует.
– Коринна, – возразил лорд Нельвиль, – не показывает своих талантов иностранцам: это особа во всех отношениях равная нам с вами.
– Извините меня, если я ошибся, – сказал мистер Эджермон, – но так как я не знаю другого ее имени, кроме Коринны, и она в двадцать шесть лет живет совсем одна, без единого родственника, я подумал, что она существует своими талантами и охотно воспользуется случаем их показать.
– У нее совершенно независимое состояние, – с живостью прервал его Освальд, – а душа у нее еще более независимая.
Мистер Эджермон тотчас же прекратил этот разговор, раскаявшись, что начал его, когда увидел, как он задел Освальда. Англичане – самые чуткие и деликатные люди на свете во всем, что касается подлинных чувств.
Мистер Эджермон удалился. Оставшись в одиночестве, лорд Нельвиль невольно воскликнул в волнении:
– Я должен жениться на Коринне, я должен быть ее защитником, чтобы впредь никто не мог о ней судить превратно! Я дам ей то немногое, что могу дать, – имя, положение, – а она даст мне высшее счастье, какое только одна она на всей земле может подарить.
В таком расположении духа он поспешил к Коринне, как никогда полный нежного чувства любви и надежды; однако по свойственной ему застенчивости он начал разговор с самых незначительных предметов, в том числе с просьбы привести к ней мистера Эджермона. При этом имени Коринна заметно смутилась и дрогнувшим голосом отказалась выполнить желание Освальда. Он был чрезвычайно удивлен.
– Я думал, – сказал он, – что в доме, где принимают столько людей, не могут отказать в приеме человеку лишь потому, что он мой друг.
– Не обижайтесь, милорд, – отвечала Коринна, – поверьте, у меня должны быть очень важные причины для отказа.
– Какие причины? – спросил Освальд. – Вы мне скажете о них?
– Это невозможно! – вырвалось у Коринны. – Совершенно невозможно!
– В таком случае… – начал Освальд, но у него перехватило дыхание от волнения, и он хотел уйти.
Коринна, вся в слезах, сказала ему по-английски:
– Ради бога, если вы не хотите разбить мне сердце, не уходите!
Эти слова и тон, каким они были сказаны, глубоко тронули Освальда; он сел в некотором отдалении от Коринны, молча прислонившись головой к лампе в виде алебастровой вазы, освещавшей комнату.
– Жестокая женщина! – вдруг обратился он к ней. – Вы видите, что я вас люблю, вы видите, что двадцать раз на дню я готов предложить вам мою руку, всю мою жизнь, а вы не хотите сказать мне, кто вы! Скажите мне, Коринна, скажите, наконец! – повторил он, протягивая ей руки с мольбой.
– Освальд! – вскричала Коринна. – Освальд, вы не знаете, какую боль причиняете мне! Если бы я безрассудно открылась вам, вы бы меня разлюбили!






