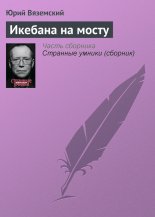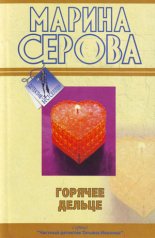Мой взгляд на литературу Лем Станислав

Желаю успеха!
Сердечно,
Станислав Лем
Майклу Канделю
Закопане, 9 июня 1972 года
Дорогой пан,
добралось до меня ваше письмо от 25 мая, в котором вы пишете о двух делах — о словотворчестве в славянском и английском языках, и о «Рукописи, [найденной в ванне]». По первому вопросу мне, к сожалению, нечего сказать, кроме признания вашей правоты. «Кибериада» является «искусственным» произведением в том смысле, в каком я понимаю «искусство» — и не может быть ни для оригинала, ни для перевода, рецепта, то есть теории, подобно тому, как не тот прыгает выше в легкой атлетике, кто в совершенстве изучил теорию прыжков…
А вот о «Рукописи» я хотел бы с вами поспорить, не в интересах книги, это меня не волнует, а в интересах истины. Она более реалистична по духу, нежели вы можете судить. Она исходит из версии государства, которое создал сталинизм, как, пожалуй, первый тип формации, в котором существовала очень мощная вера в некоторый Абсолют, хотя и был он в целом чисто временно локализован. Вы могли бы заметить, что логический анализ Евангелий обнаруживает различного рода противоречия и даже возможные бессмысленности, что, кстати, привело некоторых теологов к мысли о том, что Иисус был параноиком. Так, например, проклятие смоковницы не удается ничем обосновать, поскольку можно доказать, что в то время, когда Иисус ее проклял, смоковницы в Палестине вообще не могут давать плоды: не та пора! Так вот, credenti non fit injuria[293]. Вера, между прочим, проявляется таким образом, что все prima facie противоречия или паралогизмы переходят из категории «должно» в категорию «есть». Я должен подчеркнуть, что версия сталинизма, которую Оруэлл и его последователи распространили на Западе, является фальшивой рационализацией. Для «1984» существенна та сцена, в которой представитель власти говорит О’Брайену, что образ будущего — сапог, топчущий лицо человека, — вечен. Это демонизм за десять копеек. Действительность была значительно хуже потому, что она вовсе не была так отменно последовательна. Была она абы какой — полной небрежности, разгильдяйства, бессмысленности, даже настоящего хаоса, балагана, — но все эти позиции «должно» вера переносила в категорию «есть». Пример, взятый из романа, — это сцена, в которой герой бородавки какого-то старого кретина интерпретирует как знаки, свидетельствующие о всеведении Аппарата, распространившего над ним свою власть. Ибо, если уж единожды решили, что это ЯВЛЯЕТСЯ неким совершенством, то затем видим его повсюду, и тогда балаган, чушь, все переставало быть собой, простой хаотической случайностью, и становилось Загадкой, Тайной, тем, о чем вера говорит, что сейчас видим как через темное стекло, — и потому не в состоянии этого понять. Именно эта вера, а не какие-то там пытки, например, приводила к тому, что на известных процессах обвиняемые признавались в наиболее абсурдных поступках, «шли напролом» в признании этого обвинения. Пытки пытками, но не каждого можно ими сломить, и мы, пережившие немецкую оккупацию, кое-что об этом знаем. Это была ситуация войны с врагом, который располагал гигантской мощью, но ему можно было противопоставить внутренние ценности. А вот против Истории как злого Бога, как безапелляционного детерминизма процессов, никто не имел своей правоты, потому что никто не мог противопоставить этой загадочной абсолютной силе никаких еще более могучих ценностей, потому что каждый глубоко верил в трансцендентальность. Но в то же время акт его веры должен был редуцироваться во внутренний монолог или в диалог с предполагаемым Богом, поскольку эту веру нельзя было выразить никаким другим способом, по той простой причине, которая нашла отражение и в «Рукописи», — акт провокации в этом случае неотличим от провозглашения Credo. Псевдотеологические академии, в которых учили вере и просвещали священников, и все это происходило в категориях агентурной профилактики, то есть для проникновения в духовенство воспитанниками таких «школ», не являются выдумкой. Так что это была абсолютная вера, которая возвышалась над всеми, независимо от их убеждений: этого Оруэлл попросту или не мог понять, или не сумел выразить в романе. Всеобщность человеческого одиночества возникала потому, что никто никому не мог доверять, — в трансцендентальном, то есть типично теологическом смысле, а не в смысле прагматической социопсихологии и таких правил поведения, к которым приучают, например, шпионов, коим предстоит действовать на территории врага. Это был Абсолютный Миф, и когда он пал, то пал тоже абсолютно, то есть после него не осталось ничего, кроме недоумения бывших верующих: как можно было поддаться такому параноидальному безумию? Ведь это было коллективное сумасшествие. Это факты, а не фантастические вымыслы.
Смею заметить, уж извините, что Кафка здесь совершенно ни при чем. Ведь он все-таки выдумал структуру юриспруденции в «Процессе», он был юристом и хорошо знал, как работает австро-венгерское правосудие, социальное измерение его не интересовало, свобода общества времен la belle epoque позволила ему сделать такой маневр… и потому он пошел в онтичное измерение, отделываясь от социологических рефлексий, тогда эти плоскости были четко разделены. Тут, пожалуй, еще может пригодиться Достоевский, поскольку только у него можно найти объяснение тому, что некто, совершенно облыжно обвиненный, добровольно принимает это обвинение, хотя наверняка не будет иметь от этого никакой корысти. Этот механизм социопсихического характера, который приводил к таким чудесам, невозможно объяснить в двух словах. Бессознательной мечтой гражданина сталинизма было стать никем и никаким, то есть стать бесцветно серым, затеряться в толпе, и казалось, что только лишение каких-либо индивидуальных черт могло к этому привести… это был всеобщий рефлекс, хотя и не возникал в результате интеллектуальных размышлений. Этим объясняется и бесцветность моего героя. Ведь он хотел служить! Он хотел верить! Хотел делать все, что от него требуется, но в том-то и дело, что эта система вовсе не требовала вещей, которые человек в состоянии реализовать по-настоящему. Покорнейше прошу еще раз перечитать последнее предложение. Вы его понимаете? Общественная действительность становилась такой загадочной, такой непроницаемой, такой полной тайн, что лишь акт совершенно иррациональной веры еще мог как-то объединить ее в единое целое и сделать сносной. Что есть, мол, какое-то объяснение, которое могло бы все это рационализировать, вот только мы, малые мира сего, удостоиться этого откровения не имеем права. Так что не было никакого объяснения, кроме прагматики чисто структуральных связей и перерастания очередных исторических фаз новой возникшей системы в иные фазы, и это движение не было ничьим индивидуальным маккиавеллевским помыслом. Никто там не был таким злым, как Вельзевул. В этом видении дьявольщины как главного принципа и первого плана увязли, совершенно ошибочно, люди Запада типа Оруэлла, потому что они пытались это рационализировать, но при таком подходе там совершенно нечего было рационализировать. Это было подобно тому, как если бы кто-то захотел уподобиться Иисусу, каждое утро тренируясь ходить по воде, и удивлялся бы, что хоть и делает все, как надо, вот уже 20 лет, как ступит на воду, так сразу и тонет. Требования были невозможными, поскольку их нельзя было понимать буквально, но якобы следовало понимать их именно так. Отсюда все нелепости у Оруэлла, так как он решил, что все это вытекало из сатанинской преднамеренности. Никакой такой совершенной преднамеренности попросту не было. Отсюда и противоречащие друг другу два портрета этой формации: как колосса на глиняных ногах, которого развалит любой толчок, и как совершенное воплощение Истории в виде неизбежных, хотя, может быть, и кошмарных явлений: это был какой-то Ваал, абсолют, загадка, совершенно бренная тайна, лишенная внеисторического смысла, но и проникнуть в ее историческое содержание было невозможно. Поражение верой, мифом, а не какие-то там выходки маркизов де Садов, исполняющих функции следователей в аппарате политического преследования врагов системы. А поскольку нельзя было даже попытаться назвать эти явления, используя терминологию, отличающуюся от освященного канона, и поскольку общественный анализ явлений не мог даже начаться, а тем более распространиться, загадка разрасталась вследствие ее неназываемости и неприкасаемости. Этот роман, конечно, является метафорой, моделью такой реальности, а не ее фотографией, отчасти и потому, что я не верю, будто бы речь шла о возможной реализации таких условий и отношений, то есть, чтобы это могло повториться под другим небом.
Так что, если герой встречает старых кретинов во власти, входит в тайные конференционные залы, видит планы мобилизации, это вовсе не является непоследовательностью, это — признак того, что из очень дурной бессмыслицы вырастала такая необычная монолитность веры.
Впрочем, возможно, это опыт, который нельзя пересказать. Я сижу тут и пишу новую книжечку, называется «Маска». А Вам желаю успехов — не только в переводе моих книг…
Преданный
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 1 июля 1972 года
Дорогой пан,
отвечаю на ваше письмо от 11 числа прошлого месяца. Я крайне заинтересован в переводе «Рукописи, [найденной в ванне]»; вы наверняка заметили, что ваше отношение к этой книге изменилось — и, наверное, менялось также во время самой работы над ней, — что вполне можно понять в психологическом плане; работа без увлечения, без сердца, конечно же, является каторжной. Действительно, почти любая книга, если уж она не совсем «плоская», в результате перевода подвергается перемещению в семантическом спектре. Ведь сколько факторов здесь действует, помимо лингвистических! Свою личность… должен ли переводчик ее пытаться скрыть? Я и в этом не уверен. Думаю, что с этим, как с пудингом: узнать, хороший ли он получился, можно лишь по вкусу. Конечно, Вы правы, говоря, что упорство в работе невозможно довести до какого-то абстрактного «идеализма», о котором даже неизвестно, что он обозначает. Я не мог бы сказать, что писать книги — это приятное занятие (для меня оно скорее никогда таким не является). Есть в этом какое-то беспощадное принуждение, которое приходится навязывать себе самому, причем рационализировать причины этого толком скорее всего не удастся. Я думаю, что «Рукопись» — более благодарный объект перевода, нежели «Кибериада», поскольку его поэтика, на мой взгляд, более «перелагаема», пригодна для трансплантации в сферу другой культуры. Что же касается «славы», то писать для нее или вообще работать — не стоит, хотя бы по той достаточной причине, что это фальшивая предпосылка в праксеологическом смысле: она не может дать хороших результатов. В этом контексте я позволю себе кое-что сказать о Гомбровиче в связи с вашими замечаниями. Его человеческая судьба неотделима от писательской. Наделенный дьявольским умом, он имел его, на мой взгляд, больше, чем воображения, то есть его «генератор замыслов» не является самым сильным его качеством, и видно это хотя бы потому, что практически все, им написанное, уже содержалось, как в скрученном зародыше — в его юношеской книге («Бакакай» или, если использовать довоенное название, «Дневник поры созревания»). Этот дьявольский ум он использовал также, особенно в своих «Дневниках», в качестве рычага и тарана против безжалостного молчания в своей аргентинской яме, куда был низвержен силой случая, там он создал свой собственный i, но проиграл именно как биологический человек, хотя и выиграл как писатель, поскольку процессы узнавания и распознавания на художественной бирже невозможно ускорить сверх некоторой меры никаким тактическим способом. Этот его своеобразный героизм, его умственная твердость при одновременной чувствительности, удивляют меня в нем более всего: ведь на самом деле у него была ужасная жизнь, но он не лгал и в то же время умел так скрывать свои слабости, что «Дневники» их не показывают, хотя и кажутся иногда исполненными «самой искренностью». Я не все его книги люблю, но некоторые — величайшего формата. В таких всегда должна быть, я верю в это, некоторая доля отчаяния, ощущения тщетности: он был мне необычайно близок, когда, делая вид, что он не совсем серьезен, атаковал и «подгрызал» Т. Манна, который своей необоримой и алмазно неисцарапанной олимпийскостью всегда меня раздражал, хотя я всегда высоко ценил его творчество. Так что живой человек просвечивает для меня во всем, что написал Гомбрович, и есть в этом именно какая-то особенная подлинность, присутствующая даже в его приемчиках, в его обезьянничанье, в скандалах, которые он устраивал. Впрочем, как и любой, кому есть что сказать, он был слишком многомерным для того, чтобы пытаться предпринять нелишенные смысла попытки установить, кто был лучше, кто хуже Гомбровича, если мы выйдем за пределы категорий посредственности, академизма, дутой олимпийскости, да и «культурного творчества». А кроме того, элементы комизма, которые Гомбрович умел создавать, всегда заставляли меня задуматься в композиционном отношении, — я пытался научиться этому, если такое выражение вообще что-нибудь означает. Между юмористами, даже из так называемых «великих», и писателями, которые из комизма делали бомбу, способную взорвать мир, зияет пропасть. Гомбрович наверняка не является «юмористом»…
Нет, Белойн[294] действительно взят из «жизни», хотя, конечно, не «живьем»; способности, которыми обладает эта фигура, мне, скорее, чужды (установление хороших контактов с людьми, которые мне неинтересны, для меня попросту невозможно; я не использую никакой тактики, не умею быть изысканно галантным, внимательным, льстящим, даже если бы очень захотел, и т. д.). А кроме того, страхи, которые мне свойственны, имеют, скорее, «бытийную», онтичную натуру, нежели психологическую, психоаналитическую, или попросту нервную. С гастрономическими делами «Рукопись» может оказаться в затруднительном положении, если доживет до каких-нибудь следующих поколений, поскольку меню подверглось некоторым изменениям в ходе перевода — чай превратился в кофе, а это о-го-го, как существенно, и все эти простые славянские блюда должны уступить пище из кафетериев… Я знаю от миссис Реди, что вы теперь перед «Гласом Господа» будете переводить «Кибериаду». Что ж, очень хорошо! Тот староанглийский, который вы цитировали (Т. Мэлори), я лишь чуточку могу надкусить, потому что плохо знаю язык. А еще и в историческом развитии! Славянские языки, и польский тоже, изменялись медленнее, чем англосаксонская группа. Это тоже имеет некоторое значение. Поэтому каждый у нас может читать Пасека, но я не знаю, любой ли англичанин может столь же свободно читать источники XVII века?
Что касается названия, то должен признаться, что в вопросе ЗВУЧАНИЯ «The Cyberiad» я некомпетентен: я того ослабления, в английском, о котором вы говорите, не могу ухватить. «Кибериада» в тексте explicite названа всего лишь раз, как какая-то женщина в стихотворении, которое сочинила машина Трурля (Электрувер[295]) (думаю, с этим стихотворением вы еще намучаетесь!), и наверняка это ассоциировалось у меня с Иродиадой и с «Илиадой» заодно[296]. Так что «Кибериада» связывается с явной античностью — по-польски «Кибернавты» звучало бы для меня плохо. А так ли в английском, я не знаю. Единственным несущественным аргументом в пользу сохранения «Кибериады» в названии может быть лишь то, что она уже переведена на несколько языков, например, на русский, французский (чудовищно), немецкий, и там это название сохранено. Но, конечно, это не тот аргумент, который может решительно предопределить суть дела. Для меня самого по каким-то непонятным самому причинам «Cybernauts» представляется более возвышенным названием, чем «Cyberiad». Но я не могу выжать из себя — почему так.
Нигилизм? В моих книгах? Что-то в этом роде может быть, возможно, тут Вы как-то таинственно правы. Я назвал бы это — тщетность… заботящаяся о декоре, который ей с виду противоречит. Совсем невинно говорить ужасные вещи, как бы развлекаясь и делая бесхитростные на вид «призывы»… Что касается Эйнштейна, то он несомненно был моим юношеским идеалом. А мысль о том, что даже такие фигуры следует, быть может, «проветрить», блеснула у меня, когда я читал «Колыбель для кошки» Воннегута, которая начиналась именно так, словно пасквиль на такого гения, но потом он (В[оннегут]) совсем сбился с этого пути и все испортил, хотя, кто знает, может быть, у него и не было такого намерения, и оно только мне привиделось. Что же касается формата и качества персонажей, вводимых мною, то я ничего не знаю об этом, потому что я ведь не подгоняю ни персонажей к фабуле, ни фабулы к замыслам, а только пишу, как умею (звучит это идиотично, наверное, но одновременно подчеркивает мое самонезнание). Конечно, Космос — это что-то чудовищное, и потому, что он есть везде, в столе, в экскрементах, в зубах, в костях живого человека, а не только в каких-то там звездах и прочих туманностях. И покушения моих персонажей на Космос должны плохо кончиться, таков порядок вещей, — и мне не кажется, что здесь можно ЧЕСТНО выдумать что-то другое (другой выход). Именно потому меня так явно раздражает эта имбецильная развязность, с которой SFictioneers похлопывают по плечу этот Космос… и делают из него песочную бабку. Между состраданием и чувством тщетности нет большой пропасти, думаю. Разве что самого себя жалеть не годится, потому что это паскудно дешево и всегда кончается каким-нибудь типом вранья. А впрочем, не знаю, могу ли я еще сказать на эту тему что-то осмысленное.
«Teksty» вы должны вскоре получить, так как Блоньский, которого я об этом попросил, передал ваш адрес в ИЛИ[297] тем, кто рассылает экземпляры.
Благодарю за фотографии и прилагаю взаимно свою. Такой маленький ребенок еще не занимает у вас слишком много времени, но это придет! Заверяю вас в этом, исходя из собственного опыта…
Сердечно ваш
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 1 августа 1972 года
Дорогой пан,
я думаю, что это письмо вы получите уже после Важного Семейного События, и держу пальцы за всю вашу семью, а особенно за Жену и Ребенка. Да, даже миссис Реди писала мне о том, что Момент приближается. Говорят, когда детей двое, то старший через некоторое время может успешней заменять младшему родителей, чем кто-либо другой на целом свете. Возможно, с психологической точки зрения это очень правильно. А я вот, извините, очень долго не решался завести ребенка, и мы вместе с женой воздерживались от этого, как люди, способные к мышлению, да еще и пережившие немецкую оккупацию, поскольку этот мир вообще-то представляется местом, очень плохо устроенным для принятия людей, особенно, если учесть именно тот опыт, который стал нашим уделом. Ну что же, есть время для смерти и есть время для жизни.
Остаток «Рукописи, найденной в ванне» я еще не получил. Мои способности читать и понимать тексты на английском языке действительно ограничены, так что все, что я скажу по этой теме, рассматривайте именно с таким предупреждением. Тем не менее, прочитанные мной главы в вашем переводе наполняют меня надеждой.
Что же касается стихотворения, которое сложила машина в истории об Электрувере, то ясно, что вербальный перевод был бы одновременно нонсенсом и невозможностью. Речь идет лишь о том, чтобы ухватить пропорцию между математикой и аллюзией — а я знаю, как это назвать? — сексуальной она попросту не является, уж скорее мифологически-половой… Мне нужен был, обратите внимание, как обычно, КОНТРАПУНКТ, переход от наивысшей степени СУХОСТИ и абстрактности математической к аллюзиям телесного элемента (именно в эротическом смысле). Но здесь должны быть лишь аллюзии. Во всяком случае, не буду от вас скрывать, как я сам готовился к написанию этого стихотворения. Я взял, извините, словарик математических выражений и выписал себе именно такие слова, которые могут иметь совершенно внематематические значения, будучи помещены в нематематический контекст (СОКРАТИТЬ — заключить в объятия, например). Если изучать такой словарь под «порнографическим» (!) углом, то выловить нечто совершенно неожиданное… так что не все в этой работе было «голым и босым вдохновением» (NB, я не проверял, но мне сдается, что Кристоффель пишется с одним «л» на конце). Ага. Стихотворение НЕ ДОЛЖНО быть ХОРОШО понятным в целом, а лишь поблескивать смыслами, на правах домыслов. Так мне видится, и прошу помнить о том, что это все-таки МАШИНА пишет, а не какой-то там человек… Я вижу, что эту «Кибериаду» вы штурмуете с разных сторон, — теперь вот со стороны «Альтруизина». Ну что ж — пожалуй, самые главные проблемы у вас еще впереди…
Продолжаю читать «L’Introduction» в фантастическую литературу Тодорова[298], морщась от академического кретинизма. Как же ни один из этих линнеевских классификаторов не в состоянии понять, что царство мертвой или живой материи поддается классификационной сегментации с совершенным равнодушием, а вот, как только теоретик пытается обобщениями накрыть человеческие произведения, словно бабочку сачком, так авторы их тут же из чувства противоречия делают все, что могут, чтобы эту схему сделать недействительной, разбить, уничтожить, развалить, и непокорность произведений проистекает из тех усилий, которые на языке Шопенгауэра называются индивидуализацией, то есть перетрансформированной Wille, которая становится видимой для Vorstellung[299]. Меня просто парализует мысль о необходимости дискутирования на этом уровне с гг. Теоретиками. Разве их кто-нибудь читает среди читателей какой-нибудь фантастики? Это Безумие с очень скверной Системой.
«Бакакай». Он, кажется, уже переведен, если только я не ошибаюсь (на английский, в Европе-то были многочисленные переводы)[300]. Последний рассказ — это о Тайной Вечере, когда возникает «инверсия», бегство превращается в атаку? Вы об этом? Я бы тут психоанализ держал на поводке — мне это видится очередным применением Гомбровича его мономаниакальной концепции Борьбы с Формой, он когда-то называл это «разнесением ситуации». Основная мысль — чтобы у писателя была такая мономания, которая окажется довольно просторной для вселенной всех дел. Гомбрович, «Дневники» которого я регулярно читаю, словно Библию, был в этом отношении очень богатым.
Конечно, вы правы, что я пишу в традициях Просвещения и что я — рационалист, только немного отчаявшийся. Отчаявшийся Рационалист — это близкий родственник сумасшедшего. Мои воззрения на Зло вы превосходно уловили на 3-й странице письма. ТАК И ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ, и именно в таком духе я писал весь раздел о Манне в «Философии случая». Эту мысль иначе, забавнее, сформулировал в III томе «Дневников» Гомбрович: Зло, если оно является Злом, не может быть ОЧЕНЬ ДОБРЫМ, то есть очень СОВЕРШЕННЫМ, но должно быть немножко злым в понимании — плохим, скверным, дурным. Именно так думаю и я, хотя в этом пункте веками продолжается какая-то тайная борьба, и не только в лонах Великих Вер. Поскольку Совершенное Зло (то есть ОЧЕНЬ ДОБРОЕ, прекрасное, замечательное ЗЛО) не должно быть оскорблением разума, постольку (и это точка зрения, которую я, к сожалению, ХОТЕЛ БЫ присвоить себе…) Зло является подкидышем Глупости прежде всего, но это упрощение вопроса. В последнее время я прочитал поразительные вещи о характере Эйнштейна, якобы Майя, его сестра, отмечала в своих воспоминаниях его агрессивную вспыльчивость, он мог кинуть табуретку в раздражающую его особу и поколачивал ее (сестру) — и вовсе не в детском возрасте! Так что, может быть, именно отсюда, как вы можете теперь домыслить, появились МОИ предположения о Хогарте: что внутри он был какой-то спекшийся, вспыльчивый, злой, жестокий, мстительный, желчный, ненавистник, рак, жужелица, крапива, сучок, чертополох, и что из своего разума он сделал протезы или смирительную рубашку для этих своих изъянов…
Я с удовольствием посмотрел бы эти воспоминания сестры Э[йнтштейна], потому что всегда мне весь этот Эйнштейн казался слишком монументально совершенным и потому неправдоподобным.
Что же касается того, верю ли я, что стоит тратить усилия на просвещение других… знаете, я в этом уже не уверен. Я делаю то, что могу, не потому, что верю в чрезвычайную социально-положительную успешность этого рода занятий, моих или не моих, а потому, что ничего иного столь же хорошо делать не сумею. «Каждый служит, как умеет».
Благодарю за забавную вырезку о роботах. Балуя меня, ваше посольство заваливает меня теперь журналом «New Yorker», довольно нудным, и единственное, что меня там развлекает, кроме смешных рисунков, это великолепие рекламы. Мир рекламы имеет собственную онтологию, да! Там локализован рай нашей эпохи, хоть и недоступный. Эти туфли, эти аперитивы, эти автомобили. Престолы, Серафимы, Архангелы. И все-таки этот «New Yorker» нудный до тошноты. У нас обычно в таких случаях говорят, что американцев хлеб распирает, а у русских для этого есть еще более меткая поговорка — s zyru biesiatsia. То есть, все от того, что хорошо живется.
И в самом деле, пекла мы создаем сами — как холодильники или котлы; вот только умеренного человеческого климата кот наплакал.
Ну что ж, вся эта моя писанина и ваши высшие размышления о Жизни и Рождении — вербальная действительность должна уступить место делам реальным, а потому и окончательным. Как рационалист, я должен Вам пожелать чего-нибудь хорошего, но, как суеверный рационалист, я только сплюну через левое плечо.
Sincerely yours
Станислав Лем
Владиславу Капущинскому
Краков, 13 декабря 1972 года
Дорогой пан профессор,
жаль, что вы столько места в письме истратили на Калужиньского, это вообще не стоит принимать близко к сердцу, — и чтобы доказать вам, что не стоит, а не для того, чтобы похвастать — у меня в голове совсем не то! — скажу лишь, что весной «McGraw Hill»[301] даст так называемый broadside[302] — Лемом — и будут это «Глас Господа», «Дневник, найденный в ванне», «Непобедимый» и «Расследование». Переводы этих книг уже готовы, тщательно выверены и пошли там в типографию. «Кибериада» переводится — и надо быть таким везунчиком, как я, чтобы нашелся переводчик, который делает это из любви к Лему, — и у которого, чем дальше, тем лучше получается, а ведь переводить «Кибериаду» — не пустяк. Он уже перевел «Блаженного» и «Альтруизин», кстати, первый рассказ выйдет весной в антологии европейской SF — также в «McGraw Hill» — и сейчас принялся за путешествия Трурля и Клапауция. Тот же «McGraw Hill» ищет переводчика для «Суммы» и для «Ф[антастики] & футурологии», но пока с нулевым результатом; а поиски заключаются в том, что кандидаты переводят выбранные мной 4 страницы текста, а я потом это оцениваю. Сдается мне, что этот проф. Майкл Кандель, который переводит мою беллетристику, будет вынужден переводить и остальное, потому что желающих хоть и хватает, а вот «умельцев» — нет. Затем, «Абсолютная пустота» по-немецки уже пошла в печать; «Непобедимый» вышел у «Laffonte» по-французски, «Сумма технологии» прекрасно издана венграми; чехи издали «Солярис» и «Расследование»; в ФРГ также идет в печать Ийон Тихий с моими иллюстрациями, это издание будет лицензировано ф[ир]мой из ГДР; кроме того — в обоих немецких государствах в следующем году выйдет «Высокий Замок», и вот беда только с «Кибериадой» и «Гласом Господа» в ФРГ, так как нет хорошего переводчика. А все это — не более 60 % моих заграничных дел. Так что у меня нет никаких причин принимать близко к сердцу слова пана К[алужиньского] — книги мои и так в стране расходятся. «Teksty» доцента Яна Блоньского содержат ученые (хоть и не слишком разумные, но это уже другое дело) гимны в мою честь и т. п. А в последние дни ноября был звонок из ЦК, что секретарь и член Политбюро Фр[анцишек] Шляхциц, который оч. любит мои книги, хотел бы со мной познакомиться, ну и спустя пару дней мы имели честь принимать его у нас в Клинах; он прибыл на ужин с секретарем исполкома Клясой, и мы очень мило побеседовали о высших космически-футурологических делах, все это я пишу вам, конечно, приватно, так как совершенно не заинтересован в том, чтобы на всех перекрестках обсуждали, кто меня читает и что обо мне думает; но, поскольку я услышал от этого высокого гостя, что стоит ему встретиться с советскими космонавтами или приехать в Берлин — или в Москву — или где-нибудь пойдет разговор о польской литературе, то везде меня знают и читают; и что в некоторой степени я сделал кое-что во имя Польши, и что сделал это сам, так как «мы вам не помогали, хорошо, если не мешали» — кажется, я цитирую почти точно — ну, так что, собственно, еще можно себе желать? Впрочем, признаюсь, что я бы не распространялся так на эту тему, и написал это главным образом для того, чтобы не выглядело, будто я всегда сижу перекошенный, как от зубной боли, от того, что меня недостаточно ласкают. Меня также спросили, что оч. высокий представитель может сделать для меня, чтобы мне писалось лучше или хотя бы так же хорошо, как до сих пор, а мне ничего не пришло в голову, и я заявил, что мне ничего, собственно, и не нужно… потому что и так все, что требовалось бы, например, проблемы с научной литературой, так сложно закручены, что я предпочитаю полагаться на личные знакомства и любезность иностранцев…
О здоровье (моем) напишу тут кратко. Фактически nervus acusticus[303] частично поврежден, и при исследовании выяснилось, что исчезла не столько абсолютная сила слуха, сколько способность различения — например, звуков речи от фонового шума — что на практике выглядит так, что я слышу, но не понимаю, ну и слуховой аппарат при этом практически не очень помогает, поскольку он усиливает «все как есть» (мы как-то умеем избирательно усиливать, мы, у кого здоровые уши, а определить это можно по способности выслушивать речь партнера в комнате, где одновременно говорят 30 человек). Я в последнее время, впрочем, не обращал внимания на эти уши, потому что долго не мог избавиться от бронхита, а «вдобавок» начались серьезные атаки астмы; что удивительно, мне пришлось принимать таблетки и порошки, предназначенные для моего Томека! Ну, я принял какие-то миллионы пенициллина, и бронхит прошел, а атаки астмы стали реже и слабее, но совсем не проходят, потому что я должен курить, а курить я должен, когда пишу, потому что, если не курю за машинкой, то вместо того, чтобы думать о писании, нервно ощупываю руками все вокруг, разыскивая сигареты, зажигалку и т. п. Впрочем, все это мелочи. Хуже всего бессонница, не сама по себе, подумаешь, я могу лежать и не спать, но из-за нее я не могу писать, потому что в голове сплошной туман, а это уже катастрофа. В последнее время стало лучше. Подозреваю, что «само по себе», а не от какого-то лечения, вот перед этим принимал барбитураты, впрочем, хорошо понимая, что этого нельзя делать долга, и «Mogaden», и «Phenergan», который, например, избавлял от астмы и от которого я засыпал, а потом, как теленок, кружил по дому, такой тупой, что не дай Боже. Но, повторяю, все это как-то прошло, и теперь я сплю свои 6–6,5 часов, чтобы утром в 5.15 добраться до пишущей машинки, потому что мне в это время лучше всего работается, пока не подойдет время везти жену в Краков на работу.
Как у меня и водится, одну книгу я планировал, а написалась другая, под названием «Wielkosc urojona», и по-польски это звучит исключительно хорошо (а вот по-русски, например, уже не очень, потому что надо решать, или это mnimaja wieliczina, или mnimoje wieliczije, в то время, как у нас оба значения сидят в одном слове; но по-немецки тоже можно сказать «Imaginure Grusse»); вообще-то это антология Вступлений к Ничему, хотя и не совсем, потому что это «сфутурологизировалось» и стержень книги составляет «Голем», о котором я наверняка уже должен был когда-нибудь вам писать; и этот Голем, с его инаугурационной лекцией о Человеке, стоил мне, скажу скромно, больше кровавого пота, чем я бы хотел, на него ушла пачка бумаги в 500 листов, а осталось от этого 30 страниц машинописи, но это ИМЕЕТСЯ в самом деле, и самый суровый мой критик (не какой-нибудь Калужиньский, а жена), сказала, что это зияет каким-то чудовищным величием, ведь речь шла о том, чтобы говорила Гора, не Человек, о Человеке. Одним словом, — Intelligence Quotient 600. Но с другими «кусочками» «Мнимой величины» плачу и скрежещу зубами по-прежнему и уже вижу, что к сроку 1 января 73, ЧУР МЕНЯ, не уложусь… Книжечка и должна-то уложиться в 100 страниц, но, понимаете, когда я вынужден в двух второстепенных предложениях упомянуть о какой-нибудь вымышленной книге, например, о «Психоанализе палеонтологии», то должен показать идейку этой книги, в данном случае, что образы вымерших животных форм — это реконструкции, которые МОЖНО трактовать как проекционный тест в понимании психологии, ибо различные исследователи определяли различные «канонические образцы», например, больших юрских гадов или пралюдей, не в соответствии с фактографией, а в соответствии с тем, что у них, этих ученых, «в душе играло», поэтому, скажем, когда я накропаю такую отсылку, она занимает не больше 4–5 строчек на странице, но КАК человек нахнычется, пока ПРИДУМАЕТ такую чертову книжку, проблематика которой может быть, конечно, раздутой, но не совсем лишена смысла, /…/, одним словом, приходится ужасно ломать голову, и я рад бы уже закончить «Мнимую величину», но пока сделано лишь 3/4, другое дело, что сделано самое кошмарное, то есть «Голем». (Не только «Голем», но больше всего я боялся за этот текст.)
Я действительно писал, что мозг расходует 100 ватт! Боже правый, я хорошо помню, что Нейман писал о 25 ваттах, а потом эту величину еще уменьшили, и получилось, что около 15 или 16 ватт расходуется, причем это для работы всего мозга, и головного, и спинного. Кстати говоря, ужас заключается в том, что мозг, измышляющий величайший бред, расходует точно столько же, сколько и мозг гения, и даже когда он вообще не думает, выходит то же самое! Что касается информации на одной печатной страничке, я, конечно, допустил серьезные упрощения, но и точный анализ не дал бы принципиально иные результаты, зато весь этот вывод превратился бы в совершенно невозможную скукоту. В то же время признаю, что я НЕ проверял, достаточно ли НАНО-… и, кстати, добавлю, что мой немецкий переводчик из ФРГ, педант, выловил мои ляпсусы в «Абсолютной пустоте» — два смешных, один, когда там профессор Коуска говорит, что его мать за год до его рождения зачала его сестру, конечно же, она не могла быть беременной двумя детьми в таком промежутке времени, коль они не были близнецами, а еще я писал о генерале Самсонове в 1915 году после падения крепости Пшемысль, а тем временем Самсонов после битвы под Танненбергом покончил жизнь самоубийством, ну и я теперь заменил его в немецком издании на Денисова из царского штаба, — вы сами видите, какой этот Лем небрежный! Другое дело, что если бы я был аккуратным и бездарным, было бы, может быть, ЕЩЕ ХУЖЕ. С сыном моим сейчас хлопот почти нет, он нынче постоянно находится под «пенициллиновой защитой» и благодаря этому за 3 месяца ни разу, ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ, серьезно не болел, а потому и развивается, и занимается удивительными проблемами, в последнее время были скандалы из-за всеобщего тяготения, потому что он не мог понять — А КТО МОЖЕТ? — спрашиваю, — и требовал подробных и точных объяснений, а упрощения его очень раздражают, конечно, насколько он их может заметить; сегодня за столом он убил меня Большой Медведицей, когда мы уже выяснили, где находится Полярная звезда (рисовали ее на скатерти черенком вилки), он показал на нижние две звезды Большой Медведицы и говорит: «А эти „круги“ показывают на юг». Хотя никто ему об этом не говорил. Конечно, еще не Галилей, но ему всего 4 года и восемь месяцев. Вот только будут проблемы, Боже правый, мы с женой — неверующие, а он растет в вере, и недавно, когда у него закончился клей, быстро начал молиться, сложив ручки, чтобы Г. Бог «подбросил» ему немножечко клея. NB, возвращаясь к мозгу и ваттам, не помню, где, но готов присягнуть, что где-то у Неймана «стояло» 5 ватт для мозга. Во всяком случае, наверняка не было разницы на целый порядок, как вы, пан профессор, пишете, что даже двух ватт нет…
Что касается абсолютно твердых тел, то три номера назад в «American Scientists» была прекрасная статья о «черных дырах» и о чертовски спрессованной звездной материи, которая якобы именно тогда становится «абсолютно твердым телом». Не знаю, как она это делает, и некоторым утешением служит лишь то, что эти специалисты тоже того точно не ведают, поскольку все это — чистая теория.
С моими очками сейчас так: у меня множество превосходных очков, но они постоянно куда-то теряются, поэтому я закрываю правый глаз и пользуюсь старенькими, это, конечно, безобразие, но, по крайней мере, довольно просто…
То, что «Literatura» опубликовала, действительно является новой главой для «Фантастики и футурологии»; я ошибся, когда писал вам то об этой книге, то о «Сумме». А какие забавные ошибки сделали при наборе в этой «Literatura», публикуя эту главу! Лучше не вспоминать.
Я должен подписать новый договор на переиздание «Суммы» и действительно хотел бы переписать в этой книге то и это, но не в сторону «осторожности», так как это было бы неразумно. Я сейчас читал, мне одолжили ненадолго, «The Limits to Growth»[304], эти компьютерные модели роста цивилизации до 2100 года, и выглядит это очень удручающе — однако тем не менее даже если бы человечеству на самом деле угрожал какой-то коллапсический провал в следующем столетии, следовало бы четко обозначить все, что находится в пределах инструментальных возможностей и власти разума, даже если это осуществимо лишь предположительно, поскольку то, чем угрожает рост цивилизации, этот коллапс, вытекает не из каких-то законов исторической Немезиды, а является кумулятивным результатом всеобщей деятельности, и если удастся противостоять настоящим тенденциям, все может быть еще и не так плохо…
С памятью у меня плохо, — и никогда хорошо не было, то есть я вообще ничего не помню, у меня голова, как школьная доска, губкой пройтись, и все.
Поэтому о статье (моей), о кот[орой] вы 12 лет назад высказывали мнение, о космических цивилизациях[305], я вообще Не Помню и даже понятия не имею, где я мог что-нибудь такое опубликовать. Я напечатал намного позднее, кажется, в 69-м, подобную статью в журнале «Problemy», но вы пишете о том, что это было на 9 лет раньше. Вы не изменили своих взглядов? Я — тоже нет, хотя должен признаться, что понемногу становлюсь все более пессимистичным в вопросе иных цивилизаций, то есть не в том, что они существуют — это мне представляется прямо-таки неизбежным, в Таком Большом Здании, как Космос! — а в вопросе контактирования с ними.
Notabene. Братья Стругацкие, я не знаю, читали ли вы что-нибудь этих Братьев, написали в этом году новую НФ повесть «Пикник на обочине», и знакомые из СССР прислали мне номера журнала, в котором это опубликовано. Прекрасно написано, дьявольски увлекательно, сенсационно, а смысл такой: прилетели космические хулиганы, устроили Пикник на Обочине, затем сели, улетели и оставили после себя «Зоны Посещения» — в которых полно «их хлама», но этот хлам — чары для нашей науки, некие объекты, нарушающие все законы термодинамики и Ньютона, и что только себе «пожелаете»… Концепция, как мне представляется, довольно нигилистичная, и что хуже того, какая-то плоская — «nu, znaczit, nie stiesnialis bratja po razumu, nachuliganili i ujechali». Это неумно. Я тут сейчас соответствующую энциклику, так как сегодня это единственная авторская пара, с которой вообще стоит дискутировать. Издатели из США присылают мне каждые 10 дней пачку новинок НФ — но ведь у меня Нет Слов! И я не в состоянии ни одной книжки прочитать, максимум 10–15 страниц, делается мне тошно, настолько это ужасно дурно и такие они собой довольные. Я не знаю, читали вы об Иоахиме Чайке, нет, ошибся, Jonathan Seagull — какой-то тип, пилот по профессии, гуляя по пляжу, услышал, как чайка к нему обратилась, и написал книгу об этих откровениях, и заработал на ней миллионы, а откровения эти от чайки об этом и о том свете, и чайка выдает все новые numers, и писал об этом в «Tyg[odnik] Pow[szechny]» Киевский, кот[орый] теперь живет в США, и вот, пожалуйста, тамошней публике все это нравится, что же удивительного в том, что чудовищные бредни, которые я даже в постели перед сном не могу читать, там идут за SCIENCE Fiction?
Жена, которая читала ваше письмо, потому что ужасно любит и ценит ваши, пан профессор, письма, наказала мне от себя передать отдельный привет вам. Что я и делаю, и в свою очередь передаю вам наисердечные пожелания ЗДОРОВЬЯ и поздравляю с Новым Годом и Рождеством. Аллергический насморк? Здесь я тоже специалист, вы не пробовали принимать долгодействующий антигистаминовый препарат TAVEGYL, — правда, от Моего Насморка он не помогает, но на многих он действует хорошо… что же касается десенсибилизации и поиска аллергенов этими детективными методами, то тут я скептик. Покойный проф. Обтулович вкачал в меня бочку всяких разных экстрактов трав и еще бочку адреналина, а я как чихал в июле, так и чихаю дальше, только теперь меня еще и душит, но это, как говорят знатоки, возрастное. А вообще, нынче столько новых лекарств! Тем не менее, я считаю, что лучше как-то вообще БЕЗ них обходиться. Прошу вас вспомнить нас милостиво в сочельник; уверяю, что мы будем вспоминать вас, пан профессор, под рождественской елкой.
Весьма преданный вам
Станислав Лем
Адресат неизвестен
Краков, 22 декабря 1972 года
Уважаемый пан,
я не знал, что это вы были переводчиком моих рассказов в антологии проф. Сувина[306]. Что касается встречи, то я охотно приму вас у себя в Кракове, если вы пожелаете приехать из Варшавы, так как в ближайшее время я туда не смогу выбраться. Если вы надумаете приехать, прошу покорно уведомить меня об этом за несколько дней письмом или открыткой.
Я действительно считаю, что г. Хандке прав: нельзя написанное мной разместить попросту на линии, связывающей «Приключения Досьвядчиньского» [Игнацы Красицкого] и «Рукопись» Потоцкого. В отличие от России и Америки (США) Польша всегда была мощно интегрирована в Европу как место пересечения наднациональных влияний в культуре, и это является решающим фактором классификационных различий в диахроническом диапазоне. Мои произведения являются результатом скрещивания двух главных типов влияний, а именно: концепций и подходов, происходящих из области науки, — и здесь, конечно, ни о каких национальных частностях не может быть и речи, как и вообще в науке; речь идет о вдохновении понятиями из сферы, например, кибернетики и других отраслей современного естествознания (об этом влиянии писал проф. М. Кандель из Вашингтонского университета в известной мне работе «S. Lem on Robots Men»); а уж в литературном плане это прежде всего языковые влияния. В этом, лингвистическом аспекте мои фантастические произведения, особенно гротескового плана, можно разместить на линии Китович — Пасек — Сенкевич — Гомбрович. Сенкевич использовал для своих исторических книг польский язык XVIII века, а Гомбрович, в свою очередь, спародировал его — и тем самым создал новый языковый канон, который уже стал необходимой школой для любого современного польского писателя. Кроме того, я думаю, что подвергался влияниям, идущим от Лесьмяна, так как этот, может быть, самый большой наш поэт междувоенного периода особенно много сделал в словотворческой сфере: это типичная область для славянских языков, в которых свободные префиксы и суффиксы позволяют интенсивно создавать неологизмы. Но в то время как Лесьмян создавал серьезные неологизмы, то есть звучащие серьезно, то я скорее занимался творением гротескных.
В свою очередь, вопрос о том, в какой мере мои произведения состоят в родстве с SF, нельзя решить однозначно, поскольку это бывает по-разному, в зависимости от того, рассматривать ли мои ранние или более поздние тексты. Написанные 20 лет назад действительно были очень крепко связаны с классическим каноном SF; впрочем, именно это я считаю их наибольшей слабостью, поскольку это слишком уж окаменевший канон, как я писал об этом в моей монографии о SF («Фантастика и футурология», 1971 — в 1973 году выйдет второе, дополненное издание). Но затем я пытался этот канон сломать, обращаясь как к возможностям самого языка, так и к более высоким парадигмам (например, в книгах «Кибериада», «Абсолютная пустота» или в последней законченной позиции — «Мнимой величине»). Концепция этих последних произведений все более лингвистическая: они не описывают никакой вымышленной действительности, а лишь некоторые вымышленные, или несуществующие тексты, представляющие литературу будущего времени (не только беллетристику, но также и литературу философского, культурологического и естественно-научного типа). Тем самым я вышел за пределы ходячих стереотипов SF, так как подобные эксперименты в ней до сих пор не предпринимались.
Потоцкий со своей «Рукописью» — это особый вопрос, во-первых, поскольку он писал по-французски, а во-вторых, некоторые сближения композиции действительно можно обнаружить между, к примеру, моей «Кибериадой» и его «Рукописью», но это вовсе не заимствование его примеров, а свидетельство того, что и он, и я черпали из тех же самых восточных образцов, а именно из сказок типа «Тысячи и одной ночи» (главным образом я имею в виду композицию «вложенного» повествования).
Кроме того, различные мои тексты можно рассматривать как гибриды иных влияний, так, «Рукопись, найденная в ванне» возникла под знаком Кафки и Гомбровича. А в некоторых «Звездных дневниках» на первый план выходят отсылки к Свифту, к литературе эпохи Просвещения, к сказкам, философским притчам.
Я считаю бесплодной концепцию поиска того, что можно было бы назвать «чистой линией» диахронии (генеалогии) произведений, в случае современной польской литературной деятельности (не только моей), поскольку в соответствии с существующей в мировом масштабе тенденцией господствует именно стремление к сильному пересечению сюжетов, подходов к теме, парадигматик, одним словом, — влияний. В разные периоды течение нереалистичной (впрочем, я бы скорее говорил о ненатуралистичной) литературы в Польше подвергалось различным влияниям. Так, например, Стефан Грабинский, автор фантастических произведений типа weird story межвоенного периода, был нашей отечественной разновидностью Майринка или Гофмана; также можно найти у него и влияние По. Бруно Шульц, более поздний автор, принадлежит к кафкианскому кругу — но с упором на фразеологическую кострукцию (лирическое барокко, «остранение», мощно укорененное в языке). А вот Гомбрович именно потому был так важен для меня, поскольку у него элементы интеллектуальной сатиры и гротеска с аллюзиями и ироническими намеками на действительность с самого начала были очень выразительными. Кстати, по первым работам Гомбрович принадлежал к кругу гротескового «фантастического реализма».
Меня эти чисто генологические проблемы специально никогда не интересовали, то есть я не считаю, что писатель должен оставаться в центре какого-либо генологического типа, наоборот, я думаю, что пересечение типов сегодня является источником наиболее обещающих и неиспользованных пока возможностей литературного обращения (кстати, я писал об этом в моей теории литературы — «Философия случая», Краков, 1968).
Таким образом, схема влияний на мои тексты не может быть представлена в виде оси, а скорее в виде звезды или сети связей. Кстати, о том, что в моих текстах НЕ является партикулярно народным, писали в Штатах, кроме М. Канделя, Д. Сувин и Д. Кеттерер. Последние два, не будучи славистами, оригинальные тексты скорее всего не видели (а Кандель — славист).
С уважением
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 11 апреля 1973 года
Дорогой пан,
хорошо, что «Голем» добрался до вас; отвечаю вам быстро, на высоких оборотах, так как только что вернулся из Берлина и еще не вытряхнул из мозга следы Western Way of Life[307] (кажется, так нельзя говорить). Вы являетесь так называемым гениальным Читателем, и посвященные знают, что это более редкое (статистически) явление, чем обычный гениальный автор. Действительно, я допустил некоторое злоупотребление, выковыривая «Лекцию Голема» из книги, в которой эта лекция является последней частью. Как название («Мнимая величина»), так и различные мелькающие там предсказания, должны усилить иллюзию гениальности и особенно нечеловеческий облик говорящего; а уж специальные три текста, предваряющие «Лекцию», то есть «гражданское» вступление, написанное сотрудником МТИ[308], «набожно-патриотическое» вступление, принадлежащее перу некоего отставного генерала (US Army, ret.), а также Памятка для лиц, впервые участвующих в беседах с Големом, позволяют подвергнуть сомнению однозначную достоверность того, что говорит Голем. В самом деле, все эти элементы, так же, как и фрагменты «Экстелопедии», несколько снижают серьезность данной лекции; надежда, предложенная слушателям в последней части сказанного, ПОДЛЕЖИТ сомнению, то есть там содержится ИРОНИЯ, — о чем вы все-таки догадались, и что делает вам честь. Implicite[309] Голем наводит на мысль, что человек будет похож НА НЕГО, если сравняется с ним разумом; план «суперкомпьютеризации» homo не ироническим, просто не издевательским, думаю, быть не может, поскольку речь идет о «свободе самоизменения», с пеленок зараженной противоречиями (какая же это свобода, если к ней подталкивает техноцивилизационный градиент?). Поэтому риторику помпезного финала просто необходимо было снизить, тем более что я не могу исключить вероятности того, что когда-нибудь скажу еще что-нибудь этими металлическими устами. Голем, конечно, эгоцентрик; основной вопрос, неприметный в лекции, это вопрос о достоверности ТАКИХ выступлений — когда говорящий безапелляционно возвышается над слушателями, нельзя отделить описание (диагноза, названного состояния вещей) от нормативного прогноза — а значит, не все здесь является такой святой истиной, в которую верит сам говорящий…
Персонификация является риторическим приемом, по крайней мере prima facie; теодицею Голема я набросал себе в черновике, может быть, я к ней еще вернусь. Персонификация является результатом вторичной проекции (когда речь идет о технологии Природы или Эволюции, невольно возникают телеономические воздействия, по крайней мере в какой-то частице того, что такая «технология» означает). В двух словах дело в том, что Голем не является окончательным продуктом (он говорит о том, что стоит на лестнице разумов «немного выше», чем люди), и нет никакой причины, по которой он не мог бы развиваться дальше; но эти дальнейшие аппроксимации Абсолюта (всеведения) обречены на поражение, тем более явное, чем лучше будут удаваться очередные шаги-этапы (поскольку на самом деле Бога нельзя реализовать технологически, а каждый очередной шаг, то есть возрастание разума, приближает к концу пути, коль скоро мир не дает согласия наверняка на построение разумов произвольной мощности — а потому, чем выше взберется такой разум, тем более явно должен понять, что ведет игру с проигрышным финалом, и размер поражения прямо пропорционален нарастающему Ненасыщению).
Что касается фактов этой юдоли: миссис Реди хотела бы иллюстрации Мруза, но тот желает 500 долларов, а издательство Англиканской Церкви может дать лишь 300, — сегодня Мруз должен решить… Историю о Мандрильоне вы перевели прекрасно, к моей радости. История о Легарии — самая трудная в книге, но я уже верю, что у вас ВСЕ должно в конце получиться. Миссис Реди писала мне, что и вы считаете «Футурологический конгресс» well timed[310] — и вся загвоздка в сложности его перевода. Это, наверное, самая тяжелая проблема, потому что эта книга представляется мне даже более трудной для перевода, чем «Кибериада» — во второй части особенно, когда появляется «Лингвистическая футурология». Но я в вас верю.
Ваши сны меня изумили, у меня таких замечательных не бывает. Зато у меня есть две пишущие машинки, и они могли бы друг другу писать письма на письменном столе в Кракове — хоть я и не думаю, чтобы эта чисто компьютерная ситуация оказалась единственным выходом из лингвистической ловушки…
Прогресс и Голем. Что ж, если ЭТО немного язвительно укрыто, то, значит, нельзя считать, что Голем понятие прогресса сначала упраздняет, а потом заново восстанавливает. В принципе, он, как отец Вергилий в стишке моего детства, напевает: «Хей же, дети, хей же, ха, делайте все то, что я!»
Впрочем, он, может быть, даже не отдает себе отчета во ВСЕЙ чудовищности своих постулатов…
SFWA[311] действительно предложило мне членство, на выбор, почетное или действительное, но это деликатное дело, потому что это вообще-то клуб баранов… опять же, издательство Англиканской Церкви убогое и неэнергичное, так что не думаю, что оно сможет сопроводить мое вступление на американскую землю рыком ДОСТАТОЧНОЙ мощности.
Вообще вы воздаете мне почести сверх всякой меры… так что пересылаю вам традиционное «Спасибо!», — надеюсь, это письмо доберется до вас еще до путешествия через Большую Воду; с нетерпением ждем вас; до встречи в мае.
Преданный
Станислав Лем
Виргилиусу Чепайтису
Краков, 9 мая 1973 года
Дорогой пан,
прочитав поучительное и интересное ваше письмо о творческой работе в вашем рижском доме, я медлил с ответом, медлил, так как нагрешил в последнее время, но вижу, что ничего не поделаешь, надо открыть правду. Итак, был я в Германии, ну и беседовал с этими откормленными (да и я, к сожалению, довольно толстый), что еще не было бы самым худшим, если бы не то, что я, поддавшись соблазну, купил там себе автомобиль и на нем вернулся домой. И, желая раз и навсегда насытить демона моторизации, вернулся на «мерседесе» цвета майонеза. А чтобы как следует познать все те омерзительные приманки, на которые они там притягивают человека на погибель, привез множество всяческой невозможной литературы. И так катился я по немецким землям, уж простите, имея в багажнике четыре мешка футурологии, симпатические чернила, которые оставляют пятна, но пятна сразу же исчезают, а также массу других непотребных вещей, в середине же лежали «Playboy». Но был ли я осчастливлен таким образом? Этого не скажу. Материальные блага счастья, как известно, не приносят. Рассудок у меня несколько заплесневел и опустел, ничего интересного в голову не приходит, а в футурологических книгах лишь хаос и шум, из которого ничего не вытекает. Сын мой очень даже мной доволен, потому что я привез ему, кроме чернил, еще паровую машину, а также большой шар-мяч с рукояткой, на котором можно скакать, как кенгуру, целый день. Сам я не скачу: годы уже не те. В университете раз в неделю читаю лекции о Science Fiction, и дьявол меня соблазнил записать одну лекцию на магнитофон, а потом дома запустил, и что же я слышу? Тоска зеленая, к тому же еще и заикаюсь, и рассказываю собравшейся бородатой молодежи какие-то глуповатые анекдоты. До чего может дойти человек, когда безрассуден! И что же, продолжаю читать лекции дальше, хоть самокритицизм и терзает мою совесть. Вдобавок, и это было единственное полезное дело, выдали мы Кшися Блоньского, — то есть, свадьба была, а я в качестве водителя вез его на «мерседесе» к венчанию, и то лишь мне мешало, что я нигде не смог достать водительской кепки, такой, с лакированным козырьком и серебряным шнурком. Все же это выглядело бы лучше, чем обычный наряд. Потом до поздней ночи толпа веселилась в доме Блоньских, — шампанское было прямо из Франции, так как специально на эту свадьбу к Блоньским прилетела француженка из Парижа: вот такие у них связи. Удивляюсь я, как это может быть, чтобы мои мозги стали такой пустыней, что я не знаю, чем вас здесь еще попотчевать, — какими новостями, не рассказывать же о всех новых играх и забавах, которыми овладел мой Томаш в последнее время. Я был также с женой в последнее воскресенье на книжной ярмарке в Варшаве, но и там ничего особенного и достойного внимания не приключилось. Теперь, уже в субботу, устраиваем скромный банкетик по случаю моих именин, и вот так, вместо того чтобы заниматься чем-то полезным, без конца опускаюсь, и опять же, ну разве интересно вам это мое падение? Поскольку оно банально и даже не слишком красочно. Единственное из приятного, что мне осталось, это покупать в Кракове хлебушек, сырок, булки, маргарин, а также приятно думать, что обо мне теперь говорят коллеги. В Варшаве были у Готовского, там, вы знаете, недалеко от аэродрома, где мы с вами бывали, и там под алкоголь вас вспоминали тихим трогательным словом, и хозяин, и все, кто с вами там познакомился и вспоминают добром. Так мне скверно, что даже бумажного змея, которого Томашу привез из Берлина, я спрятал от него, в опасении, что заставит меня носиться по лугу со шнурком в руке, а мне не хочется бегать — как же отвратительна эта лень, и это ренегатство, ведь мало ребенка родить, нужно его и воспитывать, а значит, и бумажного змея запускать. В июле поедем с женой и сыном в «Асторию» в Закопане, но там нет никаких лифтов, ни шведских, ни местных, а значит, и перспектив поиграть никаких. Впрочем, уже умолкну, ибо когда не хватает мыслей, уши ближних следует щадить. Будьте здоровы, кланяюсь также вашей жене, а пишу на вильнюсский адрес, так как думаю, что вы уже напутешествовались и должны вернуться из Риги в родные пенаты. Читаете ли вы замечательные «Teksty» Блоньского? Хлопот это доставляет ему множество, но и удовлетворение приносит приличное. Впрочем, из-за сыновней неосмотрительности он может теперь и дедом стать. Разве это не угроза?
Сердечно Вас обнимаю
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 4 октября 1973 года
Дорогой пан,
я получил от вас два письма, последнее — от 25.09, и хочу написать по одному вопросу, хотя и с двух сторон. Первым делом, в самом общем виде: вы имеете полное право опубликовать свой разбор моей книги, который был задуман как послесловие; ведь одно дело — послесловие, напечатанное в самой книге, и совсем другое — статья, опубликованная где-то в другом месте. Я не считаю также, чтобы этим послесловием вы сделали что-то такое, что можно было бы назвать нетактичностью. Если бы даже все обстоятельства места и времени были иными, если бы я был автором книги, изданной на Луне или на Гаваях, все равно я был бы на некотором, хотя бы частично расстоянии от вашего послесловия, поскольку мне кажется, — конечно, я могу в этом ошибаться! — что, если книга живущего автора содержит послесловие, то это навязывает читателям убеждение, что данный автор это послесловие одобрил, и даже, может быть, более — что он об этой книге думает так же (по крайней мере в общих чертах), как критик, который высказался под той же обложкой. Да, нелитературную сторону послесловия я хотел бы здесь опустить, то есть не размазывать уже вопрос четкого называния всех «реальных предметов» произведения; главным образом, потому, что чисто актуальное, соответствующее данному моменту звучание произведения может иметь (и имеет, я думаю) преходящий характер, и было бы очень плохо для меня, то есть, для книги, если бы она была чем-то таким, что проще всего назвать закамуфлированным памфлетом или же пасквилем. Впрочем, вы сами знаете, о чем идет речь, так как послесловие не было полностью посвящено раскрытию этого «камуфляжа».
Другая же, может быть, важнейшая во внеличностном измерении проблема, которой я хочу коснуться здесь, касается именно того вопроса, который вы определили в своем письме от 25.09, утверждая, что вы чувствовали обязанность высказать правду, такую правду, которую увидели. В этическом плане это прекрасно и является вашей заслугой, так что ни о каком оправдании этого права не может быть и речи. Однако я осмелюсь заявить, на основании собственного убеждения, а также при поддержке высокого для меня авторитета Гомбровича, что обнаружение и демонстративный показ реальных (реалистичных) предметов литературного произведения будет ПРАВДИВЫМ, но одновременно может быть малосущественным. Эта несущественность проистекает из простого размышления о том, что о тех же самых делах, о тех же самых идеологиях и отношениях, о людях могла бы возникнуть книга, совершенно никуда не годная в художественном отношении. Таким образом, определение «окончательной» ПРАВДЫ, в виде некоего схождения «на самое дно» текста, хоть и является, конечно, и правом, и потребностью критика, в то же время не является отличительным признаком своеобразности произведения, его ценности, его оригинальности, ничего не говорит о том, удалось ли его поэтике создать автономный мир, и наконец, о том, не стало ли то облеченное в языковые одежды, что обнаружил критик и назвал в КОРНЕ правдивым, фатально скучным, темным и нудным. Гомбрович всегда живо и справедливо противостоял этой процедуре, этой ненасытности критиков, которые пытались якобы ПРАВДИВО НАЗВАТЬ то, что лежит на семантическом ДНЕ его произведений, этим попыткам якобы «раз и навсегда» «объяснить» произведение, якобы «сказать о нем совершенно все до самого конца», спускаясь вглубь. Ведь литература черпает свои силы не из того, что было КАМЕШКОМ, раздражающем душу художника, словно песчинка, которая раздражает деликатную ткань жемчужницы, а из вида ЖЕМЧУЖИНЫ, родившейся в результате этого явления; и не разъясняет ЖЕМЧУЖИНУ тот, кто рассекает ее, чтобы показать нам, каким был тот КАМЕШЕК, который вызвал ее создание. Он был причиной ее возникновения, в этом нет ни тени сомнения, но такой диагноз не исчерпывает вопроса «имманентности жемчужины» и не дает нам в руки ключ к пониманию того, чем нам нравится жемчужина. Я знаю, что эта старая метафора жутко затерта, но здесь она очень уместна. Литература самодостаточна и достигает высшей степени, когда разворачивается между полным освобождением языка, его вхождением в безответственность и придонной зоной — этих преимущественно тяжелых, материальных, мрачных или отвратительных истин, фактов, вещей, из которых построено существование. Вы сами когда-то писали, что скорее выбираете танец, нежели диспут, и теперь я этот аргумент позволю себе напомнить, и не потому, что это в моих интересах. Если, как это делали вы в своем первом эссе обо мне, которое вы мне присылали, связи между текстами и той областью действительности, которая до сих пор ни для кого не являлась источником вдохновения или являлась, но не так, как у данного автора, то тогда наверняка это погружение, зондирование, спуск на твердое дно является важным, равно как и показ связей, пуповин, течений, которые соединяют эту глубину с тем, что на ней выросло в качестве литературы. Но издеваться над тиранией, создавать компенсацию творимого ею угнетения, одним словом, развлекаться, обращая в шутку мрачные дела, связанные с нашим социальным естеством, ведь это старо как мир, и в результате подобное определение, будь оно хоть сто раз правдивым, оборачивается банальностью, а банальность эта становится как бы совместной собственностью автора и критика — последнего, поскольку он так на ней сконцентрировался, приписал ей такую значимость, первого же за то, что он дал повод именно для такого действия…
Пишу я это в убеждении, что говорю уже не в узком смысле, что сказанное касается не только моей книги и вашего послесловия, но вашего и моего отношения к литературе. Если это прозвучало как поучение, то уверяю, что вовсе не намеревался вас поучать, а всего лишь представил свою точку зрения и указал на моего гаранта, каким является Гомбрович. Вы приписываете себе неспособность к дипломатическому поведению и считаете это недостатком, изъяном, минусом, а я вам скажу, что это ваше счастье, выигрыш, поскольку из этого видно, что по крайней мере условия в значительной мере пощадили вас и избавили от той фатальности, от тех давящих ситуаций, которые и порождают временами «дипломатические» навыки… Право, вам нечего жалеть, — если речь идет о том опыте, в котором дипломатия — в литературе! — оказывается критично начальной ценностью.
Заканчивая эту тему словом, удостоверяющим то, что говорил правду и только правду (о моих убеждениях, а вообще-то я и любую другую могу), и что ни о какой вине и речи быть не может, и не стоит вам даже думать о чем-то таком, я хотел бы спросить, правильно ли я понял из ваших писем, что вы уже не будете работать в университете Дж[орджа] Ваш[ингтона] в будущем году? Это очень странно, так как из этого вытекает, что у вас не было (нет) начальства должного качества, ибо первой необходимой чертой начальства является способность различать плохих и хороших профессионалов, и, зная еще двух американских славистов, могу сказать, что я бы вас из моего университета так легко не отпустил. Что же касается наконец вашего чувства субъективного несовершенства в переводческой деятельности, то с этим вопросом дела обстоят так. Каждый творец состоит из производственной установки и фильтра отсева. Тот, у кого фильтр со слишком большой пропускной способностью, создает в основном мусор, поскольку идиотизмы и банальности КАЖДОМУ, включая всех гениальных людей, влезают в голову — непрестанно. Лишь имея достаточно критический фильтр, можно самого себя постепенно направлять к лучшему. Тот же, у кого фильтр с большими требованиями, а способностей меньше, чем требуется для прохождения произведенного через фильтр, — несчастный человек, обреченный на вечное самонедовольство, который ничего не может сделать. Но в принципе недовольство собственными способностями намного лучше, нежели постоянное самоудовлетворение, лучше, конечно, для ПРОИЗВЕДЕНИЙ, а не для человека, так полагающего. Потому что недовольство собой понукает и принуждает к усилиям, что вредно для самочувствия, но повышает качество создаваемого. Поэтому, считая, что ваше недовольство собственными способностями ведет к огромной пользе — для того, что вы делаете, а в результате полезно и для меня также, — настоящим заявляю, что уже не буду упорно объяснять вам в письмах, как сильно вы ошибаетесь, прижимая собственные возможности.
Г-жа Реди прислала мне корректуру «Кибериады», которую я потихоньку читаю с удовольствием. «Конгресс»? «Звездные дневники»? Это точно соответствовало бы моим мечтам. Но прежде всего прошу сообщить, действительно ли ваша университетская деятельность зависит от таких олухов?
Сердечно вам кланяюсь
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 22 [?] 1974 года
Дорогой пан,
я выступил на нашем ТВ в программе «ОДИН НА ОДИН», по образцу некоторых программ в США (выступающий в огне перекрестных вопросов), но, конечно, это было очень мягкое «прижимание к стенке». Мне построили Луну с маленькими кратерами, среди которых стояло старое черное резное кресло с колонками для меня и большие метеоритные глыбы для собеседников. Прошел также «показ космической моды», а в конце с неба съехали Красный Слон и Телефонная Трубка, из которой хлестал дым. Эту программу, Первую, у нас смотрят все, то есть вся Польша (поскольку у нас больше 4,5 миллионов телевизоров, то потенциально все, кто жив, за исключением младенцев, незрячих и людей в маленьких деревнях, куда ТВ еще не проникло). Смотрели это все, как я заметил в последующие дни (продавцы в магазинах, обслуживающий персонал на стоянке автомобилей, на бензоколонке, столяр, садовник). Передача понравилась, хотя никто из «малых мира сего» почти ничего не понял из вопросов и ответов, а понравилась, пожалуй, по тому же принципу, по которому люди предпочитают непонятную латинскую мессу польской… Это было красиво, разноцветно, а Луну населяли гигантские фигуры, все до одной взятые из «Кибериады», то есть из рисунков Мруза. Из вопросов, из самых изощренных, я понял, что никто почти не воспринимает литературу в качестве литературы, и что различия между чьим-то (например, моим) настоящим взглядом на мир, на будущее, и псевдовзглядом, представленным в литературном произведении, для нормального человека вообще не существует…
Мне писал Нудельман, которого оплодотворила «Маска» — и он взорвался новым потопом концепции, ибо он ищет Универсальный Ключ к Лему, и теперь ему кажется, что он нашел его в соотношении «Маска-Маскировка», и пытается в этом пространстве, то есть в такой концептуализации, разместить все мои книги, впрочем, с переменным успехом, хотя это и довольно любопытно (а фактически, добавлю от себя, проблема Маски — то скорее в «персоналистском» понимании, а то скорее в «онтологическом» понимании — проявляется также и в моих дискурсивных сочинениях, как, например, «фантоматика» в «Сумме технологии», когда речь идет о неотличимой от реальности «маске», то есть синтетической реальности, которая подлинную заменяет). Может быть, напишете ему?.. Потому что он по натуре очень несмелый, все собирается и собирается вам написать… и все не решается…
В свою очередь, от доктора Ротт[енштайнера][312] слышал, что в «Publishers Weekly» была, пожалуй, сокрушительная рецензия на «Футурологический конгресс» (inept story-teller[313] etc.). Роттенштайнера удивило то, что издавна является моим обычным уделом, а именно: крайность позиций, которые занимают все, кто сталкивается с моими книгами. Или восторженный прием (какой оказывала, например, миссис Реди), или сразу же какая-то странная АГРЕССИВНАЯ нервозность, сильная неприязнь, злость, попытка отторжения, уничтожения, ТОТАЛЬНОГО отрицания — всех слов моих текстов. Это действительно странно. И если репутация моя растет, то не потому, что происходит ОБРАЩЕНИЕ моих оппонентов в веру Лема, а скорее, как я думаю, именно репутации я обязан нарастающему превосходству хвалебных голосов над голосами противников, и противники эти тогда скорее затихают, сидят со своей неприязнью дальше, но как бы по углам и в молчании… Честно признаюсь, что я не понимаю эти крайности, этот экстремализм, а жаль, потому что ДОЛЖЕН понимать. Когда я это пишу, то думаю также и о вас, а может быть, в первую очередь о вас, ибо мне было бы чрезвычайно обидно думать, что такие критики, как в «Pub[lishers] Weekly» могут затронуть лично вас, и поколебать не то, чтобы вашу веру в Лема… Лем тут не имеет значения… но вашу веру в naturaliter[314] быстрый человеческий ум, который может на лету отличать достоинства от их подобий. И наличествуют тут, как я понимаю, чисто практические рефлексии. Но поскольку я, конечно, не могу предвидеть конкретные отрицательные мнения, то их возникновение считаю неизбежным фактором моей работы, хотя бы потому, что я всегда старался делать что-то не так, как это делают другие… а судьба Иных не всегда бывает сладкой и увенчивается в соответствии с оригинальностью.
Поэтому я серьезно задумался — чисто умозрительно — об оптимально возможной тактике издательских начинаний моих книг в Америке. Прежний выбор (особенно «Кибериада», «Непобедимый», да и «Расследование»), пожалуй, был нацелен — хоть в какой-то мере и случайно — на два направления сразу: на succus de marche[315] и на succus d’estime[316] (чтобы были и деньги, и достоинства). Однако выполнимо ли это — that is the question[317]. Потому что получается, что нет ни рыночных, ни репутационных достижений! Видимо, то, что издавалось, было слишком похоже на тривиальную SF и не слишком выразительно от нее отличалась, и одновременно было мало похоже на ту излюбленную жвачку недоумков, чтобы могло понравиться всем поголовно.
Тогда в качестве альтернативы напрашивается — перевод таких вещей, как «Мнимая величина», как «Маска», как «Абсолютная пустота», наконец, отказываясь вообще от succus de marche в пользу succus d’estime.
Но я и этого не рекомендую — сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому, что эти книги написаны с позиции некоего Авторитета (например, «Голем», бесспорно!) — а значит, для тех, у кого я не являюсь никаким Авторитетом (не только в художественном, но также и в интеллектуальном смысле), они могут прозвучать еще более РАЗДРАЖАЮЩЕ, предъявляя бессовестную претенциозность. Во-вторых, на полное понимание таких текстов, как «Мнимая величина», можно рассчитывать, когда их читают люди, по профессии являющиеся рационалистами, то есть научными работниками, а позиция рационализма и науки сегодня во всем мире невысока. (А впрочем, я помню, как неумно отозвался о «Кибериаде» спровоцированный издательством Seabury Стаффорд Бир.) И наконец, потому, что эти книги не являются литературно-художественной ортодоксией модной нынче гетеродоксии. Ведь новшества, авангардность тоже имеют свою МОДУ, а сегодня востребована совсем другая мода: темная, мутная, бездонная, невразумительная, закрученная и запутанная, такая, которая терзает читателя, оглушает его и этим якобы должна ему приносить наслаждение.
Эти размышления не являются слишком эгоцентрическими, как могло бы казаться, потому что мои книги в них выступают лишь в качестве датчика, ситуационного измерителя, демонстрирующего состояние дел. Конечно, я всегда прав, как это мучительно! — и особенно я прав в этом вопросе, когда много лет провозглашаю, пропагандирую, объясняю (как хотя бы в «Фил[ософии] случая»), что судьба литературного произведения имеет лотерейный, хаотический, случайный, молекулярно-броуновский ТИП, — и при этом мало кто остался таким ГЛУХИМ ко всем моим тезисам и аргументам, как гг. Литературоведы. Habent oculos et non vident[318]. Не принимают к сведению этот тип механики в литературной культуре, так как он во всем противоречит их познаниям, которые они всосали с молоком Almae Matris.
Я уже к этому — хоть и с сожалением и без радости — привык, так как вынужден был. Но вы? Я хотел бы, пусть даже это прозвучит смешно, чтобы, несмотря на такой опыт, вы сохранили бы свою прекрасную и, в конце концов, не совсем безумную веру в познавательные способности человеческой натуры и присоединили к своим убеждениям дополнительно-объяснительное звено, такое, например, что Зажигание Всегда происходит с Опозданием, и ретардационная вставка является неизбежной при рождении Нового… Во всяком случае, настойчиво прошу вас Не Гневаться на Profanum Vulgus! Воздержитесь от презрения, так как, кроме всего прочего, это очень Бесплодное Занятие.
Мышь обитает у нас на бельэтаже, и никак мы не можем от нее избавиться, потому что она очень Хитрая и умеет успешно обходить все Ловушки, Западни и Капканы. Кроме мыши — купили себе, то есть Ребенку, то есть себе, цветной телевизор и с интересом смотрим теперь нуднейшие Заседания Комитетов, там такие интересные цвета… прыщики на лбах… такие красивенькие, розовенькие… и рубашки, и галстуки у мужчин, и кофточки у женщин. Вот такие скромные наши деревенские развлечения, уж извините! Я размышляю о Чем-то Удивительном, о мире как Маске Бога, все такое, но не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого когда-нибудь. Доктор Ротт[енштайнер] просил дать ему ваш адрес, что я и сделал. Он добрый, но мучит меня и жестоко Морочит Голову Глупостями, он все время рассылает мои книжки разным издательствам, специализирующимся ТОЛЬКО на SF, а когда их возвращают, упаковывает в новые конверты и высылает дальше — невозможный человек! (A blockheaded guy[319], можно так сказать?)
Во всяком случае сердечно вас приветствую, а также вашу Жену и Деток!
Станислав Лем
Адресат неизвестен
Краков, 9 апреля 1974 года
Уважаемая пани,
с тех пор, как я узнал, что открытия делают те, кто не знает хорошо соответствующей литературы предмета, потому что, если бы хорошо ее знали, то ведали бы, что открыть ничего нельзя, с тех пор я с поднятой головой признаюсь в невежестве в литературоведении.
Существует ли генотип — неизменный текст? Существует ли в онотологическом смысле, поскольку мы осознаем, что говорить «деревья, на которые мы не смотрим, перестают существовать» и «они продолжают существовать и тогда» — это не одно и то же. Но не существует такой инвариант ни в одном операционном смысле, потому что невозможно чтение, которое не было бы какой-либо интерпретацией прочитанного. Пока мы читаем, ничего не понимая, например, составляя список частоты появления определенных выражений или знаков препинания в книге, текст остается неизменным. Но эта неизменность является тривиальным свойством, поскольку заведует результатами чтения, лишенного мощности предопределения его течения. Текст — это примерно то же, что археолог находит при раскопках. Если он нашел пять костей и три кольца, то он не нашел семи и одиннадцати: это неизменность генотипа. Но то, о чем он узнал в результате раскопок (= фенотип), не будет неизменным ни для него, ни для его коллег. Текст — как коробка с кубиками и с приложенной к ним неясной инструкцией: каждый ребенок построит из этих ресурсов что-то иное, и даже один ребенок может успешно строить из этих кубиков разные сооружения. Одним словом, между текстом и произведением, которое может быть открыто при чтении, существует различие уровня, а не различие принципиального качества. Ссылка на семиологию как высшую дисциплину в отличие от семантики как починенной ей партикулярности ничем не помогает, потому что нет никакой ни семиологической, ни семантической теории, которую можно было бы использовать в алгоритмическом смысле, то есть как универсально успешную и повторяемую процедуру. Мы желаем иметь такие универсалии, но желания нельзя считать свершениями. Тем более когда, как в этом случае, я уверен, что эти желания неосуществимы, то есть просто фантазии. Можно сравнивать тексты, совершенно их не понимая, как можно сравнивать непонятные предметы, отыскивая их взаимные сходства и отличия. Но с чтением книг это не имеет ничего общего. Одно и то же предложение в разные времена и в разных головах означают не одно и то же. Я считаю, что с точки зрения теории литературы существенна именно эта изменчивость результатов чтения, а не тождество печатного субстрата, так как это trivium[320], который вводит в заблуждение, ибо внушает мысль о неизменности, которая не переходит в сферу чтения, всегда оставаясь свойством объекта (книги, страниц, знаков на бумаге). С одной стороны, нам говорят (Хомски), что глубокая структура языков у человека принципиально тождественна, а с другой, если бы N переводчиков N лет переводили N раз один и тот же оригинальный текст, то НИКОГДА бы тексты переводов не совпали. А если переводить текст с языка A на B, с B на C, а затем обратно, с C на B и с B на A, произойдут неизбежные изменения, дающие разброс тем больший, чем больше было таких рекуррентных переводов. И что нам с существования текстовой неизменности, если на ПРАКТИКЕ она не проявляется? МОЖНО считать, что существует аналогичная полная предопределенность состояний частиц в физике, и лишь обстоятельства, внешние по отношению к этим частицам, сводят на нет приближение к такой совершенной предопределенности, но физики решили, что такой постулат лишен смысла, так как он не операциональный. Так что моя точка зрения исходит из операционализма (Бриджмен, физик-теоретик). Скажу: неизменность текста оказывается de facto изменчивостью, и потому не стоит упираться на его неизменности de iure. Читать, не вмешиваясь в текст, невозможно, а потому результат чтения нельзя разложить на неизменную и изменяемую части по отношению к конкретному читателю в конкретное время и в конкретном месте. Поэтому я считаю деление (текст — произведение) допустимым лишь in abstracto, но лишенным всякой ценности ДЛЯ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ. Впрочем, может быть, это и имеет ценность, но отрицательную, поскольку вводит нас в заблуждение, в уверенность, якобы текст был чем-то таким, к чему можно прийти во время чтения. Множественность толкований произведения долгое время неявно считалась изъяном, которому следовало противостоять (отсюда прогрессирующее стремление к росту конкретности прозы в форме подачи «координат» времени и места, а также к созданию единственности в описании и в виде описываемого). Теперь этот недостаток в практике писательства превратился в желанное достоинство, его стремятся достичь: похоже, Кафка первым стал использовать этот трюк. Но ЭТА перемена ориентации лишь усилила свойство текстов, которое было присуще им всегда, хотя и в разной степени. На полке стоят тексты, а мы имеем дело с произведениями. Это положение схоже с гносеологической ориентацией естествознания, а не с прозябающими в гуманитарных герменевтиках подходами, но подзаголовок моей книги гласит, что это попытка эмпирической теории литературы. Howgh[321].
Структуры, выделенные в «Ф[антастике] и Ф[утурологии]», тесно связаны с ценностями. Иерархия этих ценностей определяется принятой в обществе иерархией жанров и произведений, проблемные возвышаются над беспроблемными, многопланово связанные с реальными проблемами стоят выше пустой лингвистической и развлекательной эквилибристикой etc. Эту иерархию я принимаю в качестве заданной исходно, поэтому ее не рассматриваю (иначе книга распухла бы до невозможности). Так что я принимаю эту иерархию и показываю, что свойственный ей уровень ценностей третируется в SF, что она не соответствует структурным условиям, фундаментальным для такого творения, которое в соответствии с исторической традицией распределения оценок следует считать высшей инстанцией создания. Что, одним словом, SF не реализует установленного там уровня ценностей. Эти структуры использованы ad hoc, для временного употребления, поскольку ни их, ни их аксиологических коррелятов я не извлекаю из произведений, как ножик из кармана. Поэтому я умалчиваю об упрощениях, сопровождающих такие операции. Я делаю то, что физик делает с атомами, используя их структурные модели, о которых знает заранее, что они не являются буквальными копиями атомов, а односторонними аппроксимациями (капельная модель не означает, что ядро является de facto каплей etc.). То же самое касается и «структурных классификаторов фантастики». Это вспомогательные инструменты эвристического исследования, строительные конструкции, то есть ПОСТУЛИРУЕМЫЕ, а не ОТКРЫВАЕМЫЕ, явно ЗАДАННЫЕ, а не НАЙДЕННЫЕ. В этом и мое расхождение со структурализмом как герменевтикой, так как я предусматриваю практическую пригодность модельных структур, которая позволяет лучше ориентироваться в некоторых свойствах исследуемого, но которая ничего ультимативно и совокупно не раскрывает. Кроме того, я считаю, что структурализация, лишенная в исходных посылках аксиологии, пагубна в культурном отношении, поскольку уподобляет себе и то, что является в культуре достоинством, и то, что является недостатком, лишь потому, что у них порой одинаковый остов. Истоки всех моих работ находятся в общей методологии естественного науковедения. Вы читали отчет о дискуссии в ИЛИ, на которой обсуждали «Ф[антастику] и Ф[утурологию]»? Я говорил там об этом.
3. Но, разумеется, вы правы на 100 % — различие между реалистом и нереалистом проходит условно. Лишь для наглядности я сделал переход — дискретным (разрывным), тогда как de facto он континуален.
Кстати, в новом издании «Фил[ософии] сл[учая]» есть новая глава, развитие того, что я писал в «Teksty» о теории фантастики Тодорова, а продолжение в том же духе будет, видимо, в следующем номере «Teksty»[322] (об антиномии как конструктивном факторе в литературе).
Очень интересно, какова концепция Лема SF произведения. Если серьезно: она менялась, Дорогая Госпожа, так как я постоянно развиваюсь, а значит, и меняюсь. Лейтмотивы повторяются («Астронавты», «Эдем», «Солярис»), но обрастают «новым» и перерастают прежние границы.
И еще. «Повествование» вместо «структуры презентации», а «предметный мир» вместо структуры презентованного? Но мира может не быть, а лишь его тень. (Как по тени, отбрасываемой деревом, мы реконструируем себе дерево мысленно.) Кто-то написал, как помнится, кучу фиктивных вступлений к ничему, и где там предметный мир? Кто-то написал лекцию о космогонической теории 2000 года, то есть изложил теорию, разве это повествование? В таком случае повествованием является и лекция из области лимнологии, и вообще любая болтовня о чем-либо. А разве невозможен словарь языка минигванцев с Эпсилона Эридана? Структура презентации идентична такой же структуре любого словаря, в котором слова расположены по алфавиту, но разве это повествование? Разве словарь рассказывает о чем-то? Он может служить основанием для домыслов, можно попробовать реконструировать предметный мир, в котором создан этот словарь, но ничего больше сделать не удастся. В связи с вашей работой шлю вам самые горячие слова сочувствия и сердечно приветствую.
Станислав Лем
Рафаилу Нудельману[323]
Краков, 19 апреля 1974 года
Дорогой пан,
благодарю за письмо со ст[атьей] Бахтина, книги, статью о фант[астике], но прежде всего за само письмо. Сначала такое общее замечание. Такие письма, как ваше последнее, для меня ценны — несмотря на то, что у меня уходит слишком много времени на переписку, поскольку я все еще считаю, что мои административно-редакторские занятия — это помеха моей собственной работе, а не содержание этой работы. Следующее рассуждение таково: корреспондентов у меня много, но вы среди них скорее институт, нежели личность. Если бы вы могли оделить остальных концепциями, им было бы над чем поразмыслить пару лет. И это никакие не комплименты, ибо высказанное рассуждение нацелено в другую сторону: я хочу сказать, что обилие раздражителей (потребительских: на Западе книги тоже потребляют, как баночное пиво, а из-за того, что потребляют, не в состоянии размышлять о них, отвыкли) действует «измельчающе» (термин, который придумал Виткацы). Статья для энциклопедии очень хороша. Она вышла?
Завтра я вышлю вам последнее издание «Дневников», так как в нем есть 100 страниц новых вещей, которые, на мой взгляд, лучше всех прежних «Дневников» (звездных). Вышлю также «Выход на орбиту», хоть это и старая, слабенькая книжечка, и даже названия следует стыдиться, а не хвалиться им. Жаль, что те покеты не дошли, правда, особенно жалеть не о чем, потому что ничего ценного там не было, так, свежайшая продукция. Но уже сообщали мне из США, из SFWA, что будут слать мне кое-что. Посмотрим, что из этого получится, и подождем, что можно будем вам посылать. ПАРАЛЛЕЛИЗМ фантастических мотивов (sjuzet) я заметил давно. Это обидное для человеческого разума свидетельство его ограничения в воображении! Но с Браннером и с «Пикником» — это уже что-то из телепатии. а) Пришельцы создают локальные «города» на Земле, и попасть в них нельзя; б) вокруг «городов» царит хаос, закон сильной руки, локальные самозванные «власти», затрудняющие исследования; в) у границы «городов» и в них самих можно найти непонятные объекты, которые не удается познать ни одним из способов, доступных людям, нельзя их «разгрызть». И таких совпадений еще больше! Как и то, что загадка Пришельцев до конца остается неразгаданной загадкой…
Не скрою, то, что вы считаете тривиальным, я имею в виду замечания о «Возвращении со звезд», а также о «Мнимой вел[ичине]», было для меня очень важно. Primo, то, что человек думает о собственных книгах, является непроверенной гипотезой, замутненной субъективизмом. О «Возвращении» не было ни одной хоть сколь интеллектуально ценной рецензии, а на «М[нимую] в[еличину]» вообще до сих пор никто не откликнулся, хотя прошло уже 2 мес[яца] с момента исчезновения книги из магазинов. Secundo, о «Возвращении» мое мнение постепенно ухудшалось, я видел (или мне казалось, что вижу), насколько лучше я мог бы это сделать, как мне смешал ряды романтически-мелодраматический мотив. Помешать — помешал, но хотелось бы вам верить, что не во всем, коль скоро вы прочитали там и то, что меня интересовало. Это не тривиально для автора!!!
В принципе, я думал о большинстве тех же западных авторов, которых вы назвали в качестве кандидатов для моей серии[324]. Конечно, из Стругацких я могу дать лишь то, что выходило книгой, а значит, «Тройку» нельзя, и «Лебедей» тоже нельзя, впрочем, «Тройку» я считаю превосходной, а «Лебеди» меня утомили. Ваши замечания о Братьях, может быть, и справедливы, а может быть, и слишком суровы. Ведь главное — это иметь одну меру для всех на данном поле, конечно, по отношению к весу беллетристического посыла. Но если «Moon Is a Harsh Mistress»[325], по-вашему, является хорошей вещью Хайнлайна («Stranger in a Strange Land»[326] я не знаю), то «Пикник» не может быть «хуже». Эту «Луну» здорово критиковали (живьем перенесенная в космический век история американской ирреденты; странная «социология»; антиисторизм etc.). Мне «Луна» вообще понравилась, но не как литература, которую можно воспринимать всерьез в полном смысле слова, — это как если бы сопоставлять Сенкевича с Толстым (Львом) и тогда видно, что первый приятный, гладкий, но это «не то» — «легкая красота», но и фальшивая наивная историософия. Впрочем, Хайнлайн — превосходный рассказчик, с большой легкостью ведет фабулу, но глубоким скорее не является. Зато если бы «Пикник» не проваливался так неприятно в эпилоге, и еще если бы был менее «сплющен» — мелкий — в перипетиях героев — это могла бы быть изумительная вещь. Задатки были! И что бы там с Браннером ни совпадало, «Пикник» значительно лучше в художественном смысле. Стругацкие запали на «произвольность» и на желание придумать панацею, «спасение», о котором вы писали. Это было для меня очевидно давно; «Трудно быть богом», если задумывалось как полемика с «Эдемом», полемикой не стало, потому что герой ничего не добивается своим бунтом: ничем не помог угнетаемым массам, девушку убили, а ему остались воспоминания. Кто в результате воспользовался тем, что он вышел за рамки игры, проводимой как чистое наблюдение? Можно сказать, что полемика заключается не в области моральных решений (вмешиваться — не вмешиваться), а в гносеологии (познаваема ли чужая культура?). Но и здесь нет никакой полемики, дорогой вы мой, ведь эти их инопланетные существа — это ЛЮДИ до последнего атома, то есть задача (гносеологическая) была «решена» с помощью circulus in definiendo[327], — я спрашивал, можно ли понять нечеловеческую историю, а они исходно заложили, что она ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ, то есть ничем существенным от человеческой не отличается. Это меня удивляет — может быть, Аркадий и не является орлом интеллекта, но Борис? Впрочем, как я назойливо писал, напр., в «Фил[ософии] слу[чая]», «социальная экология» произведения в ТАКОЙ степени определяет смыслы прочтения! Дилемма «вмешательства» на Западе совершенно не была замечена, и книгу отметили за «аллюзионизм». Как, впрочем, и «Обитаемый остров». Я как раз сейчас мучаюсь над статьей «Границы роста культуры» — per analogiam к «The Limits of Growth» — и вопросы культурно-инструментальных осложнений не выходят у меня из головы. Если жутко упростить, то, что Голем говорит на тему сизифовской деятельности человека по созданию культуры, это мое серьезное убеждение, а вот видение, заключающее его доклад, это уже licentia poetica, уж слишком просто это там получается, но я видел, как усложняется текст, и не хотел сделать совсем нечитаемой эту, в конце концов, БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКУЮ вещь! Ostranienie — эта категория здесь на месте (estrangement, Verfremdung Брехта). Сувин писал об этом пару раз, вы это читали? Последняя его вещь о «Genological Jungle», где он, кстати, многое стянул из «Фант[астики] и фут[урологии]», — я на него за это не обижен, хотя он это название упоминает лишь в библиографии, — так что последняя вещь была весьма неплоха. Нужно все-таки понять этих академиков в Штатах! О SF пишут, как правило, специалисты, которые чрезвычайно не хотят портить отношений с SFWA, в результате получается так: КОНКРЕТНЫЕ анализы, полные одобрения того, что представляется хорошим, и ОБЩИЕ, практически без подачи каких-либо названия и примеров, — критические замечания. («SFStudies», «Extrapolation».) Кстати, а не мог бы я посылать для вас такие вещи и вообще SF из США на адрес Союза Писателей в Москве? Нельзя ли это устроить через них? В ГДР напрямую в частном порядке нельзя послать ничего такого, но в их С[оюз] Литераторов можно. Это была бы лазейка, буду ждать от вас ответ на этот вопрос.
Структуры. Пожалуй, начать следует с того, что классический детектив подразумевает вселенную Лапласа[328]; ретроспективное познание в нем полностью, до конца выполнимо. Это инвариант всей такой литературы; и только методы были различными, — например, отец Браун Честертона буквально мог «вселяться» в душу преступника, то есть совершал ретрогноз в плане ДУХА; Холмс действовал с помощью «дедукции», а точнее, научной индукции, реконструировал прошлое как археолог по раскопанным находкам: в обеих случаях это было возможно на 100 % — и в этом, конечно, высшая точка фантастичности этого инвариантного принципа, поскольку это невозможно. Второй тип, о котором вы пишете (например, многочисленные книги А. Кристи), является лишь разновидностью вышеприведенных вариантов, поскольку их принцип таков: данных для реконструкции, как «понимающей» (через «душу»), так и «объясняющей цель» (научно), слишком МАЛО, и последующие преступления поставляют дополнительные данные; этот принцип можно усложнять. А можно вводить новые данные, которые одновременно приносят дополнительно и информацию, и ДЕЗинформацию, это типичный ретардационный прием. (Согласен, что структура течения времени тогда изменяется, возникают петли, возвращения, но мне представляется, что эта чисто формальная сторона не является главной, что это не наивысший метауровень описания: наивысший в моем разумении предполагает интеграцию структур как носителей смысла, то есть я ищу МОДЕЛЬ вселенной, представленной в книге, и не беспокоюсь о том, проявляет ли одна ось (в данном случае — темпоральная) те или иные выкрутасы, поскольку она сама эту вселенную не определяет.) Наконец, Дюрренматт пытался вводить в классическую детективную парадигму «хаос»: но это, он понимал проблему правильно, это КОНЕЦ детективного повествования, — коль скоро ХАОС воздействует на «данные» и на их восстановление, то нет и безошибочной реконструкции! Мне пришла сейчас такая мысль. Совершено убийство; гениальный детектив в «классическом» стиле находит виновника; и в конце оказывается (хоть найденный обвиняемый и признался!), что он не убивал, потому что испугался или всыпал не тот порошок, не отраву (потому что ОШИБСЯ, например), одним словом, НЕ ОН, а кто-то другой, «случайно», со стороны, под моментальным импульсом, что-то такое сделал. (Весьма вероятно, что этот сюжет уже описан, и не исключаю даже того, что я сам это когда-то читал, а коли я это забыл, уже нет разницы между собственной придумкой и воспоминанием, буквально нет: я не раз придумывал вещи, которые давным-давно уже придумал, записал и благополучно забыл.) Авторство здесь не очень важно: в этом варианте классический лапласовский образец детектива сталкивается с «индетерминистическим». Вопросы эти, в моем разумении, настолько важны, насколько детективная литература содержит какие-то данные о человеке, которые превышают ее имманентные качества, ибо эти качества вообще-то слабенькие, ведь это умственное развлечение вроде ребусов.
Вы говорите, что такой триллер (например, у Чандлера), в котором нет реконструкции, потому что мы все знаем, так как преступление происходит на наших глазах, является особым вариантом, — потому особым, что «преступление в своем развитии следит за собой самим». Осмелюсь заметить, что здесь вы несколько притягиваете ситуацию К СВОЕМУ ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АППАРАТУ, то есть к тем диаграммам течения времени; детектив такого типа (у Спиллейна, Чандлера) не потому несколько нечистый, что сам демонстрирует гадкие поступки, чтобы восторжествовала справедливость, поскольку «время реконструкции совпадает с временем совершения преступления», а наоборот, что вы считаете причиной, я считаю следствием. Герой ЯВЛЯЕТСЯ составной частью преступлений, тут вы правы, но не потому у него нечистые руки, что время реконструкции совпадает со временем злодеяния — а лишь потому, что изменилась топология игры. У Конан Дойла полиция на 100 % честная, только на 100 % неумелая и беспомощная — поэтому private eye[329] вынужден все делать сам; в новейшем американском детективе полиция — это болото, опосредованно связанное с преступниками, поэтому private eye вынужден действовать нелегально, расклад сил совершенно другой. (Там: в коалиции против преступников пассивная полиция + частный детектив; здесь: в коалиции против детектива бесчестная полиция + омерзительные бандиты.) Я хочу сказать, что структурами ВРЕМЕНИ вы объясняете это ЛИШЬ ФОРМАЛЬНО; фактически для объяснения достаточно изменения парадигматики, укоренившейся в ослаблении этического кодекса (не только реального, но и УСЛОВНОГО этического кодекса, того, который данный ТИП повести подразумевает, — было бы чудовищно постулировать в викторианской Англии коррумпированную полицию, но это не БЫЛО чудовищным в 30-е годы в США, где каждый ребенок слышал о связях полиции с гангстерами). Одним словом, я считаю, что если можно что-то объяснить БАНАЛЬНЫМ способом, то не нужно объяснять это способом ИЗОЩРЕННЫМ, если можно танцевать просто от печки, то не нужен высший алгебраический анализ: ибо entia SEMPER non sunt multiplicanda praeter necessitatem[330]. (Идея о том, что «совпадают времена» — преступления и следствия — вроде бы звучит хорошо, но что это означает, — это означает всего лишь, что речь идет о ТАКИХ преступлениях, которые происходят во время действия, а не в предшествующее ему время? Совокупные структурные различия не ограничиваются единственно темпоральной осью.)
Думаю, что я уже знаю, как ДОЛЖНО было закончиться мое «Расследование». Проблема должна выглядеть так. Была серия непонятных явлений. (Не важно, каких!) Были события A1, A2, A3, A4, A5, A6… AN. Наконец возникает гипотеза, которая рационально объясняет все, за исключением одного, например, A9. Совершенно ясно, что A9 не удастся впихнуть в эту гипотезу. Два выхода: а) считаем гипотезу ошибочной; все, то есть создание гипотезы, начинаем с начала, ЗАГАДКА ОСТАЕТСЯ (именно так фактически заканчивается «РАССЛЕДОВАНИЕ»); б) считаем, что случай A9 НЕ ВХОДИТ В СЕРИЮ! Он «из другого семейства», отдельный, он имел собственные причины и чисто СЛУЧАЙНОЕ сходство с явлениями всей серии. Все объяснено, гипотеза себя оправдала, гностика спасена, и лишь нужно будет еще ОТДЕЛЬНО разгадать A9. И если даже случай A9 не будет объяснен, гипотезе это не повредит, скажем просто, что откладываем дело ad acta[331], поскольку в этом ИНОМ случае обстоятельства сложились так, что следы затерты и реконструкция невозможна. Я этого не учел. А ЖАЛЬ! Потому что это очень красивая модель познавательного продвижения. Если это вас развлечет, футурология является попыткой прогноза; конец света, который она обещает, это преступление, вызванное человеческими пороками (жестокость, жадность, агрессивность, тупость, алчность, корыстолюбие и так далее). Что ж, это даже можно считать «профилактикой» преступления. А развлечение? Одни говорят: человечество будет уничтожено в 2100 году. Неправда, уже в 2040 или 2060. Третьи: неправда, НИКОГДА, уж во всяком случае, не в следующем веке! И теперь мы имеем прогнозы, которые показывают прошлое и события, которые произойдут в соответствии с прогнозами. Начинается засуха; энергетический кризис; слышим: КЛИМАТ меняется, в течение 40 лет отклонения еще больше усилятся; слышим: нефти не хватит до 2020 года — и т. д. Но что это за «прогнозы»? Они возникают тогда, когда что-то прижимает, отсутствие нефти, засуха, это диагнозы ad hoc, наряженные в одежды партикулярных прогнозов, а никакие не прогнозы — КОГДА-ТО они были прогнозами, но все разваливаются. Есть целых три времени: реальное; время глобальных, футурологических прогнозов на дальние дистанции; и время прогнозов ad hoc — когда в США были волнения в университетах, социологи писали саженные «прогнозы», что может из этого возникнуть, одни — что революция, крах капитализма, другие — что начало возрождения Америки, а когда закончилась вьетнамская война, все там утихло, и не было ни начала конца, ни конца начала… Так что это принятие минутной флуктуации за начало ТЕНДЕНЦИИ, отклонения внутри определенного параметрического распределения за причинную цепочку, является типичным для попыток предвидения… и дискредитирует их настолько, насколько является нераспознаваемым онтическое различие между максимальной амплитудой случайного отклонения и причинными событиями (если вы не возьмете и не взвесите игральные кости, то вы никогда не узнаете, глядя на серию бросков, почему шестерки выпадают чаще, чем им следовало бы выпадать в соответствии с математическим ожиданием, то ли потому, что произошла случайная флуктуация, то ли потому, что кости вызывают это «отклонение», то есть не являются «честными костями»).
Это мне представляется более интересным, чем структура детективной повести, потому что здесь мы пытаемся тягаться с реальным миром, который задает нам трепку и сбивает с ног, в то время как в детективе мы сначала строим упрощенный мир, а потом радуемся, что его можно понять до самого дна. А когда его нельзя понять до самого дна (Дюрренматт), то мы по крайней мере знаем, ПОЧЕМУ нельзя. Так вот, в реальном мире все не так прекрасно — неизвестно, МОЖНО ли, а если НЕЛЬЗЯ, то где именно прячется бес, который все сводит на нет…
A. «Возвращение со звезд». Вы — так называемый «гениальный читатель», авторы высочайшего калибра уже не раз говорили, что такой читатель встречается значительно реже наилучшего писателя, и это святая правда. Вы такой же выдающийся читатель, как та женщина, которая была выдающейся личностью, поскольку могла читать обычный текст пальцами, хотя знаки никто другой не мог ощутить касанием. Вы смогли вычитать то, что в этой книге ЕДВА обозначено, что МОГЛО быть глубоким, но не является таковым! В этом ваша конгениальность. Идея в плане «секса» была у меня примерно такой: там, где есть секс, невозможно было «на 100 % все бетризировать», поскольку половой акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ самой чистой нежностью, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ кульминацией мягкости, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ святой чистотой, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ эстетической возвышенностью. Не является. Он такой же, как у всех млекопитающих; норма та же самая, отклонения те же самые, агрессивность самцов та же самая, сексуальное принесение себя в жертву как акт сервилизма, как попытка жертвоприношения, попытка откупиться, избегнуть агрессии наблюдается у всех популяций млекопитающих, от мышей до павианов и приматов. Все тотально бетризировать — это бы означало попросту ввести импотенцию, этого сделать не могли. Поэтому ЗДЕСЬ была точка приложения сил. Мой герой должен был наконец заметить, что в сексе он еще может соединиться с женщиной чужой культуры, но вне секса — уже нет. Это был бы, конечно, кошмар, ведь ему нужен был полный контакт, а не только генитальный! Поэтому он пытался бы как-то… И если бы он возбудил любовь, можно было бы дать понять, что «от корня секса», от этой единственной недобетризованной точки психики, он эту девушку «пробудил»… И она, впадая в предбетризационный атавизм, полюбила бы его — «по-старому», но не во всем: она была бы с ним, несмотря на всю любовь, душевно раздвоена и несчастна. А поскольку, утрачивая «нечувствительность к трагичному», которую дает бетризация, она вернулась бы к трагедии, но внезапнее, резче, чем мы, чем Брегг, потому что она не была привыкшей, адаптированной, приспособленной к трагедии, все это ее сокрушило бы. Так нужно было это сделать. Я уже не знаю, просто не сумел или не захотел это сделать, скорее все-таки не захотел, «пожалел» моих героев, чудовищный для автора поступок! Столкновение двух культур, конечно, но на интимном пространстве. Секс как воскрешающее заклятие и как проклятие одновременно. (Я этого, конечно, не напишу, потому что не возвращаюсь к старым книгам.)
«На самом деле» отдельными личностями представлен биологический вид, а их чувства с точки зрения интересов вида являются «чистой избыточностью». Это, конечно, чепуха, поскольку автономизация чувств простирается так далеко, что наконец входит в противоречие с интересами вида. Как я когда-то писал: если бы половой инстинкт действовал так уж прагматично, то после смерти любимой возлюбленный должен был бы с наибольшей поспешностью искать новую партнершу для копуляции, а не предаваться биологически излишней и даже вредной скорби. Это банально и очевидно, но не следует стыдиться очевидности, хорошо ее временами себе повторять, чтобы не попасть из огня да в полымя. В иерархии познания нет противоречия, есть лишь разные уровни — культуру можно исследовать в отрыве от материальной базы, учитывая ее синтаксис, семантику и т. п., но можно и как функцию базы, конечно, не следует считать ее исключительным выражением этой базы, системой причин, которую сможет «демаскировать» лишь анализ. Теоретически мы знаем все это великолепно, но практика расставляет ловушки. И хуже всего, если при разочаровании в одном из возможных подходов у нас вырабатывается на него аллергия. Произведения настолько являются ловушками, что в зависимости от исходной исследовательской позиции оказываются совершенно «разными вещами». Но это не исключение вариантов! Часто это комплементарность в познании. Налковская когда-то написала статью, в которой прекрасно защитила Изабеллу Ленцкую (из «Куклы»)[332] от Пруса как автора «Куклы» и от претензий Вокульского, защитила чисто психологически, показывая, что общепринятая классовая интерпретация (Вокульский как нувориш, представитель агрессивного мещанства, карьерист, вспыльчивый человек, Изабелла как представительница аристократии, пустая, бездушная и т. д.) не единственная; одно дело — эта классовая обусловленность, и совсем другое — субъективная психическая жизнь, и на этой другой плоскости Налковская прекрасно защитила «куклу», то есть Изабеллу, от упреков в подлом цинизме, так как показала, сколь малообещающим в эротике партнером был Вокульский, и как мало в пробуждении любовной взаимности значат те его черты, которые роман подчеркивает (энергия, отвага, благотворительность, духовный полет), — они отличались друг от друга прежде всего в КУЛЬТУРНОМ плане! (То есть Вокульский столь же повинен в крушении связи, сколь и Изабелла, или, что одно и то же, оба были не виноваты в том, что не могли понять друг друга, — ни в какой плоскости контакта, и в эротической — тоже нет.) Такие интерпретации современная критика или отвергает по идеологическим причинам, или стыдится того, что это «устаревшие» методы — например, не структуральные!
B. То, что я написал о «Возвращении», пришло мне в голову в столь отчетливом виде лишь после чтения вашего письма. Невозможно творить с полным рациональным знанием о том, что именно создается, что «хочется» выразить! (А если знаешь это слишком хорошо, то получаются произведения деревянные, грубо сколоченные, лишенные спонтанности.) То, как вы расставили в ряд «Крысу в лаб[иринте]», «Эдем» и т. д., было мне в новинку! И это было очень интересно, так как показывает, что в принципе одну и ту же (например, «лабиринтную») дилемму можно атаковать по-разному и решать (в художественном смысле) лучше и хуже. «Крыса» — это еще очень наивное решение!
C. В «Звездных дневниках» вы найдете рассказ о якобы «путешествиях во времени», — в котором Тихий в качестве директора Института из 27-го века должен «оптимизировать» всеобщую историю, начиная со времен возникновения Земли, направленными в прошлое «ретрохрональными» вмешательствами, и это «улучшение прошлого» приводит историю к тому кошмарно-кровавому виду, который запечатлен в учебниках и справочниках, — язвительность такой шутки представляется мне единственным способом, оправдывающим художественное построение «универсума с обращаемым временем», как бы «хрономобильного». Ведь подобная язвительность позволяет говорить о совершенно серьезных вещах, это такая «защита человеческой невинности», которая разваливается с оглушительным треском, и одновременно это насмешка над панинструментальным подходом, согласно которому ВСЕ можно сделать, достигнуть, изменить, улучшить, если только иметь соответствующие инструменты. Кстати, то, что я позволил себе в этом рассказе, весьма скромно по сравнению с тем, что я мог бы сделать, но существуют регионы истории, в которые не удалось вторгнуться по внехудожественным причинам. Вот и сейчас у меня такие же дилеммы в том, что я пишу. Обращаю ваше внимание на то, что до сих пор вы не коснулись в моих книгах темы иронии, гротеска, юмора, а ведь они могут быть масками серьезности! «Мнимая в[еличина]» притворяется шуточками, и критика позволяет себя обмануть, но ведь здесь шутки — это справка из сумасшедшего дома, дающая возможность говорить о серьезных вещах. (Это не единственная функция данной шутливости, другую я вижу в возможности придать тексту неоднозначность, читатель не знает, что здесь сказано в шутку, а что всерьез, и границу между одним и другим может передвигать по своему усмотрению, а это вызывает особые семантические эффекты.) Я пишу о том, что знаю, или о том, о чем хотя бы догадываюсь. Наверняка я не полон самосознания! А потому и вы можете найти наилучшее место между критической дерзостью и сдержанностью. Но всегда стоит рисковать!
Ваши мысли о моих попытках «материализации абстрактного» требуют особой благодарности с моей стороны. Думаю, что в тех «Дневниках», которые я вам пошлю, вы найдете хороший пример именно этого, в путешествии на «Дихтонию». Кроме того, эта вещь задумывалась одновременно совершенно серьезной и очень гротесковой, и думаю, что мне это удалось. Впрочем, посмотрите сами. Ваше мнение для меня тем важнее, что — возможно, вас это удивит — об этих новых 100 стр. «Зв[ездных] дневников» у нас не написано ни единого слова. Ничего. Попросту ничего. (На «Мнимую величину» было четыре отклика, три были попросту пренебрежительно-заезженными, ничего их авторы не поняли, а четвертый, наоборот, был «хвалебным», вот только уважаемый критик тоже ничего не понял.) Итак: переводы на 29 языков, миллионы тиражей, Бог знает которое издание, и по-прежнему Лем — это девственный континент, не тронутый человеческой мыслью. Что касается «Teksty», то я уже писал вам, что они охотно напечатают, что бы вы ни написали, а если там хоть вскользь будет упоминаться обо мне или о каком-нибудь другом польском писателе, в редакции будут особенно рады, так как это явно показывает, почему именно публикуют у нас в «Teksty». Так что, если вы что-то напишете, — что ж, прошу мне это присылать, но в редакцию, пожалуйста, отправьте сами, непосредственно, с небольшим сопроводительным письмом, ссылаясь на то, что редакция интересуется теорией литературы всех жанров, — впрочем, мне придется вырвать эти «Teksty» у редакции из горла, чтобы вам послать.
Да, похоже, композицию «Мнимой в[еличины]» вы угадали. А потому я чувствую себя обязанным рассказать вам, то есть разоблачить себя, что в «Абсолютной пустоте» этого замысла, преднамеренного, не было, и потому там это «раскручивание» и выход за пределы не так хорошо видны, они не так постепенно усилены, как в «Мнимой в[еличине]». Не было, потому что, как в Св[ященном] Писании, «не ведал, что творю». А заметив, в «М[нимой] в[еличине]» уже делал это вполне сознательно, и даже выбросил из книги одно «Вступление», само по себе, может, и неплохое, но такое, что чисто композиционно портило эту разворачивающуюся линию.
Ну… а что касается «микромоделей» той самой проблемы знаков и значащих систем, которые в целом являются модельными универсуумами ТОЙ ЖЕ проблематики, и того, что это так повторяется у меня (соляристская библиотека в «Солярисе», архив в «Рукописи» и т. д.), — то тут вы меня просто огорошили, потому что я этого как-то не замечал, но это, пожалуй, правда. Да, это очень любопытно, говорю об этом, как о чем-то чужом, получается, что это мое, я породил этих детей, но не придумал их облика — во всяком случае, такого, в такой компоновке. А то, что вы писали о параллелях — чему соответствует в этих моих вещах рассказчик, меняющий точку зрения, — о, это прямо создано для «Teksty». Потому что там сидят одни структуралисты, которые любят эти вещи, но то, что они до сих пор публиковали с вашей стороны, из Тарту, по-моему, не было чрезвычайно любопытным или оригинальным. Так что, если есть желание и возможность, пожалуйста, берите скальпель, режьте, очень прошу!
Не знаю, правду ли говорят об этих чистых страницах в английских изданиях Виттгенштейн, sed[333] si non и vero, и ben trovato[334]. Буду заканчивать, к сожалению, даже для вас у меня нет столько времени, сколько хотелось бы иметь. «Дневники» и «Выход» вышлю точно, а «Teksty» с Тодоровым постараюсь вам найти и послать, может быть, достану еще какой-нибудь номер, тоже вышлю.
Очень сердечно вас приветствую. Преданный
Станислав Лем
P.S. Несколько замечаний, уже после того, как написал ответ. A) социологический подход (марксовский) заслуживает применения в литературоведческом исследовании в качестве метода, если он адаптирован к произведению. Я думаю, что материальное и духовное, база и надстройка влияют друг на друга с помощью обратной связи, и что характеристика этой связи исторически меняется: то есть отношение «образа жизни» к «образу мышления» — это не постоянная величина, а неслучайная переменная, поскольку зависит от типа базы и от типа культуры. В зависимости от этого возможны культурные формации с высокой или низкой степенью автономии, то есть такие, креационные основания которых заключены или более в общественных отношениях, или в некоторой «инкапсуляции», как бы частично оторванные, изолированные от этих отношений. Нет одного-единственного универсального метода исследований в культуре, один и тот же метод может иной раз дать прекрасные результаты, а иногда — оказаться бесплодным. Ведь то, что называется мистифицированным (например, классово) сознанием, подлинно в том совершенно тривиальном смысле, в каком подлинной является любовь двух людей, хотя с биологической точки зрения (Голем!) она есть мистификация, «фальшивая интерпретация», вызванная половым влечением. В таком понимании «правдивой» является прокреационная цель, а порывы чувств — бессознательный камуфляж этой цели.
С.Л.
Майклу Канделю
Краков-Франкфурт, в октябре 1974 года
Дорогой пан,
пользуюсь пребыванием в Франкфурте, чтобы переслать вам письмо, которое не будет открыто и прочтено в Польше. Прошу считать все, здесь написанное, конфиденциальным, то есть не использовать это публично со ссылками на личности, места и т. п. Я хочу вернуться к вопросу жизни в тоталитарном государстве. А зная лучше собственную ситуацию, ее и хочу использовать в качестве примера. Первый вопрос, конечно, таков, что я ни напрямую, дискурсивно, ни в явной форме, в литературном произведении, не могу высказать свои действительные взгляды на проблемы той части света, в которой живу. Я могу только писать, приближаясь к самой границе цензурности, и иногда ее пересекать, что вызовет конфискацию написанного. Но это банальная очевидность, о которой вы сами можете догадаться. Я знаю, далее, что как приходящая ко мне корреспонденция, так и та, которую я отправляю, открывается и прочитывается. Это вызывает, между прочим, те большие опоздания в прохождении писем, которые мы оба наблюдаем. Два года назад мне нанес визит тогдашний Третий Номер Политического Бюро[335]; он подчеркнул в приватной беседе, что только теперь «оценил должным образом» мои заслуги в пропаганде польской культуры за границей, а также заявил мне, что «органы» будут теперь стараться систематически поддерживать мою кандидатуру при выдвижении на Нобелевскую премию. Он просил меня обращаться к нему в случае каких-либо затруднений с публикациями, etc. Через год этот Третий Номер в результате тайных внутрипартийных интриг «свалился». Официально никому ничего об этом не было известно. Он просто исчез со страниц газет, нигде не появлялся, чтобы своей личностью освящать партийные и государственные торжества etc. Причин этого заката de facto я не знаю — хотя и ходило множество сплетен и домыслов, например, что он якобы стремился укрепить суверенность Польши по отношению к СССР, и именно оттуда пришел удар, который его свалил. Но это могут быть слухи, распространяемые им самим или его тайными сторонниками! (Чтобы сделать из него «мученика польской независимости», скажем, и таким образом его популяризировать.) Как это «падение» отразилось на моих личных делах? С виду никак, вроде бы ничего не изменилось. Но я вижу, что с этих пор значительно замедлился путь моих книг к публикации. Государственная награда, на которую выдвинул меня в 1974 году мой краковский издатель, меня обошла. Все вроде бы идет, как раньше, но идет как бы труднее. Возникают большие проволочки с заключением договоров на издание новых книг, а старые по-прежнему переиздают, но очень медлительно. Раньше издатели по собственной инициативе обращались ко мне, предлагая переиздать распроданные наименования. Теперь — тоже, но намного реже. И при этом очевидно, что сам я к этой «высокой феодальной протекции» не стремился, не хлопотал о ней, и свою кандидатуру на Нобелевскую премию никогда никому не предлагал. Об этом выдвижении — мертвая тишина, как если бы никогда ничего такого и не говорилось. И хотя я лично не был замешан ни в какие внутрипартийные интриги, сам факт «падения могущественного покровителя», которого я не хотел и не искал, мне приходится теперь ощущать. (На «Мнимую величину» во всей польской прессе за это время появилось лишь ДВЕ коротенькие рецензии.) А как было раньше, при Гомулке, когда я, например, вместе с тридцатью другими коллегами подписал письмо[336], в котором мы выступили против культурной политики партии? Тоже НАПРЯМУЮ ничего со мной не случилось. Просто возникли какие-то бюрократические трудности, задержки, промедления, в результате которых через некоторое время после этого события я не мог выезжать из страны. Мне никогда не отказывали в получении заграничного паспорта, но только как-то все получалось так, что получал я паспорт слишком поздно, когда уже не мог воспользоваться приглашением. Несмотря на это, двумя годами позже я получил награду (орден). То есть я стал (а сейчас снова) терпим властями и предоставлен самому себе. Прилив «доброжелательности» со стороны властей наблюдается как возрастание интереса со стороны телевидения, радио, кинематографа, как увеличение интервью, предложений различных публичных выступлений, наград, многочисленных обсуждений, доходных возможностей, полезных шансов. Мой знаменитый друг[337], за то, что многие годы является постоянным сотрудником католического еженедельника «Tygodnik Powszechny», никогда не выступает на ТВ и радио, хотя по его сценариям снимаются фильмы, а критики называют его одним из самых замечательных наших авторов. Долгие годы он даже мечтать не мог о выезде за границу. И хотя он является членом Главного Правления Союза Писателей (выборы в органы власти этого Союза одни из последних настоящих в Польше выборов, то есть не берут свое начало в закулисном назначении, и результаты этих выборов не известны заранее, как все иные), хотя о НЕМ уже могут доброжелательно говорить критики на ТВ, самого его не приглашают ни на какие дискуссии или иные выступления перед камерой. Вот такое тонкое дифференцирование господских феодальных благ. Наконец, он даже по случаю тридцатилетия Польши получил орден! — но по-прежнему его держат подальше от масс-медиа! Дело осложняется тем, что эти нигде не обозначенные explicite правила игры в «кошки-мышки» изменяются при переходе от одного политического этапа к другому. Сейчас у нас относительный либерализм: как бы господствует прагматизм. Цензура даже пропустит упоминание о том, что в книге некоего писателя проявилось его разочарование идеями коммунизма! Такое неопределенное утверждение уже публиковалось, но не может быть и речи ни об одном публичном слове, которое походило бы на критику России. Ее проблематика в целом остается для нас жестким табу. Кроме того, мы не знаем и в создавшихся условиях никогда не узнаем, насколько устойчиво нынешнее состояние, каковы четкие границы публикуемости, каковы конкретные последствия их нарушения, что будет через полгода, через год etc. То, что сейчас сходит с рук совершенно безнаказанно, может когда-нибудь стать основанием для репрессивных шагов. Но, как видите, репрессии не ограничиваются заключением в тюрьму. Они могут быть малозаметными, будучи репрессиями экономическими: ведь все места, где можно в качестве автора публиковать что-либо, являются собственностью государства. Так что, подписывая вышеупомянутое письмо-протест, я никоим образом не мог знать, будет ли это иметь для меня последствия, а если будет, то сколь пагубными они окажутся. Неписаный закон, который у нас господствует, это капризный закон, закон милости и немилости, это lex ad hominem[338], и то, что одному, например, мне, сойдет с рук, другому может не пройти безнаказанно. А потому, хотя и речи нет ни о каком криминале, должно быть и для вас ясно, что тот, на кого распространяется НЕГЛАСНЫЙ запрет на публикацию (как один критик[339], который в статье о Достоевском якобы аллюзиями позорил и оскорблял Россию — и не важно, что он писал о ЦАРСКОЙ России!!!), — de facto оказывается без средств к существованию, поскольку в качестве free lance writer[340] ему не на что жить, когда ВСЕ редакции и журналы, и масс медиа вдруг оказываются для него закрыты. (Раньше бывало, что такому человеку помогали коллеги, публикуя его произведения под своим именем, или редакторы, публикуя их под псевдонимами под свою ответственность, но и это может иметь для таких людей неприятные последствия, хотя также НИЧЕГО ТОЧНО НЕ ИЗВЕСТНО ЗАРАНЕЕ.) В настоящее время, повторяю, мы переживаем период относительно усилившейся снисходительности, большей «свободы» и «доброжелательности». Но со дня на день вся эта система «привилегий» может быть отозвана, тем более, когда она действует, как сейчас, на основе НЕПИСАНОГО уговора, незафиксированного соглашения, а то, что провозглашено официально, всегда может находиться в довольно сильной оппозиции к тому, что de facto происходит. В такой мутной среде невозможно выработать личную рациональную тактику, то есть трезво оценивать «могу» и «должен», оценивать пользу и вред, рассчитывать, на что человек еще мог бы отважиться, а чего он не должен делать, если не хочет вместе со своей семьей стать жертвой остракизма, запрета на публикации, тем более что, не будучи официально объявленным, такой запрет бессрочен и неизвестно, продлится ли он три месяца или, может быть, три года… Так что, как видите, приставлять к виску револьвер вовсе не обязательно, коль скоро нужных властям результатов можно достичь средствами, которые не вызовут тут же криков заграничной прессы и выглядят совершенно невинно! Я сам не знаю, какие из трудностей, с которыми я сталкиваюсь со времен «падения покровителя», представляют собой последствия того, что я был зачислен в отряд обласканных «прокаженным» политиком, а какие являются результатом обычной бестолковщины, возникших издательских затруднений, вызванных повышением цен на бумагу, etc. Так какой тут может быть тактический расчет? Добавлю еще, что не знаю, по какой причине мне предложили читать лекции в Ягеллонском университете. Потому ли, что ректор, зная о том, что у меня побывал Номер 3-й, решил проявить партийное усердие и предоставил трибуну протеже, то есть мне? Не знаю. Но знаю, что «случайно» окончание лекций совпало с падением этого политика. Где случайное совпадение? Где причинная закономерность? Один Бог знает! А все это, прошу милостиво помнить, в период «оттепели» и «мягкости»…
Вверяюсь вашей доброжелательности — преданный
Станислав Лем
Рафаилу Нудельману
Краков, 21 ноября 1974 года
Дорогой пан,
письмо ваше чрезвычайно интересно. Нет, я вообще не думал о возможности использования «Маски», resp. [341] ее начальной концепции в качестве ключа ко всем или почти ко всем моим книгам. Прошу принять во внимание то, что автор вынужден вести себя по отношению к собственным текстам всегда примерно так же, как человек по отношению к собственному глазу — глаз не может сам себя увидеть! Я долго не хотел писать «Маску», потому что сразу же, как мне пришла в голову эта мысль, я осознал подобие лейтмотива мотиву Хари. А как вы знаете, я не выношу возвращения к старым вещам. Мой краковский издатель, для которого я редактирую серию SF, утверждает, что в последних номерах ленинградской «Авроры» за этот год есть новая повесть Стругацких, что, естественно, меня чрезвычайно занимает в связи с этой моей серией. Это правда? Вы это читали? «Teksty». Позволю себе выслать вам очередной номер. Признаюсь, что я еще не оформил вам подписку, но лишь по причине чудовищной нехватки времени и суеты, однако я помню об этом и постараюсь исправиться, а в худшем случае буду и дальше посылать вам «Teksty», тем более, что это не так страшно, все-таки это ежеквартальник[342], к тому же выходит с ужасным опозданием. Мне нелегко определить свое отношение к вашему «концептуальному ключу» к Лему, который был бы чем-то вроде универсального классификационного ключа, какой, например, используют в ботанике. Ибо я считаю, что любой достаточно изощренный ключ (а тот, который приготовили вы, наверняка будет весьма изощренным) МОЖЕТ подходить к замкам-текстам. То, в какой мере он подходит «на самом деле», а в какой — немного «через силу», просто не удастся решить раз и навсегда, универсально, для всех книг! (Моих книг.) Во всяком случае, я слышал уже много раз от людей, чье мнение уважаю, что я как бы пишу одну и ту же вещь всю свою жизнь, что повторяю вариации единственной концептуальной темы — так что существование Ключа к Лему представляется мне действительно и разумным, и возможным. Но является ли ЭТОТ НАИЛУЧШИМ? Ха! Этого я попросту не знаю… Было бы очень хорошо, если бы вы пожелали поделиться своими концепциями на тему моего творчества с М. Канделем. В его порядочности, то есть конкретно в том, что он останется лояльным в отношении вашей интеллектуальной собственности как критика и что не присвоит себе ничего из ваших гипотез, я спокойно могу поручиться.
Если взяться искать так называемую объективную обусловленность всех моих сочинений — в понимании социального контекста, — наверное, проблему «Маски» как исходного ключа-концепции удалось бы изложить довольно легко! Другое дело, что это было бы как тривиально, так и не слишком приятно для меня. Конечно, было бы упрощением считать, что также и мои мысли отнологического измерения, касающиеся раскладывания человеческого существования в этом мире — в бытовом смысле, — что эти мысли также обусловлены критически-социальными размышлениями, — это уже было бы, я думаю, большим и обидным для меня преувеличением. Тем не менее, что-то в этом наверняка есть. Поэтому я горячо хотел бы, чтобы вы продолжили начатые рассуждения — с использованием ключа — «Маски». Вывод сможет представить свою полную обоснованность, лишь когда обрастет аргументационным материалом, пока же это является, конечно, необычайно очаровательным — замыслом, наброском. Сувин, критика, теория литературы, фантастики etc. Дорогой мой, если бы существовала теория фантастики и вообще — литературного произведения, хоть немного удовлетворяющая насущную потребность, я наверняка не писал бы такие молохи, как «Философия случая», как «Фант[астика] и футурология». Как я не раз уже говорил, я писал эти книги в условиях Робинзона Крузо, в пустыне и пуще, сам выстругивал себе, как умел, интеллектуальные инструменты, которые негде было взять. Сувин в самом деле очень добросовестно работает, но он немного схоластически страстен и, что хуже, — живя в среде этих различных авторитетов SF, не хочет портить с ними отношений. Я хорошо помню, как, в частности, пани Ариадна[343] сердилась на меня за львиную долю — если не за всю, — «Фант[астики] и футурологии», поскольку я так безжалостно сокрушительно обрушился на американскую SF. Но я не могу, не мог выбросить ни слова, — интеллектуальная пустота всех этих экскурсий в Космосы попросту позор человеческого разума… Одновременно следует уяснить себе относительность мер на поле литературного восприятия. Американская среда привыкла к СВОЕЙ SF, считает ее нормой. Мои книги именно потому, я думаю, имея не самую плохую репутацию в Европе, встречают наибольшее — со стороны читателей, критиков! — сопротивление в Америке, поскольку за исключением буквально нескольких людей там, все в этих моих книгах тамошнего читателя отталкивает, раздражает, приводит в ярость, злит: ибо возник канон, согласно которому никакая глубина не смеет участвовать в показах космических авантюр… и с этим ничего не поделаешь.
Разумеется: ТАКОЕ использование понятия «структура», которое вы предлагаете в письме, представляется мне во всех отношениях дельным и обещающим. Я предложил бы вам еще следующее. Можно взять произведение — такое, как «Маска» — и не столько извлечь из него достойный на первый взгляд «голый концептуальный ключ», сколько само произведение рассмотреть как элемент группы преобразований, включающей в качестве элементов иные произведения. В предложенном вами подходе мы сначала исходим из отношений, связывающих некие абстрактные понятия (маска — то, что замаскировано); то есть при таком подходе мы сначала исходим из РЕЗУЛЬТАТА какой-то еще не известной заранее трансформации. Отправная точка исследования звучит так: быть может, речь идет о различных трансформациях одной и той же или аналогичной высшей связи. По крайней мере можно, идя так до некоторого уровня, проверять обоснованность этой структурно узловой отдельной концепции (связи). Ведь если мы скажем себе, что имеем дело с группой преобразований какой-то исходно единой связи, то нам не придется начинать искать эту связь в чистом состоянии, очищенном от конкретных употреблений каждой трансформанты. Собственно, действительно точным методом (в математическом смысле), конечно, не удастся сделать это двумя совершенно независимыми друг от друга способами, но, возможно, принятие таких предпосылок облегчит самоконтроль (то есть, не НАВЯЗЫВАЕМ ли мы текстам слишком произвольно абстрактную предварительную аксиоматику). Впрочем, не исключаю даже и того, что я тут мелю вздор.
Маска: то, что замаскировано. Кандель заметил, что в «Маске» женщина сначала была чисто внешностью — то есть именно маской, — а в конце оказывается, что под маской скрывается женщина (ведь несчастный богомол не меньше, а, может быть, еще больше женщина, нежели первоначальное создание). То есть, я думаю, особое обстоятельство, данное композиционной конкретностью, и требует чисто ЛОКАЛЬНОГО обдумывания, которое вовсе не обязательно должно найти свои гомеоморфизмы в других произведениях. Впрочем — не знаю.
Маска: замаскировано, в более общем случае — шифр — то, что зашифровано. В самом деле — в «Рукописи, найденной в ванне» (это, главным образом, шифр) и в «Гласе Господа» также. А кроме того — моя концепция (из «Суммы технологии») «Фантоматики» — иллюзии, неотличимой от реальности, — тоже, конечно, относится к делу «маскирования», на этот раз дискурсивно. Ультимативно, мир как Маска Бога… ибо и так можно.
Во Франкфурте мне пришлось переводить ваше письмо Роттенштайнеру, потому что он не знает русского языка, отсюда, думаю, и задержка с его ответом. Но у Канделя, поскольку он русист, не будет с этим никаких проблем.
Не прочитав Нортропа Фрая[344], вы потеряли не много, а может, и вообще ничего. Я тоже, собственно, почти ничего о нем не знаю — это очень почтенная фигура, но и слишком старосветский способ мышления. В гуманитарный науках будущее принадлежит другим умам: точным. Образованным математически. Так я по крайней мере считаю. В ближайший вторник я начинаю в Крак[овском] университете лекции на философском факультете — «Теоретико-познавательные основы будущих исследований». Впрочем — масса работы. А если вы сможете что-нибудь узнать об этой возможной новой повести Стругацких — буду благодарен за известие.
Очень сердечно
Станислав Лем
Рафаилу Нудельману
Краков, 2 января 1975 года
Дорогой пан,
хоть я и писал вам всего лишь 3 дня назад, пишу снова, так как забыл в том письме попросить вас ответить на вопрос, касающийся «Пикника» Стругацких.
В одном из своих предыдущих писем вы заметили, что Стр. склоняются к серьезному поиску в своих произведениях «рецепта спасения», и что такой рецепт, в частности, можно найти в окончании «Пикника». Я не обратил тогда внимания на этот фрагмент вашего письма и снова вернулся к нему только сейчас, когда переписывался через океан с проф. Сувиным по теме всего творчества Стругацких. Так что я и повесть перечитал в последнее время, изданную теперь на польском языке, но, как и при чтении русского оригинала, я ни на секунду не в состоянии серьезно принять то, что роится в голове героя, того «сталкера», о «Золотом Шаре», а именно то, будто бы этот шар на самом деле «может исполнять любые желания». Я совершенно непроизвольно посчитал это очень жестокой насмешкой, вытекающей из непонимания людьми (всеми вообще) природы объектов, оставленных в «Зоне» неведомыми «пришельцами». Неужели это было моей ошибкой, то есть — неужели настоящим намерением Струг. было желание серьезного отношения к «Золотому Шару» как к «аппарату, исполняющему желания»? Если посмотреть с такой точки зрения, то вся повесть меняет смысл и структуру и превращается в научно-фантастическую версию очень старого мотива народных сказок, в котором герой resp. герои разыскивают некий объект, наделяющий чрезвычайной властью (например — исполнением желаний), но по дороге к этой находке они должны преодолеть серию сложных препятствий. При таком «сказочно-структурном» подходе все, что оставили в «зонах» космические пришельцы, оказывается попросту системой таких барьеров, препятствий (воистину смертельно опасных), которые нужно осилить, иначе говоря, прохождение людей к «Золотому Шару» как к исполняющему желания «аппарату» они усложнили серией испытаний, которые люди прежде должны пройти. Однако повесть, если ее ТАК понимать, естественно, утрачивает познавательные ценности натуралистического типа (в понимании философии натурализма) и становится всего лишь сказочным произведением с неким аллегорическим содержанием.
Конечно, не важно, как именно Я прочитал эту повесть. Важным мне представляется то, что намеревались сделать авторы, и что вы, бывая с ними в контакте, можете сказать на эту тему. Я слышал раньше от вас, что первоначально, то есть в неопубликованной версии, окончание «Пикника» было совершенно ДРУГИМ, нежели теперешнее. А вы не могли бы сказать, каким было это окончание? В конце концов, та версия, к которой подталкивает ваше мимолетное замечание в вышеупомянутом письме (о том, что финал «Пикника» ТАКЖЕ является попыткой показать «рецепт спасения»), попросту не умещается у меня в голове как версия, которую хоть на мгновение можно было бы принять всерьез. Этим я хочу сказать, что подобное замысловатое несходство того, что люди думают о «контакте с иной цивилизацией», и того, что этот контакт представляет собой de facto, — представляется мне допустимой гипотезой на внелитературном пространстве (то есть, что на самом деле если не дословный ход событий «Пикника», то ТИП отношений между «пришельцами» и людьми, показанный в этом произведении, мог бы осуществиться в реальном мире). ЗАТО совершенно невозможной, то есть выходящей за рамки окончательного правдоподобия в гипотетических размышлениях о «контакте» мне представляется концепция «устройства для исполнения желаний», поскольку НИ В ОДНОЙ натуралистической версии мира эту концепцию разместить нельзя. Ведь это замаскированный «фантастической научностью» переход от гипотез, пусть даже микроскопически правдоподобных, к мышлению типично мифически-сказочному!
Буду весьма вам обязан за рассеяние этих моих сомнений!
С сердечными новогодними поздравлениями,
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 9 января 1975 года
Дорогой пан,
осмелюсь высказать несколько замечаний о присланной вами статье, за которую очень благодарен. В ней есть одна орфографическая ошибка: по-польски пишется «INTELEKTRONIKA», а не «Intelektronyka», как вы написали (может быть, по аналогии с типовым формантом: muzYka, matematYka). В целом я считаю, что вы слишком скромны и строги к себе, потому что даже там, где вам не удавалось перевести что-либо буквально, вы часто на основании идеи вносили трансляционную КОМПЕНСАЦИЮ собственными задумками. (Кстати, не знаю, вы заметили, что секта Drabinow называется ТАК от перекрытия RABINOW и DRABINOW[345].) О трудности перевода bdziejow вы пишете, а о своем термине HENCITY нет, — почему? Я не знаю, но мне этот термин представляется очень хорошим[346]!
В самом деле, вы правы, когда говорите, что по моему мнению язык одновременно отражает ИЛИ формирует мир человека. А то, что польский язык лучше, чем английский, переносит значительное обилие, скопление неологизмов, для меня самого вопрос совершенно неясный. Например, сейчас, когда я писал новое произведение для цикла «Кибериада», то в такой степени размножил там неологизмы, что пришлось при окончательном редактировании текста их совершенно безжалостно истреблять, именно потому, что текст стал невыносимо барочным, и это затрудняло чтение, а кроме того, точно так же, как и в поэзии, МЕРУ нововведений следует определять СДЕРЖАННО, и если эта мера превышена, отдельные, даже превосходные неологизмы (метафоры в поэзии) имеют тенденцию затмевать (гасить семантически) эффект соседних!
Я бы добавил еще следующее.
A) В зависимости от того, используются ли неологизмы в намерении квази — реалистической серьезности описания мира, представленного в произведении, или же в намерении писать гротескно, это заранее решает поведение автора в литературе, хотя совсем не так может быть в действительности. Склонность к шуткам в серьезных делах свойственна, например, физикам, недавно открытую частицу они назвали «очарованной» совершенно обдуманно, что, пожалуй, еще забавнее, чем «strangeness» — «странность» — в качестве параметрического атрибута иных, ранее открытых частиц. Но то, что допустимо в реальности, не всегда разрешено в литературе.
B) Неологизмы должны вступать в резонанс — с существующей синтагматикой и парадигматикой языка — множеством различных способов. На многих, можно сказать, уровнях можно получить резонанс, создающий впечатление, что данное новое слово имеет право гражданства в языке. И тут можно грубо, топорно произвести дихотомию всего набора неологизмов, так что в одной подгруппе соберутся выражения, относящиеся скорее к сфере ДЕНОТАЦИИ, а в другой — скорее к КОННОТАЦИИ. (В первом случае решающим оказывается существование реальных явлений, объектов или понятий, что-либо выразительно обозначающих внеязыково, в другом же случае главной является внутриязыковая, интраартикуляционная, «имманентно высказанная» роль неологизма.) Однако тем, что составляет наибольшее сопротивление при переводе, является, как я думаю, нечто, что я назвал бы «лингвистической тональностью» всего конкретного произведения, per analogiam с тональностью в музыкальных произведениях. (Когда одно построено в b-moll, а другое — в Cis-dur.) Например, тональность «Консультации Трурля» целостна, то есть gestalt-quality[347]. ИНАЯ, нежели в рассказе Трурля о Малапуции Хавосе. Это ненамеренное различие возникает, по моему мнению, от чисто эмоциональной напряженности увлечения текстом, который пишешь, ибо интенсивность такого увлечения находит свое выражение в «языковой разнузданности», в дерзком подчинении всего осмысленно-звучащего заявления — намерению, патронирующему произведение (у меня по крайней мере именно так нарочито подчеркивается натиск ожесточенности, скажем). Может быть, заслуживает внимания поиск ответа на вопрос, в какой мере дозволительно неологизмам на разных уровнях (лексикографическом, грамматическом, фразеологическом, идиоматическом) приписать серьезные функции ДАЖЕ в тексте prima facie только гротескном. Ведь гротескность произнесенного заявления МОЖЕТ быть ТАКЖЕ защитой, камуфляжем, в специфических условиях подцензурной публикации, ХОТЯ не может быть и речи о том, чтобы всегда трактовать такой текст как шифр, который надо взломать, или как шелуху, которую следует содрать и отбросить, чтобы добраться до того, что «на самом деле» этот текст скрывает. В противоположность обычному шифру литературный текст неотделим от этой своей «скрытой семантики», и как обычно в литературе, то, «что автор хотел сказать», после разоблачения может оказаться совсем банальным, а новшеством и ценностью per se является именно способ высказывания.
Неясным для меня остается, уже вне границ вашей статьи, почему именно вы явно отдаете предпочтение текстам типа «Конгресса», «Кибериады», «Звездных дневников» в ущерб текстам типа «Мнимой величины» (как их читатель, а не как возможный переводчик!). Мне кажется, что в «Мнимой величине» я продвинулся хотя бы на шаг, но дальше, чем, например, в «Фут[урологическом] конгрессе», учитывая то, что в «Конгрессе» показан некоторый предметный мир, и этому миру высказывание ассистирует (служит ему описательно или, разумеется, самим течением развивающейся интриги). А вот в «Величине» уже нет мира, представленного целиком, а есть лишь фрагменты сильно и умышленно опосредованнх заявлений, из которых можно лишь представлять себе (домысливая, делая умозаключения), каким является внешний мир, существующий лишь в виде чистого подтекста. Этот очередной шаг я считаю логичным шагом в эволюции моего писательства, почти необходимым, и потому был бы рад услышать здесь ваши возражения, предупреждения, от которых вы меня пока избавляете. Вот не надо так, правда. Упрек, с которым я встретился на родине, правда, высказанный не так остро и ясно, гласит, что чем-то таким, как «Мнимая в[еличина]», я попросту УЖЕ выхожу за пределы беллетристики, что это какие-то упражнения, допустим, из философии, или публицистики, или фантастической историософии (или хотя бы полуфантастической), а не литературные произведения. У меня же на это есть такой ответ: то, что вчера считалось трансцендентностью границ беллетристики, сегодня может быть уже интегральной частью художественной литературы, поскольку граница эта носит изменчивый характер, зависит от принятых условностей, и когда они изменяются, фантастическая философия или теология может стать именно «нормальной художественной литературой». А вы что об этом думаете?
Очень сердечно приветствую вас,
Станислав Лем
Майклу Канделю
Краков, 9 февраля 1975 года
Дорогой пан,
я очень благодарен вам за письмо, в котором вы с такой добросовестностью представили свои likes and dislikes[348] и попытались обосновать их обобщениями (Mythos-Logos). Ваше письмо объяснило мне, на сколь хрупком основании покоится любое соглашение, возникающее между людьми ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ. Ведь если бы я был автором всех моих книг, за исключением «Кибериады» и «Звездных дневников», вы наверняка не занялись бы моим творчеством так благодатно и так замечательно, как это произошло. При этом я думаю, что различие базовых суждений о литературе, в частности, хотя бы в ее фантастическом ответвлении, между нами еще больше, чем это, казалось бы, следовало из предложенной вами раскладки моих произведений на четыре группы, и это потому, что я уверен: при продолжении аналитического разбора мы пришли бы к дальнейшим различиям. Так, например, поместив под микроскоп отдельные «путешествия» Ийона Тихого, мы установили бы (собственно, это уже произошло ранее в нашей ранней переписке), что вы отличаете и выделяете не те же путешествия, которые предпочитаю я. Так, например, путешествие о «теологическом» заряде вас явно не устраивало, и вы даже предлагали его исключить, в то время, как для меня оно является одним из самых метких, то есть наиболее точно отражающих мои исходные намерения. Ведь мое собственное негативное отношение к отдельным моим текстам, к таким, например, как «Расследование», «Эдем» или «Возвращение со звезд», вытекает из ощущения расхождения первоначального намерения и его выполнения, то есть дисквалифицирует эти произведения за их несовершенство, за то, что они свернули на неправильный путь. Там же, где до дисквалификации не доходит, я попросту считаю, что написал то и написал так, как «должно быть». Дискуссия по существу на тему, «кто из нас здесь прав», была бы лишена всякого смысла, поскольку литература — это всегда только и исключительно argumentum ad hominem[349], и это argumentum, все обоснования которого представляют собой лишь вторичную рационализацию (критическую). Существуют, как известно, книги, которые мы любим и уважаем, такие, которые любим, но не уважаем, такие, которые уважаем, но не любим, и наконец, те, которые мы не любим и не уважаем. (Для меня к первой категории принадлежат книги, НЕ ВСЕ, Бертрана Расселла; ко второй — Сименона, к третьей — Кафки, к четвертой, например, — книги типичной science fiction.) То же касается нашего отношения и к другим людям. Например, к женщинам! Ведь можно считать, что некоторая женщина ДОСТОЙНА любви за ее положительные качества души и тела, и одновременно осознавать, что сам ты ее не полюбишь. На вопрос, ПОЧЕМУ именно нет, можно ответить, но это всегда вторичная рационализация, первоначальным же является влечение — или отвращение. Добросовестный критик — это такой, который лишь то признает и хвалит от всего сердца, что одновременно как любит, так и уважает; конечно, нюансы между первым и вторым повсюду стараются стереть. Ключ моего критерия, собственной оценки моих книг, это попросту отношение к ним с позиции ЧИТАТЕЛЯ. К «Кибериаде», к «Звездным дневникам», но также и к «Мнимой величине», к «Абсолютной пустоте» я могу безболезненно возвращаться и обычно нахожу в этих текстах что-нибудь удовлетворяющее меня, а потому и ощущаю желание узнать иные — ЕСЛИ БЫ ОНИ БЫЛИ — книги такого типа. «Солярис» — это особая вещь, ее я больше уважаю, чем люблю, — я даже корректировать ее не хочу! Фантазия, которую я ценю, это крылья, выносящие за пределы уже Познанного и Испытанного, уже познавательно ассимилированного, и то обстоятельство, происходит ли эта трансценденция достигнутых границ в виде дискурса («фиктивной онтологии», «теологии», «философии», «лингвистики» etc. и т. п.), или же в виде беллетристики (гротеска или «визионерской атаки»), — имеет для меня чисто ТАКТИЧЕСКОЕ значение. Какова вершина, каковы препятствия при ее штурме, такова и применяемая тактика, и ничего сверх того. Это не значит, что я — предтеча, а вы — традиционалист, что я выдвинулся куда-то там, а вы сзади, это означает лишь, что я — эгоист и что делаю (и читаю тоже) то, что меня занимает, что мне доставляет удовлетворение, которое я не раскладываю на основные элементы (сколько эстетического удовлетворения, сколько познавательного, сколько развлечения, сколько разочарования). Я словно ищу, в моем чисто субъективном ощущении, естественно — ИСТИНЫ как их чистой возможности, и тут уж правота на стороне тех, кто считает, что я, наращивая эрудицию и знание, тем самым затрудняю себе чисто беллетристическую работу в рамках ранее использованных канонов («Кибериада», «Солярис»), поскольку жажда оригинального, хотя бы ПОХОЖЕГО на правду отличия, подгоняет меня успешнее всех других используемых критериев естественности, например, композиционного, стилистического etc.
Так, например, будучи духовно весьма подобным проф. Хогарту из «Гласа Господа», я не очень привязан к сентиментально-мемуарным достоинствам в «высоком Замке», и единственной частью этой книги, которая по-прежнему доставляет мне удовольствие как читателю, является отдельная главка, посвященная «удостоверенческому бытию» как метафоре-параболе, показывающей инициацию ребенка в общественный быт, а одновременно и вхождение того же ребенка в ту систему символических инструментов, благодаря которой он начинает участвовать в духовной жизни человечества… (Замечу в скобках: то, что вы предпочитаете, например, «Голема» такому фрагменту «Высокого Замка», остается для меня необъяснимым, и именно это, как я думаю, и является той differentia specifica[350] наших индивидуальностей, которую можно было бы по-разному интерпретировать, но наверняка нельзя разгрызть окончательно).
Я видел, с какой старательной и осторожной деликатностью вы, когда писали, подбирали слова, чтобы не задеть мою собственную авторскую любовь… этого не нужно, поскольку я — такой эготист в высшей мере, какого вы не можете себе вообразить! И хотя я ничего не имел бы против бестселлеровской карьеры моих книг, хотя признание Сорока Величайших Мудрецов современности, несомненно, доставило бы мне огромную приятность, не может быть, чтобы я, принимаясь писать что-то, принимал во внимание ТАКИЕ обстоятельства (то есть, чтобы я вообще хоть каким-то уголком сознания СТАРАЛСЯ написать или массовый бестселлер, или вещь, адресованную этой Элите). Во-первых, я так не умею, а во-вторых, не думаю, что даже если бы умел ТАК писать, то захотел бы удовлетворить принятым решением не себя, а кого-то ДРУГОГО. Считаю своей моральной писательской обязанностью признаваться в написании всех моих книг (но уже не считаю, что должен в обязательном порядке соглашаться на переиздания того, что по мнению издателя respective требует книжный рынок). А уж принятие во внимание голосов критики, читателей, врагов, друзей, далеких и близких мне людей — НЕ входит в мой кодекс писательского поведения, — уж не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Я даже не киплинговская кошка, которая гуляет сама по себе, потому что я ХОЧУ ходить ТАМ, где еще никто не бывал, то есть меня изумляет то, что меня попросту изумляет, а не то, что является следом, до сих пор НЕПРОТОРЕННЫМ… И если даже я вдруг увижу непроторенный след, непроложенный путь, ни в виде дискурсивной мысли, ни в виде художественного образа, то и тогда не ступлю туда ни на шаг, если только эта эскапада не очарует меня заранее… и потому я такой эгоистичный, потому мне не хочется делать столь многие вещи… Аргументы вроде тех, которые вы как могли самым добросовестным образом изложили, я, конечно, принимаю к сведению, но речь идет о таком типе аргументации, который кто-либо мог бы использовать, чтобы убедить меня, что книги писателя X содержат ценности, которые я в качестве читателя не обнаружил, так как был слеп. Эта аргументация, таким образом, может убедить меня склониться к УВАЖЕНИЮ писателя X, но самым очевидным образом не заставит меня ПОЛЮБИТЬ его книги, ибо, как я сказал, это две разные вещи… Ибо отношения с литературой отличаются духовной интимностью, своей неповторимостью подобной отношениям, как уже было сказано, в эротике — любовь, которую мы питаем к женщине, ВОВСЕ НЕ пропорциональна нашему знанию о достоинствах, которые должны вызывать любовь к этой женщине из высших соображений… Царство тривиальной литературы связано тем фактором, что люди читают эти книги, потому что это доставляет им удовольствие, и БАСТА — а вот Высокие произведения люди отмечают, люди значительно чаще и поспешней признают их выдающимися, нежели читают с радостью… и в этом смысле лицемерия, особенно снобистского, в верхнем царстве беллетристики больше, чем в нижнем… Как писатель я делал много вещей УМЕРЕННЫХ, например, весь «Пиркс» для меня — это литература добрая, молодежная, гладкая, умелая, складная, но одновременно отошедшая от подлинности, той бездонной, которая создает возможность драмы существования, — Пиркс в лучшем случае персонаж Лондона, а не Конрада, поскольку такие, довольно скромные цели я ставил себе в то давнее время… а потом к этому моему «харцерскому», Баден-Пауэлловскому герою я немножко, ну, привязался, — и люблю, хоть и не уважаю… Конечно же, отмеченное различие наших оценок моего труда, в полном диапазоне, в общем — вещь хорошая, ибо чего бы это стоило, если бы вы эхом повторяли то же самое, что и я… Поэтому моя благодарность — не лживая; это был ценный опыт, за который еще раз вас благодарю. Ну, а о том, что с издательством «Seabury» все более-менее в порядке, вы уже знаете, наверное, из моего предыдущего письма…
Очень сердечно приветствую вас,
Станислав Лем
Адресат неизвестен
Краков, 14 февраля 1975 года
Уважаемая пани,
вы обратились ко мне за советом в вопросе эстетической оценки «Мнимой величины». Но ведь как автор я не могу быть тут беспристрастным, поскольку не сумею отделить в этой книге то, что хотел написать, от того, что написал. Я хотел написать вещь, меняющуюся, как некоторые ткани, которые изменяют цвет в зависимости от того, под каким углом на них смотришь. Так что можно, конечно, рассматривать эту книжечку как шутку или серию шуток. Однако можно считать также, что в этих шутках таится щепотка серьезности, что речь идет о том, чтобы некий будущий мир, не тот, который когда-то там будет, а такой, который МОЖЕТ быть, представить не напрямую, заполняя его какими-то действиями, фабулами, героями, описывая их окружение и поступки, но в таком усреднении, которое дало бы зеркальце, если бы упало на пол, разбилось на мелкие кусочки, и каждый из этих осколков отражал бы какой-то иной фрагмент окружающего мира. (Некоторые из этих осколков могут отражением искажать настоящие пропорции образов.) Один советский критик написал мне в частном письме, что эта книга по композиции схожа с «Абсолютной пустотой», но в «Мнимой величине» этот композиционный принцип наблюдается отчетливее. Это принцип, позаимствованный у музыкальной композиции, в которой некий мотив появляется сначала легко, фривольно и как бы в результате капризного случая, а повторяясь, набирает размах и полифоническое разнообразие. Поначалу речь как бы идет о делах небольшого калибра, из которых вдруг возникает все больший образ. Хотя он этого не написал конкретно, я думаю, что он думал о фигуре «мыслящей горы» — Големе, который сначала представлен в манере абсурдного анекдота (в «Экстелопедии»), а потом, как в театре перед торжественным представлением, начинают подниматься очередные занавесы (очередные вступления к подлинному Голему). Этот критик назвал такой принцип композиционным законом развивающейся спирали (якобы проблематика набирает дыхание, чтобы завершиться особенно мощным аккордом). Несомненно, можно и так. Что же касается «Абсолютной пустоты», она в некотором смысле была приготовлением к «Мнимой величине». Такой способ письма, когда поначалу как бы осуществляется «подготовка», а потом разнузданное перо получает возможность творить «подвиги», со мной уже случался (подобные взаимные отношения характерны для «Сказок роботов» и «Кибериады», когда первая книжечка была тренировочной практикой и сделала возможным написание второй). О сознательном применении композиционного закона «развивающейся спирали» мне трудно говорить по отношению к «Абсолютной пустоте». Скорее было так, что лишь ПОСЛЕ ее написания я заметил именно такую возможность, и уже именно с таким подходом составлял очередные камешки последующей мозаики.
Вы спрашиваете, является ли «Мн[имая] величина» насмешкой над критиками. Если бы даже можно было смотреть на нее под таким углом, это не было моим намерением, поскольку я не вижу серьезного смысла в полемике с критиками, замаскированной под беллетристику. Должен признаться, что критические голоса никогда не влияли на то, что я писал, и не думаю, чтобы так было и в случае «Мнимой величины». Я всегда просто писал то, что меня особенно интересовало в данный период жизни. Не задумывался я и об особых эстетических достоинствах этой книги; уже упоминавшийся критик особым моим коварством считал способ, которым я «Вступление ко всем вступлениям» отнес к проблеме творения (якобы творение само является «вступлением к небытию»). А мне лишь кажется, тот факт, что я вопреки содержащимся в этом вступлении торжественным заверениям (будто в книге не будет ничего, кроме «вступлений») все-таки в самом конце дал слово Голему, свидетельствует о моем участии в том, что этот Голем там говорит.
Благодарно вас приветствую,
Станислав Лем