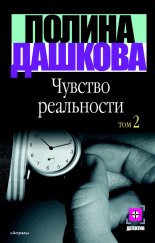Внеклассное чтение Акунин Борис
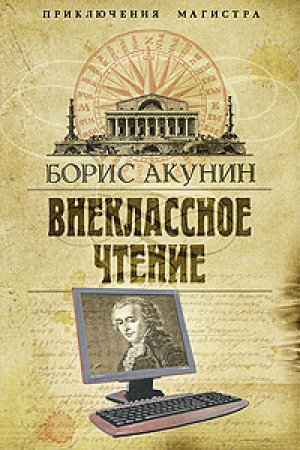
Теперь, когда Внук с супругой встали, кроме двух играющих сидеть остался только один человек удивительно некрасивой наружности. Митя еще прежде на него поглядывал, пытался вычислить, кто таков, почему держится наособицу от всех прочих, отчего лицом дергает. И без того урод-уродом: нос утицей, шишковатый лоб, плешивый череп – прямо мертвая голова какая-то. На камзоле у некрасивого человека сверкала звезда, но какого именно ордена, Митридат не знал, ибо к внешне-декорационной сфере общественного организма интереса не испытывал – глупости это, не достойные внимания разумной личности. Несмотря на орден, непохоже было, что утконосый важная персона. Сидит себе один-одинешенек, никто на него и не смотрит, а те, кто близко стоят, все поотвернулись. Должно быть, увечный, стоять не может, пожалел урода Митя, вон у него и палка в руке. Ладно, Бог с ним, с инвалидом.
За спиной у государыни встал старый старик в черном одеянии, даже парик у него, и тот был черный, как при Петре Великом носили. Из всех мужчин один только этот старик был в парике с буклями, прочие, согласно моде, накладных волос не носили, пудрили свои собственные. Как ворон меж попугаев, подумал Митя про черного, странно смотревшегося среди пышных платьев, золоченых камзолов и разноцветных фраков. Только лицо не вороновье, скорее собачье, как у английского мопса: по бокам брыли, нижняя губа налезла на верхнюю, носишко совсем никакой, а глазки быстрые, пуговками.
Перед тем, как царице сделать первый ход, мопс наклонился к ней, зашептал что-то.
– Без тебя, сударь мой, знаю, – ответила она, поморщившись, и пошла пешкой с е2 на е4. – Вы бы, Прохор Иванович, поменьше сырым луком увлекались.
Старик сконфуженно улыбнулся:
– Так ведь знаете, матушка, как в народе-то говорят: «Лук от семи недуг».
Ответа на шутку не последовало, и мопс сник, но от игроков не отошел. Митя и его тоже пожалел. Почтенный человек, сидел бы лучше дома, с внуками, чем шею тянуть, на цыпочки привставать.
Фаворит подумал-подумал и ответил правым конем на лодейное поле. Ага, будет разыгрывать карлсбадское начало. Интересно! Но на государынино выдвижение белого офицера светлейший бухнул пешкой на h5, и стало ясно: никакое это не карлсбадское начало, а просто Зуров ходит не думая, на авось. Что это за игра такая? Митя дальше и смотреть не стал.
В углу что-то стукнуло. Некоторые из придворных обернулись, увидели, что это у курносого калеки упала трость, и тут же утратили интерес к маленькому происшествию. Он, бедный, сам свою клюку (впрочем, замечательно красивую – красного дерева и с золотым набалдашником) поднять не мог, так и сидел неподвижно, только тонкой губой задергал.
Митя хотел подбежать, подать, но папенька удержал за фалду, шепнул испуганно: «Ты что, это ж Наследник!»
Ах вот кто это. Его императорское высочество, сын великой императрицы. Тоже нисколько на свои портреты не похож – на портретах-то он хоть и не красавец, но величавый, важный. Может, раньше и был такой, пока паралич не разбил. Однако что же это ему никто не поможет? Или по церемониалу не положено?
Нет, мопс в черном бесшумно попятился от высочайшего стола, подсеменил к наследнику, нагнулся, подал упавшую трость и почтительно поклонился.
Сидевший посмотрел на доброхота, как показалось, с удивлением, но не поблагодарил и даже не кивнул – наоборот, дернул головой кверху. Славный старик около инвалида не задержался, тут же вернулся на прежнее место – и вовремя. Государыня не оборачиваясь спросила:
– Что, Прохор Иванович, брать мне у князя пушку иль не брать?
– Беспременно брать, ваше величество. А чего ее брать-то? Зурову уж давно сдаваться пора.
– Царицын сын – расслабленный телом, да? – шепнул Митридат папеньке. Тот ответил тоже шепотом:
– Нет, это он от чванности. Ты за игрой следи.
Вот еще.
Митя стал вертеть головой по сторонам, исследовать, что за Малый Эрмитаж такой.
На стене большущая картина: Леда, лежащая в страстном положении с Юпитером во образе лебедя. Другой холст, немногим меньше: дева или, может, дама, в античной хламиде и златом венце, за нею чудесный дворец восточной наружности, на крыше зеленеет пышный сад. Ага, это, надо думать, изображена вавилонская царица Семирамида (правильнее Шаммурамат, поминается у великого Геродота) со своими висячими садами. Понятно.
Куда примечательней был висевший подле окна прибор – бронзовый, круглый. Ух ты, сообразил Митридат, и градусы показывает, и пульсацию атмосферы. Подойти бы, разглядеть получше, да жалко нельзя.
А больше ничего особенно любопытного в зале не было. Ну люстра хрустальная, радужная. Ну мраморные бюсты. Ну паркет с инкрустацией. От покоев, где собирается ближний круг величайшей монархини мира, можно было ожидать чего-нибудь и почудесней.
– Вот вам, Платон Александрович, и мат, – объявила Екатерина, и зрители мягко, деликатно похлопали. – Да не кручинься, душа моя, я тебя после утешу.
Наклонилась, зашептала придвинувшемуся Зурову что-то, по всему видать, веселое – сама мелко смеялась, трясла подбородками. Придворные тут же отодвинулись, а некие из них даже сделали вид, будто рассматривают люстру и лепнину потолка.
Фаворит тоже улыбнулся, но кисло. Молвил:
– Благодарю, ваше величество.
Ах, да что на них смотреть?
Больше всего Мите хотелось изучить диковинных соседей – американского дикаря и женщину с лихими, закрученными кверху усами. Он сделал два шажка назад, чтоб не в упор пялиться, и вывернул шею вправо, где переминалась с ноги на ногу удивительная усачка.
Вот уж чудо так чудо! Ведь анатомо-физиологическая наука утверждает, что особы женского пола, будучи наделены повышенной способностью к произращению волос в макушечно-теменной и затылочной частях краниума, к лицевой волосатости от природы не расположены. Подергать бы ее за ус – не приклеенный ли?
Похоже, и государыне пришло в голову то же.
Она снова, уже во второй раз, глянула на отдельно стоящих: Митридата с папенькой, индейца, мужчино-женщину и (впереди, в позе полкового командира на параде) обер-шталмейстера Льва Александровича Кукушкина, папенькиного с Митей благодетеля.
– Кого нынче привели, Лев Александрович? Чем распотешите? – спросила царица, приглядываясь. – Усы-то у нее настоящие?
Индеец, весь в перьях и стеклянных цветных шариках (вот бы потрогать!), шевельнулся. Не понимает по-нашему, догадался Митя. Думает, может, про него речь.
– Самые что ни на есть настоящие, ваше царское величество! Уж я девицу Евфимию за растительность дергал-дергал, все пальцы исколол. Намертво! – бодро, весело гаркнул Кукушкин. Ему и полагалось говорить весело – такая у Льва Александровича должность: придумывать затейства и кунштюки для увеселения ее величества.
Щелкнул усачке пальцами – приблизься, мол. И сам за ней подкатился, весь кругленький, легкий.
– Да вы, милая, точно женщина? – улыбнулась ее величество, оглядывая чудо природы.
Кукушкин приложил руку к груди:
– Лично проверял, ваше величество. Вся женская кумплектация на месте.
Придворные с готовностью захохотали – видно, ждали от Льва Александровича остроумия.
Засмеялась и императрица:
– Ой ли?
Лев Александрович поднял два пальца:
– Фима, давай.
Женщина громким шепотом спросила:
– Уже заголяться?
Присела, стала подбирать подол юбки. Хохот сделался пуще.
Ослабшая от смеха Екатерина махнула рукой:
– Ну тебя, старый греховодник. Убери свою монстру. Да сто рублей подари. Ох, распотешил…
Обер-шталмейстер поклонился, другой рукой, согнутой за спиной (Мите-то сзади хорошо видно), щелкнул – и сразу подскочили два служителя, утянули усатую Фиму прочь.
Теперь дошла очередь и до Карповых – российская Юнона, еще не доулыбавшись, повела взором с Мити на папеньку. Тот сглотнул, да и у Мити в грудной полости, где сердце, екнуло.
– А из этих кто? – спросила Екатерина. – Большой или маленький? Что они?
Папенька выступил вперед, раскланялся изящным манером, заговорил плавно, мягко, самым лучшим своим голосом:
– Вашего императорского величества покорнейший слуга, отставной конногвардейский секунд ротмистр Алексей Карпов.
И чуть помолчал. Проверяет, не вспомнит ли его государыня, догадался Митя.
Нет, не похоже, чтоб вспомнила. Даже странно – такого красивого, приятного, и не вспомнить? Хотя что ж, она ведь старая уже, шестьдесят шестой год. В преклонные лета, как известно, умственная тинктура замедляет свое обращение, образуя в мозгу узелки и спайки, нарушающие стройность памяти.
– Вот сын мой Митридат, – продолжил папенька, указав на Митю, и тот низко, по-заученному поклонился. – Посредством каждодневных многочасных экзерциций я развил в сем чудо-младенце невиданную остроту ума и ученость. Митридат перемножает и делит любые числа с резвостью непревзойденной. Столь же легко возводит числа в квадрат, извлекает корень, равно как производит и иные математические операции, еще более сложные. А еще, – здесь папенькин голос сделался совсем бархатным, – Митридат превосходнейше овладел тайнами благородной утехи монархов и мудрецов Востока. (Плавный жест в сторону шахматной доски.) И в сей игре ему нет равных, даже и среди признанных мастеров. А мальчику всего шестой годок…
Договорив приготовленную речь до конца, Алексей Воинович снова склонился, да так и застыл в благоговейном изнеможении. Митя вздохнул. Ничего не шестой, это уж папеньку занесло. Через полтора месяца сравняется семь.
– Такой крошка, а знает шахматы?
Touche! Клюнула! Государыня повернулась всем своим грузным телом, отчего нога, покоившаяся на скамеечке, соскользнула на пол.
– Ой!
Екатерина болезненно поморщилась, вскрикнула.
Из дальнего угла, расталкивая дам и кавалеров – будто фрегат, рассекающий волны, – к столу ринулся смуглый человек в расшитом позументами морском мундире.
– Сьто, матуська, нозька болит? – закричал он, смешно коверкая слова. – А вот он я, твой верный Козепуло, и волсебная водитька со мной!
Выхватил из преогромного кармана склянку с ядовито-лиловой жидкостью, бухнулся на коленки, осторожно снял туфлю и стал порхать по распухшей ступне ловкими жирными пальцами – мазать, тереть, мять, приговаривая что-то под нос на непонятном наречии.
– Влез, орех грецкий, – досадливо пробормотал обер-шталмейстер. – Все испортил!
Папенька выпрямился, в отчаянии всплеснул руками:
– Кто этот невежа?
– Контр-адмирал Козопуло, морской разбойник. Наш новейший чудотворец, нынче при государыниной больной ноге состоит. Вишь ты, снадобье у него какое-то особенное. Лучше б его, щетинную морду, турки на кол посадили!
Щеки у адмирала и в самом деле были фиолетовыми от проросшей к вечеру щетины, да и на пирата он тоже чрезвычайно походил. Митя представил грека не в военном камзоле, с пудреными волосами, а в черном платке на голове, в алой, расстегнутой на волосатой груди рубахе, с кривой саблей за поясом – вот была бы картинка! Что ему по морям не плавалось?
– А вот и англичанин, лейб-медик Круис, – ухмыльнулся Кукушкин. – Ну, сейчас будет баталия при Лепанто.
Толпа придворных снова заколыхалась – к столу проталкивался строгий господин в золотых очках. Еще издали, тоже смешно выговаривая слова, но только не мягко, как адмирал, а чересчур твердо, он закричал:
– Изволте немэдленно прекратит! Ваше велычество, вы губите свое августэйшее здоровье, доверяяс этому шарлатану! Я дэлал анализ его so-called эликсир! Это конская моча с самым дешевым матросским ромом!
И схватил сухой рукой грека за плечо, пытаясь оттащить.
– Ну да, лосядиные саки. – Адмирал двинул локтем, и лейб-медик отлетел в сторону. – И сьто? Моя бабка, старая лахудра, есе добавляла туда немнозько оветьих какасек, а я придумал лутьсе – натираю обезьянье… – И моряк употребил слово, которого, по мнению Мити, в царском дворце звучать никак не могло.
– Я ваших медицинских терминов не разумею, – засмеялась Екатерина. – А вы, Яков Федорович, на моего Костю не серчайте. Он хоть в университетах не учился, но в разных странах бывал, все повидал и руки у него мягкие. Ну а вы-то, Аделаида Ивановна, куда морду тычете? Ах, полизать хочет, мое золотце!
Митя вздрогнул и привстал на цыпочки. Слава Богу, последние слова адресовались не какой-нибудь из придворных дам, а жемчужно-серой левретке, усердно облизывавшей императрицыну щиколотку. Вон оно тут как: собаку зовут по имени-отчеству, а адмирала просто «Костей».
– А про нас с индейцем забыли, – шепнул Митя папеньке. – Выходит, Прожект не получился, да?
Тот лишь всхлипнул. Да и индеец хлопал своими глазами-маслинами невесело. Тоже и у него, дикого жителя девственных лесов, на этот день, надо полагать, имелось какое-нибудь особенное упование.
– Вы, сударь, из каких индейцев будете? – спросил Митя тихонько, сначала по-английски, потом по-французски. – Я про ирокезов читал, еще про чирокезов и алгонкинцев.
Вроде вежливо спросил, уважительно, а дикарь почему-то напугался. Отскочил от Мити, пробормотал:
– Big little man!
И еще перекрестился. Вот тебе и дикарь. Папеньку было ужас как жалко. Ведь столько ждали этого дня! Денег одних издержано – на дорогу, да на наряды, да на кормовые, да Льву Александровичу Кукушкину на подарок, чтоб приглашение на малоэрмитажный четверг устроил (хоть и старый знакомец, а тоже ведь отблагодарить надо)!
Собственно, сколько издержано денег, сосчитать было нетрудно, потому что вести счет папенька доверил сыну – сам-то с арифметикой был не очень. Стало быть, так: двадцать восемь рублей тридцать три с четвертью копейки на лошадей, восемь рублей тринадцать с половиной копеек столовых, пятьсот тридцать рублей на платье, сто пятьдесят рублей за бронзовую наяду для Льва Александровича да на четыре рубля одиннадцать копеек прочих расходов, а всего (исчисление было простейшее, и Митя даже лоб морщить не стал) 720 рублей 57 копеек да три полушки. Шутка ли?
Да разве в одних деньгах дело? Папенька своему Прожекту всю душу отдал, сколько раз маменьке во всех подробностях обсказывал, как оно все превосходно в их жизни переменится, когда матушка-императрица Митридатом восхитится и к своей особе его приблизит, а там, глядишь, вспомнит прежнюю симпатию и устремит свой солнечный взор на некоего отставного секунд-ротмистра. Ах, да куда солнцу до этого взора? Оно способно произрастить из семечки травинку, не более, а волшебный взор Екатерины может самую малую травинку вмиг обратить в прегордый баобаб. Маменька слушала эти мечтания и только пунцовела от счастья.
Три с лишком года готовил папенька Митю. Можно сказать, только Прожектом и жил с того самого мгновения, когда обнаружил, что сынок у него не такой, как прочие дети.
До того дня младшенького жалели, считали дурачком. Мите ведь уже четвертый годок шел, а он ни слова не говорил. Губками пошлепывал, шелестел что-то, а никакого членораздельного речения от него не было. Уж и увещевали, и кричать пробовали – помалкивает и только, хотя вроде не глухой, все слышит. Наконец махнули рукой, решили, что, видно, не жилец, приберет его Господь в невеликих годах, а пока пускай себе растет, как хочет.
Как Митюшу самому себе предоставили, тут у него самая интересная жизнь и началась. Больше всего он полюбил сидеть в классной комнате, где старшего брата Эндимиона мосье де Шомон и семинарист Викентий поочередно обучали наукам. Если малыша гнали, он закатывал рев и после долго икал, потому гнать перестали – пускай его сидит. Еще выяснилось, что кроха надолго затихает, если дать том из французской «La Grande Encyclopedic» (ее Алексей Воиновия некогда со столичной службы привез, получил в уплату карточного долга). Глядели взрослые на маленького дурачка – умилялись: уставится на большенную страницу, будто и впрямь читает. Если б им сказать, что Митя на четвертом году жизни и в самом деле читал французскую энциклопедию статью за статьей, том за томом, нипочем бы не поверили.
Но тут надо с самого начала рассказывать – с того самого мига, когда потомственный дворянин Звенигородского уезда Дмитрий Алексеевич Карпов начал свое знакомство с подлунным миром. Сей отпрыск старинной фамилии (в гербе – конское копыто и собачья голова на палке) явился на свет не как обычные пискуны, а в полном молчании и с широко открытыми глазами, которыми, к удивлению лекаря и повивальной бабки, принялся немедленно вращать и хлопать. Что новорожденный молчал, было, пожалуй, не столь и удивительно – очень уж оглушительны были стенания роженицы, измученной безысходными многочасовыми потугами и принужденной подвергнуться жестокой операции чревовзрезания. При отчаянном шуме, производимом несчастной, надежды быть услышанным у новопришельца было бы немного. А вот открытые, ясные глазенки, с первого же мига зажегшиеся ненасытимым любопытством, и в самом деле являли собой феномен в своем роде исключительный.
Другая интригующая особенность проявилась чуть позже, когда на голове младенца отросли волосенки – всюду каштановые, а на темечке седое пятнышко, из которого со временем произросла серебристая прядка. Однако значение этой символической меты открылось много позднее, а поначалу никто ничего такого не подумал. Мало ли что: у одного родимое пятно, у другого веснушки, а у этого на голове белая клякса.
Отец заранее приготовил для второго чада, буде родится мужского пола, превосходное имя Аполлон, однако был вынужден поступиться благозвучным прозванием в пользу обыденного Дмитрия. Так звали тестя, в денежном воспомоществовании которого у отставного конногвардейца в ту пору как раз явилась самая неотложная нужда в связи с некими карточными обстоятельствами.
Крохотный Дмитрий Алексеевич был помещен в колыбельку, построенную умельцем из родительского имения Утешительного (прежней Сопатовки) на манер корабля, и пустился на сем челне в плавание по морю жизни, поначалу тихому и мелководному.
В спаленке на потолке было изображено вращение планет вкруг Солнца. Эту-то картину Мите и суждено было лицезреть в продолжение всего первого года своего земного бытия. Напротив каждого небесного тела русскими и латинскими буквами указывалось его название, так что обжект и его письменное обозначение слились для Мити воедино много ранее, чем сопутствующее тому же предмету устное наименование. Сначала было Солнце ¤ Sol; потом, когда Митеньку первый раз вынесли в сад и показали на желтый жаркий кружок, появилось «сонце», а соединил первое и второе он уже собственным разумением, и то был самый волнующий и таинственный миг в его жизни.
Ужасно хотелось поскорей выучиться ходить, но изверги продержали спеленутым чуть не до года. Зато когда пустили ползать, Митя уже к вечеру научился переступать, держась за стенку, а назавтра ходко ковылял по всему дому, делая все новые и новые открытия.
Что не разговаривал ни с кем до трех лет, так недосуг было. Что интересного мог он услышать от окружающих? От няньки Малаши, когда укладывает в кроватку: «Баю-бай, баю-бай, заберет тебя Мамай». От маменьки, когда утром принесут к ней в спальню – показать: «Усю-сю, Митюшенька, сахарный мой душенька». От братца Эндимиоши, когда забежит в детскую спрятать в верное место, под колыбелькой, рогатку или тряпицу с уворованным у папеньки табаком: «Что, урод, все в пеленки гадишь?» (Вот и не правда. Митя с шести месяцев приучил няньку: как зацокает языком, стало быть, зов натуры. А что она, дура непонятливая, раньше не скумекала, об чем цоканье, так то не его вина.)
Главное Митино приключение той безгласной эпохи было потихоньку забраться к папеньке в кабинет, где книги, или, того лучше, к гостям – под столом сидеть. То-то наслушаешься, то-то нового узнаешь: и про войну с турками-шведами, и про якобинцев, и про московские происшествия. Но во взрослых комнатах тем более языком болтать незачем, иначе сразу подхватят на руки и уволокут назад, к Малаше, по тысячному разу слушать ерунду про Кота Котовича и Бабу Ягу.
Вот когда Митя отвоевал себе право сидеть у братца в классной комнате, тогда и началась настоящая жизнь. Каждый день открытия, пир разума! Мосье де Шомон учил по-французски и по-немецки, да из географии, да из истории, да из астрономии. Викентий – арифметике, да русской грамматике, да Божьему Закону. Жаль, уроки были всего два часа в день, и еще раздражал тупостью Эндимион, сколько времени из-за него попусту пропадало! Про себя Митя называл старшего брата Эмбрионом, ибо по развитию мыслительной функции сей скудоумец недалеко продвинулся от человечьего зародыша.
Вечером, когда дом засыпал (а ложились в Утешительном рано: летом в десятом часу, зимой в восьмом), наступало самое главное время.
Тихонько, на цыпочках, мимо храпящей на сундуке няньки, в коридор; там легкой мышкой на лестницу – и в верхнее жилье, по-французски belle-etage, где кабинет. Под столом заранее спрятаны свеча и тяжелый, не поднимешь, том «Великой энциклопедии». Часов до пяти существуешь по-царски, общаясь с особами, равными тебе разумом, – перед одним благоговейно склонишь голову, с иным, бывало, и заспоришь. В шестом часу назад, спать. Это ведь уму непостижимо, что человеки треть своей жизни, и без того недлинной, на подушке проводят! Зачем столько? Трех часов для телесного отдыха и освежения ума куда как довольно.
Еще и посейчас Митя, бывало, сомневался, не зря ли он в тот осенний день разомкнул уста. Минутный порыв, понуждение чувствительного сердца положили конец тихим радостям безмолвного уединения. Очень уж жалостно было смотреть, как убивается в гипохондрии папенька, который только что вернулся из Петербурга, куда ездил, обнадеженный смертью Киклопа, да несолоно вернулся. День за днем, прямо с утра и до вечера, Алексей Воинович горько плакал, воздымал к небу руки и проклинал жестокую судьбу, обрекшую его прозябать в подмосковном ничтожестве, на две тысячи восемьсот рублей годового дохода, безутешным родителем двух выродков – никчемного балбеса и бессловесного дурачка.
В доме было тихо. Маменька терзалась головными ваперами, братец спрятался на чердаке, чтоб не высекли, дворовые тоже позатаились. И тогда Митя принял великодушное решение: пускай папеньке хоть в чем-то будет облегчение. Пускай утешится по поводу младшего отпрыска, который никакой не дурачок и слова произносить, если пожелает, очень даже умеет.
Сначала, для практикума, попробовал говорить вслух сам с собой. Раньше, конечно, тоже иногда разговаривал в монологическом регистре, но беззвучно, одними губами, а тут обнаружилось, что голос за мыслью никак не поспевает. (Эта скороговорливость и потом осталась, так что не всякий ее и понять мог, особенно если Митя увлечется какой-нибудь интересной мыслью.) Тут еще следовало учесть папенькину бурливость чувств. Произнесенная фраза должна была быть короткой и завершиться прежде, чем Алексей Воинович начнет бурно восклицать и тем испортит всю эффектность. Самое простое – войти и поздороваться, но не по-русски (эка невидаль для трехлетка), а на иностранном языке. И коротко, и впечатлительно.
Вошел в столовую, где у окна рыдал папенька, рассыпав незавитые и даже нечесаные локоны по подоконнику. Сказал, стараясь выговаривать французские звукосочетания в точности как мосье де Шомон: «Bon matin, papa[1]».
Папенька обернулся. То ли не расслышал, то ли решил, что почудилось. Страдальчески поморщился, простонал: «Поди, поди, дитя неразумное!» И рукой на дверь показал, а сам зарыдал еще пуще – вот как от Митиного вида расстроился.
Тогда Митя ему про разумность и неразумие процитировал из Паскалевых «Pensees» (как раз накануне ночью книгу прочел и многие максимы слово в слово запомнил – до того хороши): «Deux exces: exclure la raison, n'admettre que la raison».[2]
Вышло еще эффектнее, чем хотел. Недооценил Митя папенькиной чувствительности – Алексей Воинович, прослушав максиму, закатил глаза и пал в обморок. А когда очнулся, увидел над собой оконфуженное лицо меньшого сына, бормотавшего по-русски, по-французски и по-немецки слова утешения, то воздел руки к небу и возблагодарил Провидение за явленное чудо.
Потом папенька долго ахал и дивился, узнавая, что малыш может и по-латыни читать, и в разных науках сведущ изрядно. Но более всего родителя поразили Митина памятливость и сноровка в арифметических исчислениях. Ну, запоминать интересное – невелико чудо, хоть бы даже и целыми страницами – это он папеньке легко объяснил, а вот про цветные цифры растолковать затруднился, ибо и сам не очень понимал, как в мозгу свершается арифмометрическая механика.
Тут было так: единица – она белая, двойка малиновая, тройка синяя, четверка желтая, пятерка коричневая, шестерка серая, семерка алая, восьмерка зеленая, девятка лиловая, ноль черный. Кто этого не видит, без толку и объяснять, что, когда берешь, к примеру, число 387, оно навроде трехцветного леденца – сине-зелено-алое. Перемножаешь его с числом 129, бело-малиново-лиловым, все цифры вмиг переплетаются в толстую многоцветную косичку, колоры перетекают из одного в другой, и дальше просто: называй образовавшиеся части спектра подряд, вот и выйдет искомое 49 923. Тож и при делении.
Папенька послушал-послушал невнятные разъяснения и вдруг наподобие Архимедеса Сиракузского как закричит: «Эврика!» Подхватил Митеньку на руки и побежал на маменькину половину. Там пал на колени и стал целовать маменьку в живот, прямо через платье. «Что вы делаете, Алексис?» – вскричала та испуганно.
– Лобзаю благословенное ваше чрево, произведшее на свет Геракла учености, а вместе с тем проложившее нам дорогу к Эдему! Воззрите, любезная Аглая Дмитриевна, на сей плод чресел наших!
В тот миг и родился Прожект.
Во времена папенькиного детства много говорили о маленьком музыканте Моцарте, которого отец возил по Европе, показывал монархам и получал за то немалые награды и почести. Чем Дмитрий Карпов хуже немецкого натурвундера? В музыке несведущ? Да кому она у нас в России нужна, сия глупая забава. Свет-государыня хоть оперы с симфониями слушает, но больше для назидательности и привития придворным изящного вкуса, а сама, рассказывают, иной раз и засыпает прямо в ложе. Не нужно никакой музыки! В столице все только и говорили, что о новом увлечении ее величества, шахматной забаве. Многие кинулись изучать умственную игру. Папенька тоже купил доску с фигурами, выучился головоломным правилам – ну как пригодится? Увы, не пригодилось. У царицы и без Алексея Карпова было с кем повоевать в шахматы.
А если предъявить ее величеству небывалого партнера – премаленького мальчишечку, от горшка два вершка? Это будет кунштюк получше Моцарта!
Бледнея от страха разочароваться, звенигородский помещик перечислил своему удивительному отпрыску правила благородной игры, и, разумеется, свершилось чудо, а вернее, никакого чуда не произошло, ибо шахматные премудрости показались поднаторевшему в цветных исчислениях Мите сущей безделицей. В первой же партии трехлеток одержал над отцом решительную викторию, а вскоре обыгрывал всех подряд, давая в авантаж королеву и в придачу пушку.
Отныне в жизни карповского семейства и прежде всего самого младшего его члена все переменилось. Гераклу учености наняли полдюжины преподавателей для постижения всех известных человеческому роду наук, и успехи юного Митридата (так теперь именовали бывшего Митюшу) превосходили самые смелые чаяния счастливого родителя. Раз в месяц нарочно ездили в Москву покупать новые книги – какие только Митя пожелает. Крестьянам и в Утешительном, и в дальней деревне Карповке для того назначили специальную подать, книжную: по полтине в год с ревизской души, либо по две курицы, либо по три фунта меда, либо по мешку сушеных грибов, это уж как староста решит.
Митя в доме стал самый главный человек. Если сидит в классной комнате, все говорят шепотом; если читает книгу, опять же все ходят на цыпочках и разувшись. А поскольку новоявленный Митридат все время либо учился, либо читал, стало в господском доме тихо, шепотно, будто на похоронах.
Нянька Малаша теперь тиранствовать над мальчиком не могла. Не хочет спать – не укладывала, не хочет каши – насильно не пичкала. Очень за это убивалась, жалела. Однажды, когда Митя при всех домашних блестяще сдавал экзамен по немецкому, стрекоча на сем наречии много быстрей учителя, нянька молвила, пригорюнясь: «Ишь как жить-то поспешает. Видно недолго заживется, сердешный». Папенька услыхал и велел выпороть дуру, чтоб не каркала.
Конечно, в новой Митиной жизни не все были розы, хватало и терниев. К примеру, очень докучал братец – завидовал, что «малька» теперь одевали по-взрослому, в кюлоты с чулками, в сюртучки и камзолы. То ущипнет исподтишка, то уши накрутит, то в башмак лягушонка подложит. Пользовался, мучитель, что Митя придерживался стоической философии и брезговал доносительством. Да что с неразумного взять? Одно слово – Эмбрион.
Через год Митридат был готов. Хоть сажай в карету и вези прямо к государыне или даже в Академию де сиянс – лицом в грязь не ударит. Дело медлилось за малым – подходящей оказией. Как чудесного отрока государыне предъявить и заодно себя показать? (Маменьку по понятной причине брать с собой ко двору не предполагалось.)
Оказии ждали еще два года, пока в Москву не пожаловал благодетель Лев Александрович. За это время Митя «Великую энциклопедию» всю превзошел и увлекся интегральными исчислениями, что на папенькин взгляд уж и лишнее было. Алексею Воиновичу ожидание давалось тяжело, как отцу девицы-красы, у которой никак не составится достойная партия, а девка тем временем перезревает, застаивается. Одно дело четырехлетний шахматист и совсем другое – почти семилетний.
А Митя ничего, не томился. Жить бы так и дальше, с книгами да уроками. Папеньку вот только было жалко.
* * *
Сколько трудов и надежд положено, сколько преград одолено, а она и смотреть не желает! За папенькин жалкий вид, за изнурительно тесный камзол, за чешущуюся под насаленными волосами голову (а ногтями поскрести ни-ни, про это строжайше предупреждено)
Митя разозлился на толстую старуху, брови насупил. Если б глаза могли источать тепло, подобно тому как солнце ниспосылает свои лучи, прямо подпалил бы неблагодарную, поджег ей взбитую пудреную куафюру!
Тепло не тепло, но некую субстанцию Митин взгляд, похоже, излучил, потому что императрица, еще не отсмеявшись над препирательством грека с англичанином, вдруг повернула голову и взглянула на маленького человека в лазоревом конногвардейском мундирчике в третий раз. Тут-то Митя и отплатил ей, привереде, разом за все: скорчил обидную рожу и высунул язык. На-ка вот, полюбуйся!
Глаза Семирамиды изумленно расширились – видно, во дворце никто ей языка не показывал.
– Сколько лет, говорите, вашему крошке? – спросила она у папеньки.
– Шесть, ваше императорское величество! – вскричал окрыленный Алексей Воинович. – У меня и приходская книга с собой прихвачена, можете удостовериться!
Розовый палец поманил Митю.
– Ну, скажи мне…
Хотела вспомнить имя, но не вспомнила. Папенька сладчайше выдохнул: «Митридат».
– Скажи мне, Митридат…
Не сразу придумала, что спросить. По ласковой улыбке видно было, что хочет задать вопрос полегче.
– Какой нынче у нас год?
– По какому летоисчислению? – быстро спросил Митя, подбираясь к старухе поближе (от нее пахло лавандой, пудрой и чем-то пряным, вроде муската). Не дожидаясь ответа, зачастил. – От сотворения мира по греческим хронографам – год 7303-ий, по римским хронографам – 5744-ый, от Ноева потопа по греческим хронографам – 5061-ый, по римским – 4088-ой, от Рождества Христова 1795-ый, от Егиры сиречь бегства Магометова 1173-ий, от начатия Москвы – 648-ой, от изобретения пороху – 453-ий, от сыскания Америки 303-ий, а от воцарения государыни Екатерины Второй – 33-ий.
Царица руками всплеснула, и все вокруг сразу зашушукались, языками зацокали. Ну а дальше все как по маслу пошло.
Митя немножко поумножал трехзначные числа (Фаворит самолично пересчитал столбиком на салфетке – сошлось); потом извлек квадратный корень из 79 566 (проверить смог только Внук, да и то с третьего раза, все сбивался); назвал все российские наместничества, а про какие особо спросили – даже с уездными городами. Дальше так: обыграл в шахматы обер-шталмейстера Кукушкина (четырех ходов хватило) и черного старика, оказавшегося тайным советником Масловым, начальником Секретной экспедиции (этот играл изрядно, но где ж ему против Митридата?), а напоследок сразился с самой государыней. Тут немножко увлекся, забыл, что папенька учил ее величеству поддаться, и разгромил белую рать в пух и прах. Но Екатерина ничего, не обиделась, а даже облобызала Митю в обе щеки. Назвала «милончиком» и «умничкой».
Еще продекламировал державинскую «Фелицу», стихи глупые, но приятно-трескучие, в завершение же триумфального действа с низким поклоном произнес:
– Льщусь надеждою, что сими скромными ухищрениями сумел отвлечь великую государыню от бремени державных забот. Почту за высшее счастие, если ваше императорское величество и ваши императорские высочества, равно как и ваша светлость (это Фавориту – папенька велел про него ни в коем случае не забыть), в награду за мое доброе намерение ответят на мой поклон прощальными рукоплесканьями.
Глава третья
Смерть Ивана Ильича
Вежливо попрощавшись с лысым братом фандоринской секретарши (тот выщипывал пинцетом фиолетовую, как у сестры, бровь и на уходящего даже не взглянул), Собкор покинул офис 13-а в глубокой задумчивости.
Потыкал пальцем в кнопку вызова лифта и нескоро сообразил, что кабина приезжать не собирается. За время, которое Собкор провел в «Стране советов», скрипучий элеватор успел выйти из строя. Такой уж, видно, нынче выдался день, топать пешком по ступенькам – то вверх, то вниз.
Ладно, спуститься с пятого этажа – дело небольшое, ноги не отвалятся.
Собкор двигался навстречу окну и жмурился – сквозь пыльные стекла светило солнце, погода для ноября стояла удивительно ясная и теплая.
Семь раз отмерь, один раз отрежь, бормотал он себе под нос. Урок, хороший урок на будущее. А то мы все сплеча да наотмашь. Вот ведь по всем признакам гад и брехун, а поближе посмотреть да в глаза заглянуть – живой человек. Если тебе оказано такое доверие, если тебе дана такая власть, ответственней нужно, без формализма. А то ведь там долго разбираться не станут, раз-два и готово. Еще и дети невинные пострадают, как тогда, в «мерседесе». В Содоме и Гоморре тоже, надо думать, были малые дети, которые во взрослых безобразиях не участвовали, а ведь и на них тоже пролил Господь серу и огонь – заодно, до кучи. А кто виноват? Не Бог – Лот. Это он, Божий уполномоченный, должен был подумать о детях и напомнить руководству. Тоже ведь был, можно сказать, собкором. Должность нешуточная. Вот в редакции, перед тем как первый раз в долгосрочку послать, сколько человека проверяли, перепроверяли, инструктировали. Чтоб понимал: собственный корреспондент – глаза и уши газеты, да не абы какой, а самой главной газеты самой главной страны. И то была всего лишь газета, а тут инстанция куда более возвышенная.
Нельзя заноситься, нельзя отрываться от людей, строго сказал себе Собкор. Приговор отменить, это первым делом. Пускай себе живет, раз непропащий человек.
На площадке четвертого этажа расположилась компания бомжей. Двое сидели на подоконнике (на газетном листе бутыль бормотухи, вареные яйца, полуобгрызенный батон), третий уже сомлел – лежал прямо поперек лестницы, раскинув ноги. Глаза закрыты, изо рта свисает нитка слюны, к небритой щетине пристала яичная скорлупа.
Какой он к черту буржуй, подумал Собкор про магистра-президента. Офис без евроремонта, лифт не работает, в подъезде вон бомжи киряют.
– Да здравствуют демократические реформы? – сказал он вслух и подмигнул бедолагам. – Так что ли, мужики?
Лежачий на его слова никак не откликнулся. Один из сидящих, с рыжеватыми волосами и, если помыть, еще совсем молодой, сказал с набитым ртом:
– Чего ты, чего. Сейчас докушаем и пойдем. Кому мы мешаем?
Другой просто шмыгнул распухшим утиным носом, подвинул батон к себе поближе.
Эх, несчастные люмпены. Щепки, отлетевшие от топоров рыночных лесорубов.
– Да мне-то что. Хоть живите тут, – махнул рукой Собкор.
Надо бы порасспросит, как до такой жизни дошли. Наверняка на пути каждого из них встретился какой-нибудь гнилостный гад – обманул, выгнал из дому, лишил работы, подтолкнул оступившегося.
Собкор замер в нерешительности – вступать в беседу, не вступать. Мужики смотрели на него с явной тревогой. Не будут откровенничать, им бы сейчас выпить да закусить.
Ну, пускай расслабляются.
Прошел мимо сидящих. Через спящего алкаша пришлось переступать – очень уж привольно расположился.
В тот самый миг, когда Собкор уже поставил одну ногу на ступеньку, расположенную ниже лежащего, а вторую еще не оторвал от площадки, клошар вдруг открыл ясные, совершенно трезвые глаза и со всей силы ударил Собкора грубым армейским ботинком в пах.
Ослепший от боли Собкор не успел и вскрикнуть. Рыжий и курносый вмиг слетели с подоконника, заломили ему локти за спину, причем оказалось, что оба бродяги почему-то в прозрачных резиновых перчатках, а тот, что притворялся спящим, задрал Собкору брючину и ткнул в голую лодыжку черной трубкой с двумя иголками.
Раздался треск электрического разряда, пахнуло паленым, и в следующую секунду (впрочем, следующей она была только для выпавшего из режима реального времени Собкора) перед его глазами оказался дощатый потолок, с которого свисали лохмотья паутины и клочья отслоившейся краски.
Потолок был наклонный, в углу смыкавшийся с полом. А когда Собкор повернул голову, то увидел сияющий квадрат окна с треснувшим стеклом, услышал откуда-то снизу завывание автомобильной сигнализации и подумал: я нахожусь на чердаке большого дома. Окошко выходит во двор, не на улицу – иначе был бы слышен шум движения.
Дул сквозняк, а холодно не было. Крышу солнцем нагрело, что ли.
Собкор посмотрел в другую сторону. Увидел сверху и чуть сбоку, совсем близко, небритую рожу Яичного. Скорлупы на щеке у него уже не было, но мысленно Собкор назвал разбойника именно так. В руке Яичный держал большой ком ваты, источавший резкий и неприятный запах. Нашатырь. Очевидно, только что отнял от лица пленника. Рыжий и Курносый стояли чуть поодаль.
«Идиоты, нашли кого грабить», хотел сказать им Собкор, но вместо этого только замычал – губы не пожелали размыкаться.
Оказывается, они были залеплены пластырем, а он сразу и не заметил.
К жертве грабителей понемногу возвращалось сознание, и открытия следовали одно за другим. Руки-то скованы за спиной наручниками. А ноги стянуты ремнем. Судя по тому, что сползли брюки, его же собственным.
– С возвращением, – сказал Яичный, оттянув пленнику веко. – Зрачок нормальный, контакт с действительностью восстановлен. Приступаем к прениям. Извольте обратить свой просвещенный взор вот сюда.
Собкор скосил глаза и увидел зажатый в пальцах бандита шприц.
– Тут, коллега, едкий раствор. Игла вводится в нервный узел. Интенсивность и продолжительность болевого синдрома зависят от дозы.
«Интенсивность, синдром», ишь ты, прямо профессор, подумал Собкор.
Яичный дернул его за руку, чуть не вывернув плечевой сустав, и аккуратным, точным движением, прямо через пиджак и рубашку, ткнул иглой в локоть.
Гхххххххх, подавился невыплеснувшимся воплем Собкор и секунд десять корчился, стукаясь затылком и каблуками об пол.
Подождав, пока конвульсии утихнут, Яичный продолжил:
– Это была минимальная доза. В порядке дегустации. Для экономии времени и сил. Моего времени и ваших сил. И чтобы вы поняли: мы не дилетанты, а профессионалы. Вы сами-то профессионал или как?
Собкор вопроса не понял, однако кивнул.
– Ну, значит, умеете оценивать ситуацию. Раунд проигран, информацию из вас мы все равно добудем. Вы знаете, что технические средства это гарантируют, вопрос лишь во времени. Так что, поговорим?
Собкор снова кивнул.
– Ну вот и золотце, – усмехнулся Яичный. – Значит, так. Официальную биографию можете не рассказывать, ее мы знаем. Лучше поведайте нам, уважаемый Иван Ильич Шибякин 1948 года рождения, как складывалась та линия вашей судьбы, что сокрыта от невооруженного глаза. Я спрашиваю, вы отвечаете. Четко, полно, честно. Я обучен определять дезинформационные импульсы по микросокращениям зрачка. Чуть что – получите дозу. Итак. Вопрос номер один. В какой структуре проходили спецобучение? ГРУ?
Собкор кивнул и в третий раз.
– Отлично. Я чувствую, мы поладим, – Яичный потянул за пластырь. – Вопрос номер два. Сколько вас?
Едва рот освободился от липкого плена, Собкор, не теряя ни мгновения, вцепился допросителю зубами в палец. Вгрызся, что было сил. На языке засолонело. Хотел вовсе откусить, но Яичный, выматерившись, ткнул Собкора указательным пальцем другой руки куда-то под скулу, и от этого лицо вдруг одеревенело, челюсти разжались сами собой.
Укушенный налепил пластырь обратно, затряс окровавленной рукой.
Протягивая ему платок, Рыжий сказал:
– Она же предупреждала: вряд ли профи, скорее идейный. Такого на два прихлопа не расколешь. Чего ты вздумал в гестапо играть? Сказано, в Мухановку, значит, в Мухановку. Все выслужиться хочешь, в дамки лезешь?
Яичный скрутил платок жгутом, перетянул раненый палец.
– Нам тут так на так до ночи сидеть, – зло процедил он. – Не тащить же его через двор среди бела дня? Время – субстанция конечная, его беречь надо. Опять же не впустую париться, а дело сделать. Ничего, я всяких колол. И идейных тоже. Пытка – не попытка. Да, товарищ?
Это он уже обратился к Собкору – наклонился к самому лицу пленника, подмигнул, а у самого глаза бешеные. Разозлился, значит, из-за пальца-то.
Собкор говорить не мог, а потому тоже подмигнул. Мысль у него сейчас была одна: пробил час испытания. Нисколечко не боялся. Даже обрадовался, потому что знал – выдержит.
Рыжий сказал:
– Охота тебе. В Мухановке вколем дозу – скворушкой запоет. Все расскажет: и сколько, и кто, и где.
А третий, которого Собкор окрестил Курносым, помалкивал, держал руки в карманах. Слова Рыжего взволновали пленника. А ну как в самом деле накачают наркотиками? Не выболтать бы, о чем не положено знать никому и никогда.
– Охота, – отрезал Яичный. – Я эту гадюку кусачую сейчас без химии поучу уму-разуму, по-афгански.
Он нагнулся, взялся одной рукой за ремень, которым были стянуты щиколотки Собкора, и рванул, намереваясь выволочь узника на середину чердака.
Рывок был такой мощи, что старый, в нескольких местах перетертый ремень лопнул. Яичный едва удержался на ногах, Собкор же проворно встал на колени, потом на корточки, увернулся от рук Курносого и, не тратя времени на то, чтобы распрямиться, метнулся к окошку. Вышиб головой прогнившую раму, кубарем прокатился по теплой, сверкающей бликами крыше и ухнул вниз, в густую тень.
Об асфальт он ударился спиной. Боли и звуков не было, но зрение и обоняние Собкора покинули не сразу. Он судорожно вдохнул запахи двора: сырость, бензин и карбид. В голубом прямоугольнике зажатого меж корпусами неба светило солнце.
Внезапно, очень явственно и отчетливо он увидел себя, молодого, четверть века назад. Рядом стояла жена. Они только что приехали на Остров Свободы, в первую загранку, вышли на балкон и смотрели на океан, на залитую солнцем Гавану. «…Семьсот сертификатов будем тратить на жизнь, а по пятьсот пятьдесят будем откладывать, да, Вань? Накопим, Вань, и купим двухкомнатную на Ленинском или на Академической», – щебетала Люба счастливым голосом. Собкор слушал и улыбался, а вокруг было столько света, сколько никогда не бывает в северных широтах.
Вдруг солнце начало стремительно меркнуть, небо потемнело, а облака сделались похожи на черные дыры. Это конец света, удовлетворенно подумал Иван Ильич. Допрыгались, гады? Ну, теперь вы за все ответите.
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.
Глава четвертая
Амур и Псишея