Азазель Акунин Борис
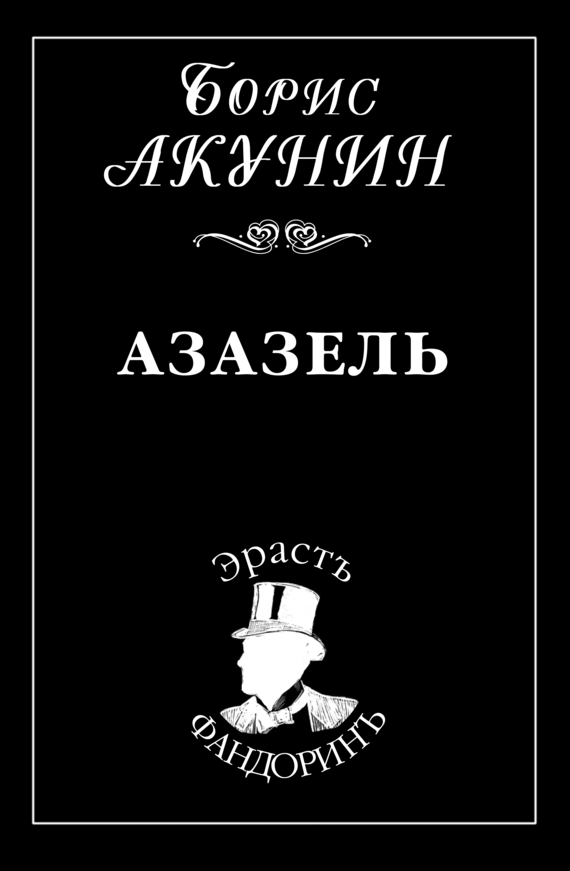
Глава первая,
в которой описывается некая циничная выходка
В понедельник 13 мая 1876 года в третьем часу пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в Александровском саду, на глазах у многочисленных свидетелей, случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие.
По аллеям, среди цветущих кустов сирени и пылающих алыми тюльпанами клумб прогуливалась нарядная публика — дамы под кружевными (чтоб избежать веснушек) зонтиками, бонны с детьми в матросских костюмчиках, скучающего вида молодые люди в модных шевиотовых сюртуках либо в коротких на английский манер пиджаках. Ничто не предвещало неприятностей, в воздухе, наполненном ароматами зрелой, уверенной весны, разливались ленивое довольство и отрадная скука. Солнце припекало не на шутку, и скамейки, что оказались в тени, все были заняты.
На одной из них, расположенной неподалеку от Грота и обращенной к решетке, за которой начиналась Неглинная улица и виднелась желтая стена Манежа{1}, сидели две дамы. Одна, совсем юная (пожалуй, что и не дама вовсе, а барышня) читала книжку в сафьяновом переплете, то и дело с рассеянным любопытством поглядывая по сторонам. Вторая, гораздо старше, в добротном темно-синем шерстяном платье и практичных ботиках на шнуровке, сосредоточенно вязала нечто ядовито-розовое, мерно перебирая спицами. При этом она успевала вертеть головой то вправо, то влево, и ее быстрый взгляд был до того цепким, что, верно, от него никак не могло ускользнуть что-нибудь хоть сколько-то примечательное.
На молодого человека в узких клетчатых панталонах, сюртуке, небрежно расстегнутом над белым жилетом, и круглой швейцарской шляпе дама обратила внимание сразу — уж больно странно шел он по аллее: то остановится, высматривая кого-то среди гуляющих, то порывисто сделает несколько шагов, то снова застынет. Внезапно неуравновешенный субъект взглянул на наших дам и, словно приняв некое решение, направился к ним широкими шагами. Остановился перед скамейкой и, обращаясь к юной барышне, воскликнул шутовским фальцетом:
— Сударыня! Говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны?
Барышня, которая и в самом деле была чудо как хороша, уставилась на наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки. Даже ее зрелая спутница, и та опешила от столь неслыханной развязности.
— Я сражен с первого взгляда! — фиглярствовал неизвестный, вполне, впрочем, презентабельной наружности молодой человек (модно подстриженные виски, высокий бледный лоб, возбужденно горящие карие глаза). — Позвольте же запечатлеть на вашем невинном челе еще более невинный, совершенно братский поцелуй!
— Зударь, да вы зовсем пьяный! — опомнилась дама с вязанием, причем оказалось, что говорит она с характерным немецким акцентом.
— Я пьян исключительно от любви, — уверил ее наглец и тем же неестественным, с подвыванием голосом потребовал. — Один-единственный поцелуй, иначе я немедленно наложу на себя руки!
Барышня вжалась в спинку скамейки, обернув личико к своей защитнице. Та же, невзирая на всю тревожность ситуации, проявила полное присутствие духа:
— Немедленно убирайтесь фон! Вы зумасшедший! — повысила она голос и выставила вперед вязанье с воинственно торчащими спицами. — Я зову городовой!
И тут случилось нечто уж совершенно дикое.
— Ах так! Меня отвергают! — с фальшивым отчаянием возопил молодой человек, картинно прикрыл рукою глаза и внезапно извлек из внутреннего кармана маленький, посверкивающий черной сталью револьвер. — Так стоит ли после этого жить? Одно ваше слово, и я живу! Одно ваше слово, и я падаю мертвым! — воззвал он к барышне, которая и сама сидела ни жива, ни мертва. — Вы молчите? Так прощайте же!
Вид размахивающего оружием господина не мог не привлечь внимания гуляющих. Несколько человек из числа тех, что оказались неподалеку, — полная дама с веером в руке, важный господин с анненским крестом на шее, две институтки в одинаковых коричневых платьицах с пелеринами — замерли на месте, и даже по ту сторону ограды, уже на тротуаре, остановился какой-то студент. Одним словом, можно было надеяться, что безобразной сцене будет немедленно положен конец.
Но дальнейшее произошло так быстро, что вмешаться никто не успел.
— Наудачу! — крикнул пьяный (а может, и сумасшедший), зачем-то поднял руку с револьвером высоко над головой, крутанул барабан и приложил дуло к виску.
— Клоун! Пшют гороховый! — прошипела храбрая немка, обнаруживая неплохое знание разговорной русской речи.
Лицо молодого человека, и без того бледное, стало сереть и зеленеть, он прикусил нижнюю губу и зажмурился. Барышня на всякий случай тоже закрыла глаза.
И правильно сделала — это избавило ее от кошмарного зрелища: в миг, когда грянул выстрел, голова самоубийцы резко дернулась в сторону, и из сквозного отверстия, чуть повыше левого уха, выметнулся красно-белый фонтанчик.
Началось нечто неописуемое. Немка возмущенно поозиралась, словно призывая всех в свидетели такого неслыханного безобразия, а потом истошно заверещала, присоединив свой голос к визгу институток и полной дамы, которые издавали пронзительные крики уже в течение нескольких секунд. Барышня лежала без чувств — на мгновение приоткрыла-таки глаза и немедленно обмякла. Отовсюду сбегались люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура, наоборот бросился прочь, через мостовую, в сторону Моховой.
* * *
Ксаверий Феофилактович Грушин, следственный пристав Сыскного управления при московском обер-полицеймейстере, облегченно вздохнул и отложил влево, в стопку «просмотрено», сводку важных преступлений за вчерашний день. Ни в одной из двадцати четырех полицейских частей шестисоттысячного города за минувшие сутки, то есть мая месяца 13 дня, не стряслось ничего примечательного, что потребовало бы вмешательства Сыскного. Одно убийство вследствие пьяной драки между мастеровыми (убийца задержан на месте), два ограбления извозчиков (этим пускай участки занимаются), пропажа семи тысяч восьмисот пятидесяти трех рублей сорока семи копеек из кассы Русско-Азиатского банка (это и вовсе по части Антона Семеновича из отдела коммерческих злоупотреблений). Слава Богу, перестали слать в управление всякую мелочь про карманные кражи, повесившихся горничных да подброшенных младенцев — для того теперь есть «Полицейская сводка городских происшествий», которую рассылают по отделам во второй половине дня.
Ксаверий Феофилактович уютно зевнул и взглянул поверх черепахового пенсне на письмоводителя, чиновника 14 класса Эраста Петровича Фандорина, в третий раз переписывавшего недельный отчет для господина обер-полицеймейстера. Ничего, подумал Грушин, пусть с младых ногтей приучается к аккуратности, сам потом спасибо скажет. Ишь, моду взяли — стальным пером калякать, и это высокому-то начальству. Нет, голубчик, ты уж не спеша, по старинке, гусиным перышком, со всеми росчерками и крендельками. Его превосходительство сами при императоре Николае Павловиче взрастали, порядок и чинопочитание понимают.
Ксаверий Феофилактович искренне желал мальчишке добра, по-отечески жалел его. И то сказать, жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводителем. Девятнадцати лет от роду остался круглым сиротой — матери сызмальства не знал, а отец, горячая голова, пустил состояние на пустые прожекты, да и приказал долго жить. В железнодорожную лихорадку разбогател, в банковскую лихорадку разорился. Как начали в прошлый год коммерческие банки лопаться один за другим, так многие достойные люди по миру пошли. Надежнейшие процентные бумаги превратились в мусор, в ничто. Вот и господин Фандорин, отставной поручик, в одночасье преставившийся от удара, ничего кроме векселей единственному сыну не оставил. Мальчику бы гимназию закончить, да в университет, а вместо этого — изволь из родных стен на улицу, зарабатывай кусок хлеба. Ксаверий Феофилактович жалеюще крякнул. Экзамен-то на коллежского регистратора сирота сдал, дело для такого воспитанного юноши нехитрое, да зачем его в полицию занесло? Служил бы себе по статистике или хоть по судебной части. Все романтика в голове, все таинственных Кардудалей ловить мечтаем. А у нас, голубчик, Кардудалей не водится (Ксаверий Феофилактович неодобрительно покачал головой), у нас все больше штаны просиживать да протоколы писать про то, как мещанин Голопузов спьяну законную супругу и троих малых деток топором уходил.
Третью неделю служил в Сыскном юный господин Фандорин, а уж твердо знал Ксаверий Феофилактович, бывалый сыщик, тертый калач, что не будет из мальчишки проку. Больно нежен, больно тонкого воспитания. Взял его раз, в первую же неделю Грушин на место преступления (это когда купчиху Крупнову зарезали), так Фандорин взглянул на убиенную, позеленел весь и по стеночке, по стеночке во двор. Видок у купчихи, и вправду был неаппетитный — горло от уха до уха раздрызгано, язык вывалился, глаза выпучены, ну и кровищи, само собой, море разливанное. В общем, пришлось Ксаверию Феофилактовичу самому и дознание проводить, и протокол писать. Дело, по правде сказать, вышло нехитрое. У дворника Кузыкина так глазки бегали, что Ксаверий Феофилактович сразу велел городовому брать его за шиворот и в кутузку. Две недели сидит Кузыкин, отпирается, но это ничего, повинится, больше-то резать купчиху было некому — здесь у пристава за тридцать лет службы нюх выработался верный. Ну а Фандорин и в канцелярии сгодится. Исполнителен, пишет грамотно, языки знает, смышленый, да и в обращении приятный, не то что горький пьяница Трофимов, в прошлом месяце переведенный из письмоводителей в младшие помощники околоточного на Хитровку. Пускай там спивается, да начальству грубит.
Грушин сердито забарабанил пальцами по обитому скучным казенным сукном столу, достал из жилетного кармашка часы (ох, до обеда еще долгонько) и решительно придвинул к себе свежий номер «Московских ведомостей».
— Ну-с, чем нас удивят нынче, — промолвил он вслух, и юный письмоводитель с готовностью отложил постылое гусиное перо, зная, что начальник сейчас станет зачитывать заголовки и всякую всячину, сопровождая чтение своими комментариями — была у Ксаверия Феофилактовича такая привычка.
— Поглядите только, Эраст Петрович, на первой же странице, на самом видном месте!
«Новейший американский корсет „Лорд Байрон“
из прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. Талия в дюйм, плечи в сажень!»
— А буквы-то, буквы — аршинные. И ниже, меленько так, «Государь отбывает в Эмс».
— Конечно, подумаешь — государь, велика ли фигура, то ли дело «Лорд Байрон»!
Ворчание добрейшего Ксаверия Феофилактовича произвело на письмоводителя удивительное действие. Он отчего-то смешался, щеки залились краской, а длинные девичьи ресницы виновато дрогнули. Раз уж речь зашла о ресницах, уместно будет описать внешность Эраста Петровича поподробнее, ибо ему суждено сыграть ключевую роль в поразительных и страшных событиях, которые вскоре воспоследовали. Это был весьма миловидный юноша, с черными волосами (которыми он втайне гордился) и голубыми (увы, лучше бы тоже черными) глазами, довольно высокого роста, с белой кожей и проклятым, неистребимым румянцем на щеках. Откроем уж заодно и причину, по которой так смутился коллежский регистратор. Дело в том, что позавчера он потратил треть своего первого месячного жалования на столь завидно расписываемый корсет, ходил в «Лорде Байроне» второй день, терпя изрядные муки во имя красоты, и теперь заподозрил (абсолютно безосновательно), что проницательный Ксаверий Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки своего подчиненного и желает над ним посмеяться.
А пристав уже читал дальше:
«Зверства турецких башибузуков в Болгарии»
— Ну, это не для предобеденного чтения…
«Взрыв на Лиговке
Наш С.-Петербургский корреспондент сообщает, что вчера в 6.30 утра, на Знаменской улице в доходном доме коммерции советника Вартанова прогремел взрыв, разнесший вдребезги квартиру на 4 этаже. Прибывшая на место полиция обнаружила изуродованные до неузнаваемости останки молодого мужчины. Квартиру снимал некий г-н П., приват-доцент, труп которого, по всей видимости, и обнаружен. Судя по облику жилища там было устроено нечто вроде тайной химической лаборатории. Руководящий расследованием статский советник Бриллинг предполагает, что на квартире изготовлялись адские машины для террористической организации нигилистов. Расследование продолжается».
— М-да, слава Всевышнему, что у нас не Питер.
Юный Фандорин, судя по блеску глаз, был на сей счет иного мнения. Весь его вид красноречиво говорил: вот, мол, в столице люди делом занимаются, бомбистов разыскивают, а не переписывают по десять раз бумажки, в которых, правду сказать, и интересного-то ничего нет.
— Тэк-с, — зашелестел газетой Ксаверий Феофилактович, — посмотрим, что у нас на городской странице.
«Первый московский эстернат
Известная английская благотворительница баронесса Эстер, радением которой в разных странах устроены так называмые „эстернаты“, образцовые приюты для мальчиков-сирот, объявила нашему корреспонденту, что и в златоглавой, наконец-то, открылись двери первого заведения подобного рода. Леди Эстер, с прошлого года начавшая свою деятельность в России и уже успевшая открыть эстернат в Петербурге, решила облагодетельствовать и московских сироток…»
— М-м-м…
«Сердечная благодарность всех москвичей… Где же наши Оуэны и Эстеры?»…
— Ладно, Бог с ними, с сиротками. Что у нас тут?
«Циничная выходка»
— Хм, любопытно.
«Вчера в Александровском саду произошло печальное происшествие совершенно в духе циничных нравов современной молодежи. На глазах у гуляющих застрелился г-н N., статный молодец 23-х лет, студент М-ского университета, единственный наследник миллионного состояния.»
— Ого!
«Перед тем как совершить этот безрассудный поступок, N., по свидетельству очевидцев, куражился перед публикой, размахивая револьвером. Поначалу очевидцы сочли его поведение пьяной бравадой, однако N. не шутил и, прострелив себе голову, скончался на месте. В кармане самоубийцы нашли записку возмутительно атеистического содержания, из которой явствует, что поступок N. не был минутным порывом или следствием белой горячки. Итак, модная эпидемия беспричинных самоубийств, бывшая до сих пор бичом Петрополя, докатилась и до стен матушки-Москвы. О времена, о нравы! До какой же степени неверия и нигилизма дошла наша золотая молодежь, чтобы даже из собственной смерти устраивать буффонаду? Если таково отношение наших Брутов к собственной жизни, то стоит ли удивляться, что они ни в грош не ставят и жизнь других, куда более достойных людей? Как кстати тут слова почтеннейшего Федора Михайловича Достоевского из только что вышедшей майской книжки „Дневника писателя“: „Милые, добрые, честные (все это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши.»
Ксаверий Феофилактович растроганно хлюпнул носом и строго покосился на своего юного помощника — не заметил ли, после чего продолжил значительно суше.
— Ну и так далее, и так далее. А времена тут, право, не при чем. Эка невидаль. У нас на Руси про этаких-то издавна говорили «с жиру взбесился». Миллионное состояние? Кто бы это был? И ведь, шельмы частные приставы, про всякую дребедень доносят, а тут и в отчет не включили. Жди теперь сводку городских происшествий! Хотя что же, тут случай очевидный, застрелился на глазах у свидетелей… А все же любопытно. Александровский сад — это у нас будет Городская часть, второй участок. Вот что, Эраст Петрович, не в службу, а в дружбу, слетайте-ка к ним на Моховую. Мол, в порядке надзора и все такое. Разузнайте, кто таков этот N. И главное, голубчик, прощальную записку непременно спишите, я вечерком своей Евдокии Андреевне покажу, она любит все такое душещипательное. Да не томите, возвращайтесь поскорей.
Последние слова были произнесены уже в спину коллежскому регистратору, который так торопился покинуть свой унылый, обтянутый клеенкой стол, что чуть фуражку не забыл.
* * *
В участке молоденького чиновника из Сыскного провели к самому приставу, однако тот, увидев, что прислали не Бог весть какую персону, времени на объяснения тратить не стал, а вызвал помощника.
— Вот, пожалуйте за Иваном Прокофьевичем, — ласково сказал пристав мальчишке (хоть и мелкая сошка, а все ж из управления). — Он вам все и покажет, и расскажет. Да и на квартиру к покойнику вчера именно он ездил. А Ксаверию Феофилактовичу мое нижайшее.
Фандорина усадили за высокую конторку, принесли тощую папку с делом. Эраст Петрович прочел заголовок
«ДЕЛО о самоубийстве
потомственного почетного гражданина Петра Александрова КОКОРИНА 23-х лет, студента юридического факультета Московского императорского университета. Начато мая месяца 13 числа 1876 года. Окончено … месяца … числа 18.. года»
и дрожащими от предвкушения пальцами развязал веревочные тесемки.
— Александра Артамоновича Кокорина сынок, — пояснил Иван Прокофьевич, тощий и долговязый служака с мятым, будто корова жевала, лицом. — Богатейший был человек. Заводчик. Три года как преставился. Все сыну отписал. Жил бы себе студент да радовался. И чего людям не хватает?
Эраст Петрович кивнул, ибо не знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно, с десяток, самый подробный составлен со слов дочери действительного тайного советника Елизаветы фон Эверт-Колокольцевой 17 лет и ее гувернантки девицы Эммы Пфуль 48 лет, с которыми самоубийца разговаривал непосредственно перед выстрелом. Впрочем, никаких сведений помимо тех, что уже известны читателю, Эраст Петрович из протоколов не почерпнул — все свидетели повторяли более или менее одно и то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности: одни говорили, что вид молодого человека сразу пробудил в них тревожное предчувствие («Как заглянула в его безумные глаза, так внутри у меня все и похолодело,» — показала титулярная советница г-жа Хохрякова, которая, однако, далее свидетельствовала, что видела молодого человека только со спины); другие же свидетели, наоборот, толковали про гром среди ясного неба.
Последней в папке лежала мятая записка на голубой бумаге с монограммой. Эраст Петрович так и впился глазами в неровные (верно, от душевного волнения) строчки.
«Господа, живущие после меня!
Раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал тайну смерти, которая сокрыта от вас за семью печатями. Я свободен, а вам еще жить и мучиться страхами. Однако держу пари, что там, где я сейчас и откуда, как выразился принц Датский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом ничего. Кто со мной не согласен — милости прошу проверить. Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела, а записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды. Тошно мне в вашем мире, и, право, этой причины вполне довольно. А что я не законченная скотина, тому свидетельство кожаный бювар.
Петр Кокорин»
Непохоже, что от душевного волнения — вот первое, что подумалось Эрасту Петровичу.
— Про бювар это в каком смысле? — спросил он.
Помощник пристава пожал плечами:
— Никакого бювара при нем не было. Да чего вы хотите, не в себе человек. Может, собирался что-то такое сделать, да передумал или забыл. По всему видать, взбалмошный был господин. Читали, как он барабан-то крутил? Кстати, в барабане из шести гнезд всего в одном пуля была. Я, например, того мнения, что он и не собирался вовсе стреляться, а хотел себе нервы пощекотать — так сказать, для большей остроты жизненных ощущений. Чтоб потом слаще елось и пикантней кутилось.
— Всего одна пуля из шести? Надо же, как не повезло, — огорчился за покойника Эраст Петрович, которому все не давал покоя кожаный бювар.
— Где он живет? То есть, жил…
— Квартира из восьми комнат в новом доме на Остоженке, и прешикарная, — охотно стал делиться впечатлениями Иван Прокофьевич. — От отца унаследовал собственный дом в Замоскворечье, целую усадьбу со службами, однако жить там не пожелал, переехал подальше от купечества.
— И что, там кожаного бювара тоже не нашлось?
Помощник пристава удивился:
— Что ж мы, обыск, по-вашему, устроить должны были? Я вам говорю, там такая квартира, что боязно агентов по комнатам пускать — как бы их бес не попутал. Да и к чему? Егор Никифорыч, следователь из окружной прокуратуры, дал камердинеру покойника четверть часа вещички собрать — да под присмотром городового, чтоб не дай Бог не упер чего хозяйского, — и велел мне дверь опечатать. До объявления наследников.
— А кто наследники? — полюбопытствовал Эраст Петрович.
— Тут закавыка. Камердинер говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие-то троюродные, да он их и на порог не пускал. И кому такие деньжищи достанутся? — завистливо вздохнул Иван Прокофьевич. — Ведь это ж представить страшно… А, не наша печаль. Адвокат либо душеприказчики не сегодня-завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело-то пока у нас в леднике лежит. Может, завтра Егор Никифорыч дело закроет, тогда и завертится.
— И все же это странно, — наморщив лоб, заметил юный письмоводитель. — Если уж человек в предсмертном письме специально про какой-то бювар указал, неспроста это. И про «законченную скотину» что-то непонятно. А ну как в том бюваре что-нибудь важное? Вы как хотите, а я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из-за этого бювара написана. Тут какая-то тайна, право слово.
Эраст Петрович покраснел, боясь, что про тайну у него слишком по-мальчишески выскочило, но помощник пристава ничего странного в его соображении не усмотрел.
— И то, следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть, — признал он. — Егор Никифорыч вечно спешат. Семья у него сам-восьмой, так он все норовит с осмотра или дознания побыстрей домой улизнуть. Старый человек, год до пенсии, чего вы хотите… А вот что, господин Фандорин. Не угодно ли съездить самим? Вместе и посмотрим. А печать я потом новую навешу, дело небольшое. Егор Никифорыч не обессудит. Какое там — поблагодарит, что не тормошили лишний раз. Скажу ему, что из Сыскного управления запрос был, а?
Эрасту Петровичу показалось, что тощему помощнику пристава просто охота получше рассмотреть «прешикарную» квартиру, да и с «навешиванием» новой печати, кажется, тоже получалось как-то не очень, но уж больно велик был соблазн. Тут и в самом деле пахло тайной.
* * *
Убранство квартиры покойного Петра Кокорина (парадный этаж богатого доходного дома возле Пречистенских ворот) на Фандорина большого впечатления не произвело — во времена папенькиного скороспелого богатства живал и он в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с трехаршинным венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а прямехонько прошел в гостиную — широкую, в шесть окон, в наимоднейшем русском стиле: с расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью.
— Бонтонно проживать изволили, я же говорил, — почему-то шепотом выдохнул в затылок провожатый.
Эраст Петрович был сейчас удивительно похож на годовалого сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро-манящего запаха близкой дичи. Повертев головой вправо-влево, он безошибочно определил:
— Вон та дверь — кабинет?
— Точно так-с.
— Идемте же!
Кожаный бювар долго искать не пришлось — он лежал посреди массивного письменного стола, между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковиной-пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые руки Фандорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же, на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, что Эраст Петрович и о бюваре забыл: вполоборота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово-черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой в своенравной линии рта. Более же всего заворожило коллежского регистратора выражение спокойной и уверенной властности, такое неожиданное на девичьем лице (почему-то захотелось Фандорину, чтоб это непременно была не дама, а девица).
— Хороша-с, — присвистнул оказавшийся рядом Иван Прокофьевич. — Кто же это такая? Позвольте-ка…
И он без малейшего трепета, кощунственной рукой извлек волшебный лик из рамки и перевернул карточку обратной стороной. Там косым, размашистым почерком было написано:
Петру К.
«И Петр вышед вон и плакася горько». Полюбив, не отрекайтесь!
А. Б.
— Это она его с Петром-апостолом равняет, а себя, стало быть, с Иисусом? Однако амбиции! — фыркнул помощник пристава. — Уж не из-за этой ли особы и руки на себя студент наш наложил, а? Ага, вот и бюварчик, не зря ехали.
Раскрыв кожаную обложку, Иван Прокофьевич извлек один-единственный листок, написанный на уже знакомой Эрасту Петровичу голубой бумаге, однако на сей раз с нотариальной печатью и несколькими подписями внизу.
— Отлично, — удовлетворенно кивнул полицейский. — Отыскалась и духовная. Нуте-с, любопытно.
Документ он пробежал глазами в минуту, но Эрасту Петровичу эта минута с вечность показалась, а заглядывать через плечо он полагал ниже своего достоинства.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Хорош подарочек троюродным! — воскликнул Иван Прокофьевич с непонятным злорадством. — Ай да Кокорин, всем нос утер. Это по-нашему, по-русски! Только уж непатриотично как-то. Вот и про «скотину» разъясняется.
Потеряв от нетерпения всякое представление о приличиях и чинопочитании, Эраст Петрович выхватил у старшего по званию листок и прочел следующее:
Духовная
Я, нижеподписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и совершенной памяти, при нижеследующих свидетелях объявляю мое завещание по поводу принадлежащего мне имущества.
Все мое реализуемое имущество, полный перечень коего имеется у моего поверенного Семена Ефимовича Берензона, я завещаю г-же баронессе Маргарете Эстер, подданной Британии, для использования всех сих средств по полному ее усмотрению на нужды образования и воспитания сирот. Уверен, что г-жа Эстер распорядится этими средствами толковее и честнее, чем наши генералы от благотворительности.
Это мое завещание является последним и окончательным, оно имеет законную силу и отменяет мое предыдущее завещание.
Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича Берензона и студента Московского университета Николая Степановича Ахтырцева.
Настоящая духовная составлена в двух экземплярах, один из коих остается у меня, а второй передается на хранение в адвокатскую контору г-на Берензона.
Москва, 12 мая 1876 года
Петр Кокорин.
Глава вторая, в которой нет ничего кроме разговоров
— Воля ваша, Ксаверий Феофилактович, а только странно! — с горячностью повторил Фандорин. — Тут какая-то тайна, честное слово! — И упрямо подчеркнул. — Да, вот именно, тайна! Судите сами. Во-первых, застрелился как-то нелепо, «наудачу», одной пулей из барабана, будто и вовсе не собирался стреляться. Что за фатальное невезение! И тон предсмертной записки, согласитесь, какой-то чудной — вроде как наспех, между делом написана, а между тем проблема там затронута важнейшая. Нешуточная проблема! — голос Эраста Петровича аж зазвенел от чувства. — Но о проблеме я еще потом скажу, а пока про завещание. Разве оно не подозрительно?
— Что же именно кажется вам в нем, голубчик, подозрительным? — промурлыкал Грушин, скучающе перелистывая «Полицейскую сводку городских происшествий» за истекшие сутки. Это не лишенное познавательного интереса чтение обыкновенно поступало во второй половине дня, ибо дел большой важности в сем документе не содержалось — в основном всякая мелкая всячина, полнейшая ерунда, но иногда попадалось и что-нибудь любопытное. Было здесь и сообщение о вчерашнем самоубийстве в Александровском саду, но, как и предвидел многоопытный Ксаверий Феофилактович, без каких-либо подробностей и уж конечно без текста предсмертной записки.
— А вот что! Стрелялся Кокорин вроде как не всерьез, однако же завещание, несмотря на вызывающий тон, составлено по всей форме — с нотариусом, со свидетельскими подписями, с указанием душеприказчиков, — загибал пальцы Фандорин. — И то сказать, состояние-то громадное. Я справлялся — две фабрики, три завода, дома в разных городах, верфи в Либаве, одних процентных бумаг в Государственном банке на полмиллиона!
— На полмиллиона? — ахнул Ксаверий Феофилактович, оторвавшись от бумажек. — Повезло англичанке, повезло.
— И объясните мне кстати, при чем здесь леди Эстер? Почему именно ей завещано, а не кому-то другому? Какая между ней и Кокориным связь? Вот что выяснить бы надо!
— Так он же написал, что нашим казнокрадам не верит, а англичанку уж который месяц во всех газетах превозносят. Нет, милый, вы мне лучше вот что скажите. Как это получается, что ваше поколение жизни такую мелкую цену дает? Чуть что и пиф-паф, да еще с важностью, с пафосом, с презрением ко всему миру. С каких заслуг презрение-то, с каких? — засердился Грушин, вспомнив, как дерзко и непочтительно говорила с ним вчера вечером любимая дочь, шестнадцатилетняя гимназистка Сашенька. Однако вопрос был скорее риторический, мнение письмоводителя на сей счет мало интересовало почтенного пристава, и потому он вновь уткнулся в сводку.
Зато Эраст Петрович оживился еще больше:
— А это и есть проблема, о которой я хотел сказать особо. Взгляните на такого человека, как Кокорин. Судьба дает ему все — и богатство, и свободу, и образованность, и красоту (про красоту Фандорин сказал так, уж заодно, хотя не имел ни малейшего представления о внешности покойника). А он играет со смертью и в конце концов убивает себя. Вы желаете знать почему? Нам, молодым, в вашем мире тошно — Кокорин прямо об этом написал, только не развернул. Ваши идеалы — карьера, деньги, почести — для многих из нас ничего не стоят. Не о том нам теперь мечтается. Вы что же думаете, спроста пишут про эпидемию самоубийств? Лучшие из образованной молодежи уходят, задохнувшись от нехватки духовного кислорода, а вы, отцы общества, уроков для себя ничуть не извлекаете!
Получалось, что весь обвинительный пафос обращен на самого Ксаверия Феофилактовича, так как иных «отцов общества» поблизости не наблюдалось, однако Грушин нисколько не обиделся и даже с видимым удовольствием покивал головой.
— Вот кстати, — насмешливо хмыкнул он, глядя в сводку, — насчет нехватки духовного кислорода. «В Чихачевском переулке по третьему участку Мещанской части в 10 часов утра обнаружено мертвое тело удавившегося сапожника Ивана Еремеева Булдыгина 27 лет. По показаниям дворника Петра Силина, причина самоубийства — отсутствие средств на похмеление». Так все лучшие-то и уйдут. Одни мы, старые дураки, останемся.
— Вы смеетесь, — горько сказал Эраст Петрович. — А в Петербурге и Варшаве что ни день студенты, курсистки, а то и гимназисты травятся, стреляются, топятся. Смешно вам…
«Раскаетесь, Ксаверий Феофилактович, да поздно будет», — мстительно подумал он, хотя до сей минуты мысль о самоубийстве в голову ему никогда еще не приходила — слишком живого характера был юноша. Наступила тишина: Фандорин представлял скромную могилку, за церковной оградой и без креста, а Грушин то водил пальцем по строчкам, то принимался шелестеть листками.
— Однако и в самом деле ерунда какая-то, — пробурчал он. — Что они все, с ума посходили? Вот-с, два донесения, одно из третьего участка Мясницкой части, на странице восемь, другое из первого участка Рогожской части, на странице девять. Итак. «В 12 часов 35 минут в Подколокольный переулок, к дому „Московского страхового от огня общества“ вызвали околоточного надзирателя Федорука по требованию калужской помещицы Авдотьи Филипповны Спицыной (временно проживает в гостинице „Боярская“). Г-жа Спицына показала, что возле входа в книжную лавку, у нее на глазах, некий прилично одетый господин на вид лет 25-ти предпринял попытку застрелиться — поднес к виску пистолет, да видно произошла осечка, и несостоявшийся самоубийца скрылся. Г-жа Спицына потребовала, чтобы полиция разыскала молодого человека и передала его духовным властям для наложения церковного покаяния. Розыск не предпринимался по отсутствию события преступления».
— Вот видите, а я что говорил! — возликовал Эраст Петрович, чувствуя себя полностью отомщенным.
— Погодите, юноша, это еще не все, — остановил его пристав. — Слушайте дальше. Страница девять. «Докладывает городовой Семенов (это из Рогожской). В одиннадцатом часу его вызвал мещанин Николай Кукин, приказчик бакалейной лавки „Брыкин и сыновья“, что напротив Малого Яузского моста. Кукин сообщил, что за несколько минут до того на каменную тумбу моста влез какой-то студент, приложил к голове пистолет, выражая явное желание застрелиться. Кукин слышал железный щелчок, но выстрела не было. После щелчка студент спрыгнул на мостовую и быстро ушел в сторону Яузской улицы. Других очевидцев не обнаружено. Кукин ходатайствует об учреждении на мосту полицейского поста, так как в прошлом году там уже утопилась девица легкого поведения, и от этого торговле убыток».
— Ничего не понимаю, — развел руками Фандорин. — Что это за ритуал такой? Уж не тайное ли общество самоубийц?
— Какое там общество, — медленно произнес Ксаверий Феофилактович, а потом заговорил все быстрее и быстрее, постепенно оживляясь. — Никакое не общество, сударь мой, а все гораздо проще. Теперь и с барабаном понятно, а раньше-то было и невдомек! Это все один и тот же, наш с вами студент Кокорин куролесил. Смотрите-ка сюда. — Он встал и проворно подошел к карте Москвы, что висела на стене подле двери. — Вот Малый Яузский мост. Отсюда он пошел Яузской улицей, где-то с час поболтался и оказался в Подколокольном, возле страхового общества. Напугал помещицу Спицыну и двинулся дальше, в сторону Кремля. А в третьем часу дошел до Александровского сада, где его путешествие и закончилось известным нам образом.
— Но зачем? И что все это значит? — всматривался в карту Эраст Петрович.
— Что значит — не мне судить. А как дело было, догадываюсь. Наш студент-белоподкладочник, золотая молодежь, решил сделать всем адье. Но перед смертью пожелал еще нервы себе пощекотать. Я читал где-то, это «американской рулеткой» называется. В Америке придумали, на золотых приисках. Заряжаешь в барабан один патрон, крутишь и ба-бах! Коли повезло — срываешь банк, ну а не повезло — прости-прощай. И отправился наш студент в вояж по Москве, судьбу испытывать. Вполне возможно, что он не три раза стрелялся, а больше, просто не всякий очевидец полицию-то позовет. Это помещица-душеспасительница да Кукин со своим приватным интересом бдительность проявили, а сколько Кокорин всего попыток предпринял — Бог весть. Или уговор у него с собой был — мол, столько-то раз со смертью сыграю, и баста. Уцелею — так тому и быть. Впрочем, это уже мои фантазии. Никакого фатального невезения в Александровском не было, просто к третьему часу студент уже всю свою фортуну израсходовал.
— Ксаверий Феофилактович, вы — настоящий аналитический талант, — искренне восхитился Фандорин. — Я так и вижу перед собой, как все это было.
Заслуженная похвала, хоть и от молокососа, была Грушину приятна.
— То-то. Есть чему и у старых дураков поучиться, — назидательно произнес он. — Вы бы послужили по следственному делу с мое, да не в нынешние высококультурные времена, а при государе Николае Павловиче. Тогда не разбирали, сыскное не сыскное, да не было еше в Москве ни нашего управления, ни даже следственного отдела. Сегодня убийц ищешь, завтра на ярмарке стоишь, народу острастку даешь, послезавтра по кабакам беспашпортных гоняешь. Зато приобретаешь наблюдательность, знание людей, ну и шкурой дубленой обрастаешь, без этого в нашем полицейском деле никак невозможно, — с намеком закончил пристав и вдруг заметил, что письмоводитель его не очень-то и слушает, а хмурится какой-то своей мысли, по всему видать не очень удобной.
— Ну, что там у вас еще, выкладывайте.
— Да вот, в толк не возьму… — Фандорин нервно пошевелил красивыми, в два полумесяца бровями. — Кукин этот говорит, что на мосту студент был…
— Конечно, студент, а кто же?
— Но откуда Кукину знать, что Кокорин студент? Был он в сюртуке и шляпе, его и в Александровском саду никто из свидетелей за студента не признал… Там в протоколах все «молодой человек» да «тот господин». Загадка!
— Все у вас одни загадки на уме, — махнул рукой Грушин. — Дурак ваш Кукин, да и дело с концом. Видит, барин молоденький, в статском, ну и вообразил, что студент. А может, глаз у приказчика наметанный, распознал студента — ведь с утра до вечера с покупателями дело имеет.
— Кукин в своей лавчонке такого покупателя, как Кокорин, и в глаза не видывал, — резонно возразил Эраст Петрович.
— Так что с того?
— А то, что неплохо бы помещицу Спицыну и приказчика Кукина получше расспросить. Вам, Ксаверий Феофилактович, конечно, не к лицу такими пустяками заниматься, но, если позволите, я бы сам… — Эраст Петрович даже на стуле приподнялся, так ему хотелось, чтоб Грушин позволил.
Собирался Ксаверий Феофилактович строгость проявить, но передумал. Пусть мальчишка живой работы понюхает, поучится со свидетелями разговаривать. Может, и получится из него толк. Сказал внушительно:
— Не запрещаю. — И, предупредив радостный возглас, уже готовый сорваться с уст коллежского регистратора, добавил. — Но сначала извольте отчет для его превосходительства закончить. И вот что, голубчик. Уже четвертый час. Пойду я, пожалуй, восвояси. А вы мне завтра расскажете, откуда приказчик про студента взял.
Глава третья, в которой возникает «зутулый штудент»
От Мясницкой, где располагалось Сыскное управление, до гостиницы «Боярская», где, судя по сводке, «временно проживала» помещица Спицына, было ходу минут двадцать, и Фандорин, несмотря на снедавшее его нетерпение, решил пройтись пешком. Мучитель «Лорд Байрон», немилосердно стискивавший бока письмоводителя, пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок с вязигой, купленный на углу Гусятникова переулка (не будем забывать, что в следственной ажитации Эраст Петрович остался без обеда), он резво шагал по Чистопрудному бульвару, где допотопные старухи в салопах и чепцах сыпали крошки жирным, бесцеремонным голубям. По булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми Фандорину было никак не угнаться, и его мысли приняли обиженное направление. В сущности, сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Хорошо «Боярская» на Покровке, но ведь оттуда еще на Яузу к приказчику Кукину топать — это верных полчаса. Тут промедление смерти подобно, растравлял себя Эраст Петрович (прямо скажем, несколько преувеличивая), а господин пристав казенного пятиалтынного пожалел. Самому-то, поди, управление каждый месяц по восьмидесяти целковых на постоянного извозчика отчисляет. Вот они, начальственные привилегии: один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности.
Но слева, над крышей кофейни Суше уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась «Боярская», и Фандорин зашагал еще быстрей, предвкушая важные открытия.
Полчаса спустя, походкой понурой и разбитой, брел он вниз по Покровскому бульвару, где голубей, таких же упитанных и нахальных, как на Чистопрудном, кормили уже не дворянки, а купчихи.
Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Эраст Петрович поймал в самый последний момент — она уже готовилась сесть в дрожки, заваленные баулами и свертками, чтобы отбыть из первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображений экономии путешествовала Спицына по старинке, не железной дорогой, а на своих лошадках.
В этом Фандорину безусловно повезло, ибо торопись помещица на вокзал, разговора и вовсе бы не получилось. Но суть беседы со словоохотливой свидетельницей, к которой Эраст Петрович подступал и так, и этак, сводилась к одному: Ксаверий Феофилактович прав, и видела Спицына именно Кокорина — и про сюртук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиблеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели из Александровского сада.
Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять-таки прав. Сболтнул приказчик не подумав, а теперь таскайся из-за него по всей Москве, выставляй себя перед приставом на посмешище.
Бакалейная лавка «Брыкин и сыновья» выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден как на ладони — это Фандорин отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку (видно, от духоты), а стало быть, мог услышать Кукин и «железный щелчок», ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не далее пятнадцати шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет сорока в красной рубахе, черном суконном жилете, плисовых штанах и сапогах бутылками.
— Не угодно ли чего, ваше благородие? — спросил он. — Никак заплутать изволили?
— Кукин? — строго спросил Эраст Петрович, не предвидя от грядущих объяснений ничего утешительного.
— Точно так-с, — насторожился приказчик, сдвинув кустистые брови, но сразу же догадался. — Вы, ваше благородие, должно, из полиции? Покорнейше благодарен. Не ожидал такого скорого вашего внимания. Господин околотошный сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидал-с, никак не ожидал-с. Да что же мы на пороге-то! Пожалуйте в лавку. Уж так благодарен, так благодарен.
Он и поклонился, и дверку приоткрыл, и еще рукой приглашающий жест сделал — мол, милости прошу, но Фандорин не тронулся с места. Сказал внушительно:
— Я, Кукин, не из околотка, а из сыскной полиции. Имею поручение разыскать сту… того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю.
— Это скубента-то? — с готовностью подсказал приказчик. — Как же-с, преотлично его запомнили. Страх-то какой, прости Господи. Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружию к голове приставили, так и обмер — ну все, думаю, будет как о прошлый год, опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы-то виноваты? Что им тут, медом намазано, руки на себя накладывать? Ты сходи вон к Москве-реке, там и поглыбже, и мост повыше, да и…
— Помолчите, Кукин, — перебил его Эраст Петрович. — Лучше опишите студента. Во что был одет, как выглядел и с чего вы вообще взяли, что он студент.
— Так ведь как есть скубент, по всей форме, ваше благородие, — удивился приказчик. — И мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу.
— Как мундир? — вскинулся Фандорин. — Он разве в мундире был?
— А как же иначе-с? — сожалеюще взглянул на бестолкового чиновника Кукин. — Без энтого где ж мне было понять, скубент он или нет? Что я, по мундиру скубента от приказного не отличу?
На это справедливое замечание Эрасту Петровичу сказать было нечего, он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом — записывать показания. Блокнотик Фандорин купил перед тем, как на службу в Сыскное поступать, три недели без дела проносил, да вот только сегодня пригодился — за утро коллежский регистратор в нем уже несколько страничек меленько исписал.
— Расскажите, как выглядел этот человек.
— Человек как человек. Собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Стеклышки опять же…
— Какие стеклышки — очки или пенсне?
— Такие, на ленточке.
— Значит, пенсне, — чиркал карандашом Фандорин. — Еще какие-нибудь приметы?
— Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки… Да что, скубент как скубент, я ж говорю…
Кукин недоумевающе смотрел на «приказного», а тот надолго замолчал — щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем-то человек.
«Мундир, прыщеватый, пенсне, сильно сутулый», — значилось в блокноте. Ну, немножко прыщеватый — это мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают, но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали — к чему? Сутулый? Хм. В «Московских ведомостях», помнится, описан «статный молодец», но репортер при событии не присутствовал, Кокорина не видел, так что мог и приплести «молодца» ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир — это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем-то переоделся в сюртук. И интересно где? От Яузы до Остоженки и потом обратно к «Московскому страховому от огня обществу» путь неблизкий, за полтора часа не обернешься.
И понял Фандорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один-единственный: брать приказчика Кукина за шиворот, везти в участок на Моховую, где в покойницкой все еще лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать опознание. Эраст Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведывавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в «холодную» определенно не хотелось. Но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым, носил ли он пенсне?
Во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, камердинер покойного, как бишь его фамилия-то? Неважно, все равно следователь выставил его из квартиры, поди отыщи теперь. Остаются свидетели из Александровского, и прежде всего те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни, уж они-то наверняка разглядели его во всех деталях. Вот в блокноте записано: «Дочь д. т. с. Елиз. Александр-на фон Эверт-Колокольцева 17 л., девица Эмма Готлибовна Пфуль 48 л., Малая Никитская, собст. дом».
Без расхода на извозчика все же было не обойтись.
* * *
День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневший на два двугривенных Эраст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. Увидев, что седок в нерешительности остановился, извозчик сказал:
— Он самый и есть, генералов дом, не сомневайтесь. Не первый год по Москве ездим.
«А ну как не пустят», — екнуло внутри у Эраста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась, выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами.
— К господину барону? Из присутствия? — деловито спросил он. — Доложить или только бумажку какую передать? Да вы заходите.
В просторной прихожей, ярко освещенной и люстрой, и газовыми рожками, посетитель совсем оробел.
— Я, собственно, к Елизавете Александровне, — объяснил он. — Эраст Петрович Фандорин, из сыскной полиции. По срочной надобности.
— Из сыскной? — презрительно поморщился страж дверей. — Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышня почитай полдня прорыдали и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из околотка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. На улицу извольте, на улицу. — И стал, мерзавец, еще животом своим толстым к выходу подпихивать.
— А девица Пфуль? — в отчаянии вскричал Эраст Петрович. — Эмма Готлибовна сорока восьми лет? Мне бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело!
Швейцар важно почмокал губами.
— К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите. По коридору направо третья дверь. Там госпожа гувернантка и проживает.
На стук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами.
— Из полиции, Фандорин. Вы госпожа Пфуль? — неуверенно произнес Эраст Петрович и на всякий случай повторил по-немецки. — Полицайамт. Зинд зи фрейляйн Пфуль? Гутен абенд.[1]
— Вечер добрый, — сурово ответила костлявая. — Да, я Эмма Пфуль. Входите. Задитесь вон на тот штул.
Фандорин сел куда было велено — на венский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие-то учебники и стопки писчей бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике стояло целых три горшка с пышной геранью — единственное яркое пятно во всем помещении.
— Вы из-за того глупого молодого человека, который зебя стрелял? — спросила девица Пфуль. — Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского, но если хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции — это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в заксонской полиции обер-вахтмайстером.
— Я коллежский регистратор, — пояснил Эраст Петрович, не желая, чтобы его тоже приняли за вахмистра, — чиновник четырнадцатого класса.
— Да, я умею понимать чин, — кивнула немка, показывая пальцем на петлицу его вицмундира. — Итак, господин коллежский регистратор, я вас слушаю.
В этот момент дверь без стука отворилась и в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком.
— Фрейлейн Пфуль! Morgen fahren wir nach Kuntsevo![2] Честное слово! Папенька позволил! — зачастила она с порога, но, увидев постороннего, осеклась и сконфуженно умолкла, однако ее серые глаза с живейшим любопытством воззрились на молодого чиновника.
— Воспитанные баронессы не бегают, а ходят, — с притворной строгостью сказала ей гувернантка. — Особенно если им уже целых земнадцать лет. Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться.
— Здравствуйте, сударь, — прошелестело чудесное видение.
Фандорин вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась, и бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмет и влюбится в нее с первого взгляда, а делать этого никак не следовало. И в прежние-то, благополучные папенькины времена такая принцесса была бы ему никак не парой, а теперь уж и подавно.
— Здравствуйте, — очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил: «В жалкой роли меня представить вздумали? Он был титулярный советник, она — генеральская дочь? Нет уж, сударыня, не дождетесь! Мне и до титулярного-то еще служить и служить».
— Коллежский регистратор Фандорин Эраст Петрович, управление сыскной полиции, — официальным тоном представился он. — Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое-какие вопросы. Но ежели вам неприятно, — я отлично понимаю, как вы были расстроены, — мне будет достаточно разговора с одной госпожой Пфуль.
— Да, это было ужасно. — Глаза барышни, и без того преизрядные, расширились еще больше. — Правда, я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств… Но мне так интересно! Фрейлейн Пфуль, можно я тоже побуду? Ну пожалуйста! Я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы!
— Я со своей стороны, в интересах следствия, тоже предпочел бы, чтобы госпожа баронесса присутствовала, — смалодушничал Фандорин.
— Порядок есть порядок, — кивнула Эмма Готлибовна. — Я, Лизхен, всегда вам повторила: Ordnung muss sein.[3] Надо быть послушным закону. Вы можете оставаться.
Лизанька (так про себя уже называл Елизавету Александровну стремительно гибнущий Фандорин) с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя во все глаза.
Он взял себя в руки и, повернувшись к фрейлейн Пфуль, попросил:
— Опишите мне, пожалуйста, портрет того господина.
— Господина, который зебя стрелял? — уточнила она. — Na ja.[4] Коричневые глаза, коричневые волосы, рост довольно большой, усов и бороды нет, бакенбарды тоже нет, лицо зовсем молодое, но не очень хорошее. Теперь одежда…
— Про одежду попозже, — перебил ее Эраст Петрович. — Вы говорите, лицо нехорошее. Почему? Из-за прыщей?
— Pickeln, — покраснев, перевела Лизанька.
— A ja, прышшы, — смачно повторила гувернантка не сразу понятое слово. — Нет, прышшей у того господина не было. У него была хорошая, здоровая кожа. А лицо не очень хорошее.
— Почему?






