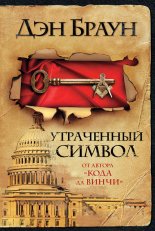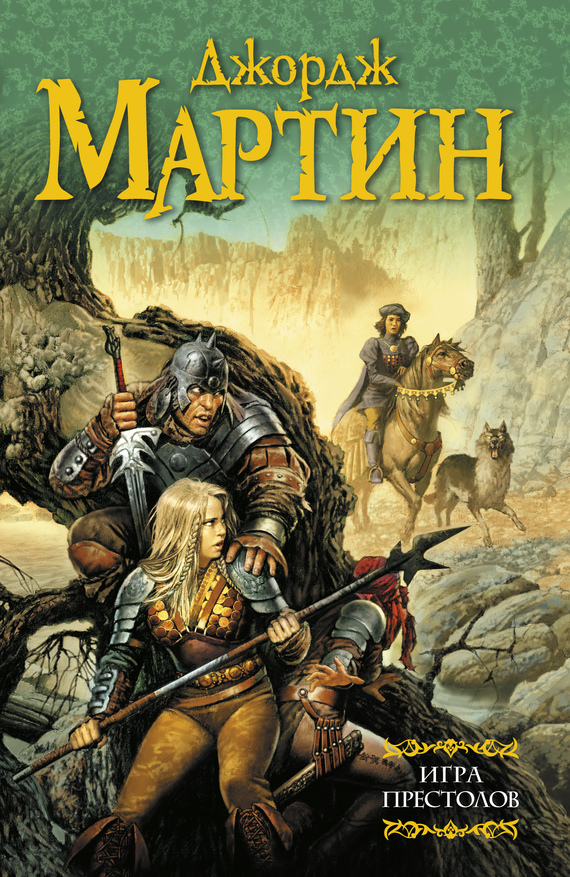Три товарища Ремарк Эрих Мария

— Помоги вам бог! — пробормотал он. — Ваша приятельница?
Кестер отрицательно покачал головой. Больше он не отвечал.
Огороды с беседками остались позади. Кестер выехал на шоссе. Теперь мотор работал на полную мощность. Врач съежился за узким ветровым стеклом. Кестер сунул ему свой кожаный шлем. Непрерывно работал сигнал. Леса отбрасывали назад его рев. Только в деревнях, когда это было абсолютно необходимо, Кестер сбавлял скорость. На машине не было глушителя. Громовым эхом отдавался гул мотора в смыкавшихся за ними стенах домов, которые хлопали, как полотнища на ветру; «Карл» проносился между ними, обдавая их на мгновение ярким мертвенным светом фар, и продолжал вгрызаться в ночь, сверля ее лучами.
Покрышки скрипели, шипели, завывали, свистели, — мотор отдавал теперь всю свою мощь. Кестер пригнулся к рулю, его тело превратилось в огромное ухо, в фильтр, просеивающий гром и свист мотора и шасси, чутко улавливающий малейший звук, любой подозрительный скрип и скрежет, в которых могли таиться авария и смерть.
Глинистое полотно дороги стало влажным. Машина начала юлить и шататься в стороны. Кестеру пришлось сбавить скорость. Зато он с еще большим напором брал повороты. Он уже не подчинялся разуму, им управлял только инстинкт. Фары высвечивали повороты наполовину. Когда машина брала поворот, он не просматривался. Прожектор-искатель почти не помогал, — он давал слишком узкий сноп света. Врач молчал. Внезапно воздух перед фарами взвихрился и окрасился в бледно-серебристый цвет. Замелькали прозрачные клочья, похожие на облака. Это был единственный раз, когда, по словам Жаффе, Кестер выругался. Через минуту они неслись в густом тумане.
Кестер переключил фары на малый свет. Машина плыла в вате, проносились тени, деревья, смутные призраки в молочном море, не было больше шоссе, осталась случайность и приблизительность, тени, разраставшиеся и исчезавшие в реве мотора.
Когда через десять минут они вынырнули из тумана, лицо Кестера было землистым. Он взглянул на Жаффе и что-то пробормотал. Потом он дал полный газ и продолжал путь, прижавшись к рулю, холодный и снова овладевший собой…
Липкая теплынь разлилась по комнате, как свинец.
— Еще не прекратилось? — спросил я.
— Нет, — сказал врач.
Пат посмотрела на меня. Вместо улыбки у меня получилась гримаса.
— Еще полчаса, — сказал я.
Врач поднял глаза:
— Еще полтора часа, если не все два. Идет дождь. С тихим напевным шумом падали капли на листья и кусты в саду. Ослепленными глазами я вглядывался в тьму. Давно ли мы вставали по ночам, забирались в резеду и левкои и Пат распевала смешные детские песенки? Давно ли садовая дорожка сверкала белизной в лунном свете и Пат бегала среди кустов, как гибкое животное?..
В сотый раз я вышел на крыльцо. Я знал, что это бесцельно, но всё-таки ожидание как-то сокращалось. В воздухе висел туман. Я проклинал его; я понимал, каково было Кестеру. Сквозь теплую пелену донесся крик птицы.
— Заткнись! — проворчал я. Мне пришли на память рассказы о вещих птицах. — Ерунда! — громко сказал я.
Меня знобило. Где-то гудел жук, но он не приближался… он не приближался. Он гудел ровно и тихо: потом гудение исчезло; вот оно послышалось снова… вот опять… Я вдруг задрожал… это был не жук, а машина; где-то далеко она брала повороты на огромной скорости. Я словно окостенел и затаил дыхание, чтобы лучше слышать: снова… снова тихий, высокий звук, словно жужжание разгневанной осы. А теперь громче… я отчетливо различал высокий тон компрессора! И тогда натянутый до предела горизонт рухнул и провалился в мягкую бесконечность, погребая под собой ночь, боязнь, ужас, — я подскочил к двери и, держась за косяк, сказал:
— Они едут! Доктор, Пат, они едут. Я их уже слышу! В течение всего вечера врач считал меня сумасшедшим. Он встал и тоже прислушался.
— Это, вероятно, другая машина, — сказал он наконец.
— Нет, я узнаю мотор.
Он раздраженно посмотрел на меня. Видно, он считал себя специалистом по автомобилям. С Пат он обращался терпеливо и бережно, как мать; но стоило мне заговорить об автомобилях, как он начинал метать сквозь очки гневные искры и ни в чем не соглашался со мной.
— Невозможно, — коротко отрезал он и вернулся в комнату.
Я остался на месте, дрожа от волнения.
— "Карл", "Карл"! — повторял я. Теперь чередовались приглушенные удары и взрывы. Машина, очевидно, уже была в деревне и мчалась с бешеной скоростью вдоль домов. Вот рев мотора стал тише; он слышался за лесом, а теперь он снова нарастал, неистовый и ликующий. Яркая полоса прорезала туман… Фары… Гром… Ошеломленный врач стоял около меня. Слепящий свет стремительно надвигался на нас. Заскрежетали тормоза, а машина остановилась у калитки. Я побежал к ней. Профессор сошел с подножки. Он не обратил на меня внимания и направился прямо к врачу. За ним шел Кестер.
— Как Пат? — спросил он.
— Кровь еще идет.
— Так бывает, — сказал он. — Пока не надо беспокоиться.
Я молчал и смотрел на него.
— У тебя есть сигарета? — спросил он.
Я дал ему закурить.
— Хорошо, что ты приехал, Отто.
Он глубоко затянулся:
— Решил, так будет лучше.
— Ты очень быстро ехал.
— Да, довольно быстро. Туман немного помешал.
Мы сидели рядом и ждали.
— Думаешь, она выживет? — спросил я.
— Конечно. Такое кровотечение не опасно. — Она никогда ничего не говорила мне об этом.
Кестер кивнул.
— Она должна выжить, Отто! — сказал я.
Он не смотрел на меня.
— Дай мне еще сигарету, — сказал он. — Забыл свои дома.
— Она должна выжить, — сказал я, — иначе всё полетит к чертям.
Вышел профессор. Я встал.
— Будь я проклят, если когда-нибудь еще поеду с вами, — сказал он Кестеру.
— Простите меня, — сказал Кестер, — это жена моего друга.
— Вот как! — сказал Жаффе.
— Она выживет? — спросил я.
Он внимательно посмотрел на меня. Я отвел глаза и сторону.
— Думаете, я бы стоял тут с вами так долго, если бы она была безнадежна? — сказал он.
Я стиснул зубы и сжал кулаки. Я плакал.
— Извините, пожалуйста, — сказал я, — но всё это произошло слишком быстро.
— Такие вещи только так и происходят, — сказал Жаффе и улыбнулся.
— Не сердись на меня, Отто, что я захныкал, — сказал я.
Он повернул меня за плечи и подтолкнул в сторону двери:
— Войди в комнату. Если профессор позволит.
— Я больше не плачу, — сказал я. — Можно мне войти туда?
— Да, но не разговаривайте, — ответил Жаффе, — и только на минутку. Ей нельзя волноваться.
От слез я не видел ничего, кроме зыбкого светового пятна, мои веки дрожали, но я не решался вытереть глаза. Увидев этот жест, Пат подумала бы, что дело обстоит совсем плохо. Не переступая порога, я попробовал улыбнуться. Затем быстро повернулся к Жаффе и Кестеру.
— Хорошо, что вы приехали сюда? — спросил Кестер.
— Да, — сказал Жаффе, — так лучше.
— Завтра утром могу вас увезти обратно.
— Лучше не надо, — сказал Жаффе.
— Я поеду осторожно. — Нет, останусь еще на денек, понаблюдаю за ней. Ваша постель свободна? — обратился Жаффе ко мне. Я кивнул.
— Хорошо, тогда я сплю здесь. Вы сможете устроиться в деревне?
— Да. Приготовить вам зубную щетку и пижаму?
— Не надо. Имею всё при себе. Всегда готов к таким делам, хотя и не к подобным гонкам.
— Извините меня, — сказал Кестер, — охотно верю, что вы злитесь на меня.
— Нет, не злюсь, — сказал Жаффе.
— Тогда мне жаль, что я сразу не сказал вам правду. Жаффе рассмеялся:
— Вы плохо думаете о врачах. А теперь можете идти и не беспокоиться. Я остаюсь здесь.
Я быстро собрал постельные принадлежности. Мы с Кестером отправились в деревню.
— Ты устал? — спросил я.
— Нет, — сказал он, — давай посидим еще где-нибудь. Через час я опять забеспокоился.
— Если он остается, значит это опасно, Отто, — сказал я. — Иначе он бы этого не сделал…
— Думаю, он остался из предосторожности, — ответил Кестер. — Он очень любит Пат. Когда мы ехали сюда, он говорил мне об этом. Он лечил еще ее мать…
— Разве и она болела этим?..
— Не знаю, — поспешно ответил Кестер, — может быть, чем-то другим. Пойдем спать?
— Пойди, Отто. Я еще взгляну на нее разок… так… издалека.
— Ладно. Пойдем вместе.
— Знаешь, Отто, в такую теплую погоду я очень люблю спать на воздухе. Ты не беспокойся. В последнее время я это делал часто.
— Ведь сыро.
— Неважно. Я подниму верх и посижу немного в машине.
— Хорошо. И я с удовольствием посплю на воздухе. Я понял, что мне от него не избавиться. Мы взяли несколько одеял и подушек и пошли обратно к «Карлу». Отстегнув привязанные ремни, мы откинули спинки передних сидений. Так можно было довольно прилично устроиться. — Лучше, чем иной раз на фронте, — сказал Кестлер. Яркое пятно окна светило сквозь мглистый воздух. Несколько раз за стеклом мелькнул силуэт Жаффе. Мы выкурили целую пачку сигарет. Потом увидели, что большой свет в комнате выключили и зажгли маленькую ночную лампочку.
— Слава богу, — сказал я.
На брезентовый верх падали капли. Дул слабый ветерок. Стало свежо.
— Возьми у меня еще одно одеяло, — сказал я,
— Нет, не надо, мне тепло.
— Замечательный парень этот Жаффе, правда?
— Замечательный и, кажется, очень дельный.
— Безусловно.
Я очнулся от беспокойного полусна. Брезжил серый, холодный рассвет. Кестер уже проснулся.
— Ты не спал, Отто?
— Спал.
Я выбрался из машины и прошел по дорожке к окну. Маленький ночник всё еще горел. Пат лежала в постели с закрытыми глазами. Кровотечение прекратилось, но она была очень бледна. На мгновение я испугался: мне показалось, что она умерла. Но потом я заметил слабое движение ее правой руки. В ту же минуту Жаффе, лежавший на второй кровати, открыл глаза. Успокоенный, я быстро отошел от окна, — он следил за Пат.
— Нам лучше исчезнуть, — сказал я Кестеру, — а то он подумает, что мы его проверяем.
— Там всё в порядке? — спросил Отто.
— Да, насколько я могу судить. У профессора сон правильный: такой человек может дрыхнуть при ураганном огне, но стоит мышонку зашуршать у его вещевого мешка — и он сразу просыпается.
— Можно пойти выкупаться, — сказал Кестер. — Какой тут чудесный воздух! — Он потянулся.
— Пойди.
— Пойдем со мной.
Серое небо прояснялось. В разрывы облаков хлынули оранжево-красные полосы. Облачная завеса у горизонта приподнялась, и за ней показалась светлая бирюза воды. Мы прыгнули в воду и поплыли. Вода светилась серыми и красными переливами.
Потом мы пошли обратно. Фройляйн Мюллер уже была на ногах. Она срезала на огороде петрушку. Услышав мой голос, она вздрогнула. Я смущенно извинился за вчерашнюю грубость. Она разрыдалась:
— Бедная дама. Она так хороша и еще так молода.
— Пат доживет до ста лет, — сказал я, досадуя на то, что хозяина плачет, словно Пат умирает. Нет, она не может умереть. Прохладное утро, ветер, и столько светлой, вспененной морем жизни во мне, — нет, Пат не может умереть… Разве только если я потеряю мужество. Рядом был Кестер, мой товарищ; был я — верный товарищ Пат. Сначала должны умереть мы. А пока мы живы, мы ее вытянем. Так было всегда. Пока жив Кестер, я не мог умереть. А пока живы мы оба, Пат не умрет.
— Надо покоряться судьбе, — сказала старая фройляйн, обратив ко мне свое коричневое лицо, сморщенное, как печеное яблоко. В ее словах звучал упрек. Вероятно, ей вспомнились мои проклятья.
— Покоряться? — спросил я. — Зачем же покоряться? Пользы от этого нет. В жизни мы платим за всё двойной и тройной ценой. Зачем же еще покорность?
— Нет, нет… так лучше.
"Покорность, — подумал я. — Что она изменяет? Бороться, бороться — вот единственное, что оставалось в этой свалке, в которой в конечном счете так или иначе будешь побежден. Бороться за то немногое, что тебе дорого. А покориться можно и в семьдесят лет".
Кестер сказал ей несколько слов. Она улыбнулась и спросила, чего бы ему хотелось на обед.
— Вот видишь, — сказал Отто, — что значит возраст: то слёзы, то смех, — как всё это быстро сменяется. Без заминок. Вероятно, и с нами так будет, — задумчиво произнес он.
Мы бродили вокруг дома.
— Я радуюсь каждой липшей минуте ее сна, — сказал я.
Мы снова пошли в сад. Фройляйн Мюллер приготовила нам завтрак. Мы выпили горячего черного кофе. Взошло солнце. Сразу стало тепло. Листья на деревьях искрились от света и влаги. С моря доносились крики чаек. Фройляйн Мюллер поставила на стол букет роз. — Мы дадим их ей потом, — сказала она. Аромат роз напоминал детство, садовую ограду…
— Знаешь, Отто, — сказал я, — у меня такое чувство, будто я сам болел. Всё-таки мы уже не те, что прежде. Надо было вести себя спокойнее, разумнее. Чем спокойнее держишься, тем лучше можешь помогать другим.
— Это не всегда получается, Робби. Бывало такое и со мной. Чем дольше живешь, тем больше портятся нервы. Как у банкира, который терпит всё новые убытки.
В эту минуту открылась дверь. Вышел Жаффе в пижаме.
— Хорошо, хорошо! — сказал он, увидев, что я чуть не опрокинул стол. — Хорошо, насколько это возможно.
— Можно мне войти?
— Нет еще. Теперь там горничная. Уборка и всё такое.
Я налил ему кофе. Он прищурился на солнце и обратился к Кестеру:
— Собственно, я должен благодарить вас. По крайней мере выбрался на денек к морю.
— Вы могли бы это делать чаще, — сказал Кестер. — Выезжать с вечера и возвращаться к следующему вечеру,
— Мог бы, мог бы… — ответил Жаффе. — Вы не успели заметить, что мы живем в эпоху полного саморастерзания? Многое, что можно было бы сделать, мы не делаем, сами не зная почему. Работа стала делом чудовищной важности: так много людей в наши дни лишены ее, что мысли о ней заслоняют всё остальное. Как здесь хорошо! Я не видел этого уже несколько лет. У меня две машины, квартира в десять комнат и достаточно денег. А толку что? Разве всё это сравнятся с таким летним утром! Работа — мрачная одержимость. Мы предаемся труду с вечной иллюзией, будто со временем всё станет иным. Никогда ничто не изменится. И что только люди делают из своей жизни, — просто смешно!
— По-моему, врач — один из тех немногих людей, которые знают, зачем они живут, — сказал я. — Что же тогда говорить какому-нибудь бухгалтеру?
— Дорогой друг, — возразил мне Жаффе, — ошибочно предполагать, будто все люди обладают одинаковой способностью чувствовать.
— Верно, — сказал Кестер, — но ведь люди обрели свои профессии независимо от способности чувствовать. — Правильно, — ответил Жаффе. — Это сложный вопрос. — Он кивнул мне: — Теперь можно. Только тихонько, не трогайте ее, не заставляйте разговаривать…
Она лежала на подушках, обессиленная, словно ее ударом сбили с ног. Ее лицо изменилось: глубокие синие тени залегли под глазами, губы побелели. Но глаза были по-прежнему большие и блестящие. Слишком большие и слишком блестящие.
Я взял ее руку, прохладную и бледную.
— Пат, дружище, — растерянно сказал я и хотел подсесть к пей. Но тут я заметил у окна горничную. Она с любопытством смотрела на меня. — Выйдите отсюда, — с досадой сказал я.
— Я еще должна затянуть гардины, — ответила она.
— Ладно, кончайте и уходите.
Она затянула окно желтыми гардинами, но не вышла, а принялась медленно скреплять их булавками.
— Послушайте, — сказал я, — здесь вам не театр. Немедленно исчезайте!
Она неуклюже повернулась:
— То прикалывай их, то не надо.
— Ты просила ее об этом? — спросил я Пат.
Она кивнула.
— Больно смотреть на свет?
Она покачала головой.
— Сегодня не стоит смотреть на меня при ярком свете…
— Пат, — сказал я испуганно, — тебе пока нельзя разговаривать! Но если дело в этом…
Я открыл дверь, и горничная наконец вышла. Я вернулся к постели. Моя растерянность прошла. Я даже был благодарен горничной. Она помогла мне преодолеть первую минуту. Было всё-таки ужасно видеть Пат в таком состоянии.
Я сел на стул.
— Пат, — сказал я, — скоро ты снова будешь здорова…
Ее губы дрогнули:
— Уже завтра…
— Завтра нет, но через несколько дней. Тогда ты сможешь встать, и мы поедем домой. Не следовало ехать сюда, здешний климат слишком суров для тебя. — Ничего, — прошептала она. — Ведь я не больна. Просто несчастный случай…
Я посмотрел на нее. Неужели она и вправду не знала, что больна? Или не хотела знать? Ее глаза беспокойно бегали.
— Ты не должен бояться… — сказала она шепотом. Я не сразу понял, что она имеет в виду и почему так важно, чтобы именно я не боялся. Я видел только, что она взволнована. В ее глазах была мука и какая-то странная настойчивость. Вдруг меня осенило. Я понял, о чем она думала. Ей казалось, что я боюсь заразиться.
— Боже мой, Пат, — сказал я, — уж не поэтому ли ты никогда не говорила мне ничего?
Она не ответила, но я видел, что это так.
— Чёрт возьми, — сказал я, — кем же ты меня, собственно, считаешь?
Я наклонился над ней.
— Полежи-ка минутку совсем спокойно… не шевелись… — Я поцеловал ее в губы. Они были сухи и горячи. Выпрямившись, я увидел, что она плачет. Она плакала беззвучно. Лицо ее было неподвижно, из широко раскрытых глаз непрерывно лились слёзы.
— Ради бога, Пат…
— Я так счастлива, — сказала она.
Я стоял и смотрел на нее. Она сказала только три слова. Но никогда еще я не слыхал, чтобы их так произносили. Я знал женщин, но встречи с ними всегда были мимолетными, — какие-то приключения, иногда яркие часы, одинокий вечер, бегство от самого себя, от отчаяния, от пустоты. Да я и не искал ничего другого; ведь я знал, что нельзя полагаться ни на что, только на самого себя и в лучшем случае на товарища. И вдруг я увидел, что значу что-то для другого человека и что он счастлив только оттого, что я рядом с ним. Такие слова сами но себе звучат очень просто, но когда вдумаешься в них, начинаешь понимать, как всё это бесконечно важно. Это может поднять бурю в душе человека и совершенно преобразить его. Это любовь и всё-таки нечто другое. Что-то такое, ради чего стоит жить. Мужчина не может жить для любви. Но жить для другого человека может.
Мне хотелось сказать ей что-нибудь, но я не мог. Трудно найти слова, когда действительно есть что сказать. И даже если нужные слова приходят, то стыдишься их произнести. Все эти слова принадлежат прошлым столетиям. Наше время не нашло еще слов для выражения своих чувств. Оно умеет быть только развязным, всё остальное — искусственно.
— Пат, — сказал я, — дружище мой отважный… В эту минуту вошел Жаффе. Он сразу оценил ситуацию.
— Добился своего! Великолепно! — заворчал он. — Этого я и ожидал.
Я хотел ему что-то ответить, но он решительно выставил меня.
XVII
Прошли две недели. Пат поправилась настолько, что мы могли пуститься в обратный путь. Мы упаковали чемоданы и ждали прибытия Ленца. Ему предстояло увезти машину. Пат и я собирались поехать поездом.
Был теплый пасмурный день. В небе недвижно повисли ватные облака, горячий воздух дрожал над дюнами, свинцовое море распласталось в светлой мерцающей дымке.
Готтфрид явился после обеда. Еще издалека я увидел его соломенную шевелюру, выделявшуюся над изгородями. И только когда он свернул к вилле фройляйн Мюллер, я заметил, что он был не один, — рядом с ним двигалось какое-то подобие автогонщика в миниатюре: огромная клетчатая кепка, надетая козырьком назад, крупные защитные очки, белый комбинезон и громадные уши, красные и сверкающие, как рубины.
— Бог мой, да ведь это Юпп! — удивился я.
— Собственной персоной, господин Локамп, — ответил Юпп.
— Как ты вырядился! Что это с тобой случилось?
— Сам видишь, — весело сказал Ленц, пожимая мне руку. — Он намерен стать гонщиком. Уже восемь дней я обучаю его вождению. Вот он и увязался за мной. Подходящий случай для первой междугородной поездки.
— Справлюсь как следует, господин Локамп! — с горячностью заверил меня Юпп.
— Еще как справится! — усмехнулся Готтфрид. — Я никогда еще не видел такой мании преследования! В первый же день он попытался обогнать на нашем добром старом такси мерседес с компрессором. Настоящий маленький сатана.
Юпп вспотел от счастья и с обожанием взирал на Ленца:
— Думаю, что сумел бы обставить этого задаваку, господин Ленц! Я хотел прижать его на повороте. Как господин Кестер.
Я расхохотался:
— Неплохо ты начинаешь, Юпп.
Готтфрид смотрел на своего питомца с отеческой гордостью:
— Сначала возьми-ка чемоданы и доставь их на вокзал.
— Один? — Юпп чуть не взорвался от волнения. — Господин Ленц, вы разрешаете мне поехать одному на вокзал?
Готтфрид кивнул, и Юпп опрометью побежал к дому.
Мы сдали багаж. Затем мы вернулись за Пат и снова поехали на вокзал. До отправления оставалось четверть часа. На пустой платформе стояло несколько бидонов с молоком.
— Вы поезжайте, — сказал я, — а то доберетесь очень поздно.
Юпп, сидевший за рулем, обиженно посмотрел на меня.
— Такие замечания тебе не нравятся, не так ли? — спросил его Ленц.
Юпп выпрямился.
— Господин Локамп, — сказал он с упреком, — я произвел тщательный расчет маршрута. Мы преспокойно доедем до мастерской к восьми часам.
— Совершенно верно! — Ленц похлопал его по плечу. — Заключи с ним пари, Юпп. На бутылку сельтерской воды.
— Только не сельтерской воды, — возразил Юпп. — Я не задумываясь готов рискнуть пачкой сигарет. Он вызывающе посмотрел на меня.
— А ты знаешь, что дорога довольно неважная? — спросил я.
— Всё учтено, господин Локамп! — А о поворотах ты тоже подумал?
— Повороты для меня ничто. У меня нет нервов.
— Ладно, Юпп, — сказал я серьезно. — Тогда заключим пари. Но господин Ленц не должен садиться за руль на протяжении всего пути.
Юпп прижал руку к сердцу:
— Даю честное слово!
— Ладно, ладно. Но скажи, что это ты так судорожно сжимаешь в руке?
— Секундомер. Буду в дороге засекать время. Хочу посмотреть, на что способен ваш драндулет. Ленц улыбнулся:
— Да, да, ребятки. Юпп оснащен первоклассно. Думаю, наш старый бравый ситроэн дрожит перед ним от страха, все поршни в нем трясутся.
Юпп пропустил иронию мимо ушей. Он взволнованно теребил кепку:
— Что же, двинемся, господин Ленц? Пари есть пари!
— Ну конечно, мой маленький компрессор! До свиданья, Пат! Пока, Робби! — Готтфрид сел в машину. — Вот как, Юпп! А теперь покажи-ка этой даме, как стартует кавалер и будущий чемпион мира!