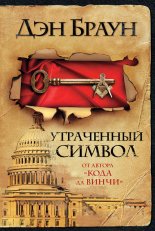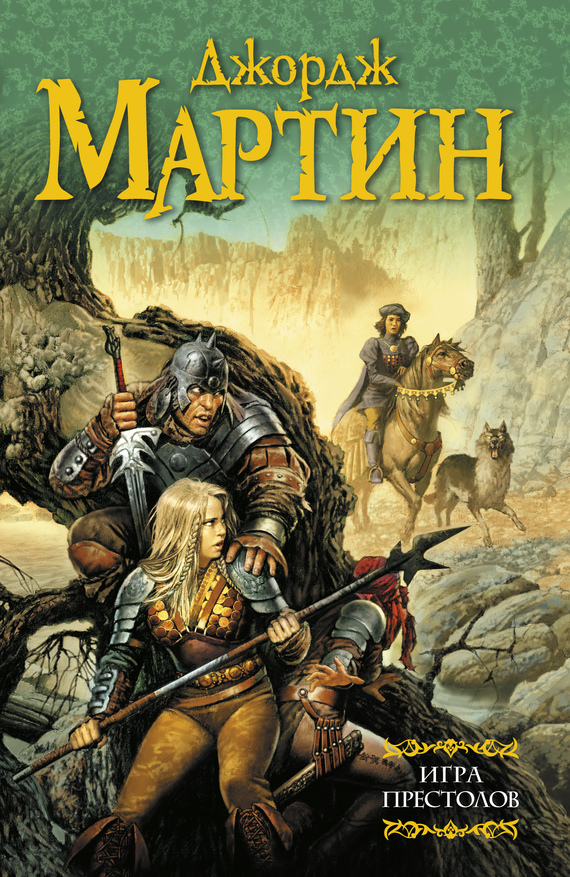Три товарища Ремарк Эрих Мария

I
Небо было желтым, как латунь; его еще не закоптило дымом. За крышами фабрики оно светилось особенно сильно. Вот-вот должно было взойти солнце. Я посмотрел на часы — еще не было восьми. Я пришел на четверть часа раньше обычного.
Я открыл ворота и подготовил насос бензиновой колонки. Всегда в это время уже подъезжали заправляться первые машины.
Вдруг за своей спиной я услышал хриплое кряхтение, — казалось, будто под землей проворачивают ржавый винт. Я остановился и прислушался. Потом пошел через двор обратно в мастерскую и осторожно приоткрыл дверь. В полутемном помещении, спотыкаясь, бродило привидение. Оно было в грязном белом платке, синем переднике, в толстых мягких туфлях и размахивало метлой; весило оно не менее девяноста килограммов; это была наша уборщица Матильда Штосс.
Некоторое время я наблюдал за ней. С грацией бегемота сновала она взад и вперед между автомобильными радиаторами и глухим голосом напевала песню о верном гусаре. На столе у окна стояли две бутылки коньяка. В одной уже почти ничего не оставалось. Накануне вечером она была полна.
— Однако, фрау Штосс… — сказал я.
Пение оборвалось. Метла упала на пол. Блаженная ухмылка погасла. Теперь уже я оказался привидением.
— Иисусе Христе, — заикаясь пробормотала Матильда и уставилась на меня покрасневшими глазами. — Так рано я вас не ждала.
— Догадываюсь. Ну как? Пришлось по вкусу?
— Еще бы, но мне так неприятно. — Она вытерла рот. — Я просто ошалела.
— Ну, это уж преувеличение. Вы только пьяны. Пьяны в дым.
Она с трудом сохраняла равновесие. Ее усики подрагивали, и веки хлопали, как у старой совы. Но постепенно ей всё же удалось несколько прийти в себя. Она решительно шагнула вперед:
— Господин Локамп, человек всего лишь человек. Сначала я только понюхала, потом сделала глоточек, а то у меня с желудком неладно, — да, а потом, видать, меня бес попутал. Не надо было вводить в искушение старую женщину и оставлять бутылку на столе.
Уже не впервые заставал я ее в таком виде. Каждое утро она приходила на два часа убирать мастерскую; там можно было оставить сколько угодно денег, она не прикасалась к ним. Но водка была для нее что сало для крысы.
Я поднял бутылку:
— Ну конечно, коньяк для клиентов вы не тронули, а налегли на хороший, который господин Кестер держит для себя.
На обветренном лице Матильды мелькнула усмешка:
— Что правда, то правда — в этом я разбираюсь. Но, господин Локамп, вы же не выдадите меня, беззащитную вдову.
Я покачал головой:
— Сегодня нет.
Она опустила подоткнутые юбки.
— Ну, так я смоюсь. А то придет господин Кестер, и тогда такое начнется…
Я подошел к шкафу и отпер его:
— Матильда!
Она поспешно заковыляла ко мне. Я высоко поднял коричневую четырехгранную бутылку.
Она протестующе замахала руками:
— Это не я! Честью клянусь! Этого я не трогала!
— Знаю, — ответил я и налил полную рюмку. — А знаком ли вам этот напиток?
— Еще бы! — она облизнула губы. — Ром! Выдержанный, старый, ямайский!
— Верно. Вот и выпейте стаканчик. — Я? — она отшатнулась. — Господин Локамп, это уж слишком. Вы пытаете меня на медленном огне. Старуха Штосс тайком вылакала ваш коньяк, а вы ром еще ей подносите. Вы — просто святой, да и только! Нет, уж лучше я сдохну, чем выпью.
— Вот как? — сказал я и сделал вид, что собираюсь забрать рюмку.
— Ну, раз уж так… — она быстро схватила рюмку. — Раз дают, надо брать. Даже когда не понимаешь толком, почему. За ваше здоровье! Может, у вас день рождения?
— Да, вы в точку попали, Матильда!
— В самом деле? Правда? — Она вцепилась в мою руку и тряхнула ее. — От всего сердца желаю счастья! И деньжонок побольше! Господин Локамп! — Она вытерла рот.
— Я так разволновалась, что надо бы еще одну пропустить! Я же люблю вас, как родного сына.
— Вот и хорошо!
Я налил ей еще рюмку. Она выпила ее единым духом и, осыпая меня добрыми пожеланиями, вышла из мастерской.
Я убрал бутылки и сел к столу. Бледный луч солнца, проникавший через окно, освещал мои руки. Странное чувство испытываешь все-таки в день рождения, даже если никакого значения не придаешь ему. Тридцать лет… Было время, когда мне казалось, что я никак не доживу до двадцати, так хотелось поскорее стать взрослым. А потом…
Я вытащил из ящика листок почтовой бумаги и стал вспоминать. Детство, школа… Все это так далеко ушло, словно никогда и не было. Настоящая жизнь началась только в 1916 году. Как раз тогда я стал новобранцем. Тощий, долговязый, восемнадцатилетний, я падал и вскакивал под команду усатого унтер-офицера на старой пашне за казармой. В один из первых вечеров моя мать пришла в казарму навестить меня. Ей пришлось прождать целый час. Я неправильно уложил ранец и в наказание должен был в свободное время чистить уборную. Мать хотела помочь мне, но ей не разрешили. Она плакала, а я так устал, что заснул, когда она сидела со мной.
1917 год. Фландрия. Мы с Мидендорфом купили в погребке бутылку красного вина. Собирались покутить. Но не вышло. На рассвете англичане открыли ураганный огонь. В полдень ранили Кестера. Майер и Петере были убиты перед вечером. А к ночи, когда мы уже надеялись отдохнуть и откупорили бутылку, началась газовая атака. Удушливые облака заползали в блиндажи. Правда, мы вовремя надели противогазы. Но у Мидендорфа маска прорвалась. Когда он заметил, было уже поздно. Пока он срывал ее и искал другую, он наглотался газа, и его рвало кровью. Он умер на следующее утро; лицо было зеленым и черным. А шея вся истерзана. Он пытался разорвать ее ногтями, чтобы глотнуть воздух.
1918. Это было в госпитале. Двумя днями раньше прибыла новая партия раненых. Тяжелые ранения. Повязки из бумажных бинтов. Стоны. Весь день то въезжали, то выезжали длинные операционные тележки. Иногда они возвращались пустыми. Рядом со мной лежал Иозеф Штоль. Ног у него уже не было, но он этого еще не знал. Увидеть он не мог, потому что там, где должны были лежать его ноги, торчал проволочный каркас, покрытый одеялом. Да он и не поверил бы, потому что чувствовал боль в ногах. За ночь в нашей палате умерли двое. Один умирал очень долго и трудно.
1919. Снова дома. Революция. Голод. С улицы всё время слышится треск пулеметов. Солдаты воюют против солдат. Товарищи против товарищей.
1920. Путч. Расстреляли Карла Брегера. Арестованы Кестер и Ленц. Моя мать в больнице. Последняя стадия рака.
1921. Я припоминал. И не мог уже вспомнить. Этот год просто выпал из памяти. В 1922-м я работал на строительстве дороги в Тюрингии. В 1923-м заведовал рекламой на фабрике резиновых изделий. То было время инфляции. В месяц я зарабатывал двести миллиардов марок. Деньги выдавали два раза в день, и каждый раз делали на полчаса перерыв, чтобы сбегать в магазины и успеть купить хоть что-нибудь до очередного объявления курса доллара, так как после этого деньги снова наполовину обесценивались.
Что было потом? Что было в последующие годы? Я отложил карандаш. Не имело смысла вспоминать дальше. Я уже и не помнил всего достаточно точно. Слишком всё перепуталось. В последний раз я праздновал день моего рождения в кафе «Интернациональ». Там я целый год работал тапером. Потом опять встретил Кестера и Ленца. И вот теперь я здесь, в «Аврема» — в авторемонтной мастерской Кестера и Књ. Под «и Књ» подразумевались Ленц и я, хотя мастерская по существу принадлежала только Кестеру. Он был нашим школьным товарищем, потом командиром нашей роты. Позже он стал летчиком, некоторое время был студентом, затем гонщиком и, наконец, купил эту лавочку. Сперва к нему присоединился Ленц, который до этого несколько лет шатался по Южной Америке, а потом и я.
Я вытащил из кармана сигарету. Собственно говоря, я мог быть вполне доволен. Жилось мне неплохо, я имел работу, был силен, вынослив и, как говорится, находился в добром здравии; но всё же лучше было не раздумывать слишком много. Особенно наедине с собой. И по вечерам. Не то внезапно возникало прошлое и таращило мертвые глаза. Но для таких случаев существовала водка.
Заскрипели ворота. Я разорвал листок с датами своей жизни и бросил его под стол в корзинку. Дверь распахнулась. На пороге стоял Готтфрид Ленц, худой, высокий, с копной волос цвета соломы и носом, который, вероятно, предназначался для совершенно другого человека. Следом за ним вошел Кестер. Ленц встал передо мной;
— Робби! — заорал он. — Старый обжора! Встать и стоять как полагается! Твои начальники желают говорить с тобой!
— Господи боже мой, — я поднялся. — А я надеялся, что вы не вспомните… Сжальтесь надо мной, ребята!
— Ишь чего захотел! — Готтфрид положил на стол пакет, в котором что-то звякнуло.
— Робби! Кто первым повстречался тебе сегодня утром? Я стал вспоминать…
— Танцующая старуха!
— Святой Моисей! Какое дурное предзнаменование! Но оно подходит к твоему гороскопу. Я вчера его составил. Ты родился под знаком Стрельца и, следовательно, непостоянен, колеблешься как тростник на ветру, на тебя воздействуют какие-то подозрительные листригоны Сатурна, а в атом году еще и Юпитер. И поскольку Отто и я заменяем тебе отца и мать, я вручаю тебе для начала некое средство защиты. Прими этот амулет! Правнучка инков однажды подарила мне его. У нее была голубая кровь, плоскостопие, вши и дар предвидения. «Белокожий чужестранец, — сказала она мне. — Его носили цари, в нем заключены силы Солнца, Луны и Земли, не говоря уже о прочих мелких планетах. Дай серебряный доллар на водку и можешь носить его». Чтобы не прерывалась эстафета счастья, передаю амулет тебе. Он будет охранять тебя и обратит в бегство враждебного Юпитера, — Ленц повесил мне на шею маленькую черную фигурку на тонкой цепочке. — Так! Это против несчастий, грозящих свыше. А против повседневных бед — вот подарок Отто! Шесть бутылок рома, который вдвое старше тебя самого!
Развернув пакет, Ленц поставил бутылки одну за другой на стол, освещенный утренним солнцем. Они отливали янтарем.
— Чудесное зрелище, — сказал я. — Где ты их раздобыл, Отто?
Кестер засмеялся:
— Это была хитрая штука. Долго рассказывать. Но лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Как тридцатилетний?
Я отмахнулся:
— Так, будто мне шестнадцать и пятьдесят лет одновременно. Ничего особенного.
— И это ты называешь «ничего особенного»? — возразил Ленц. — Да ведь лучшего не может быть. Это значит, что ты властно покорил время и проживешь две жизни.
Кестер поглядел на меня.
— Оставь его, Готтфрид, — сказал он. — Дни рождения тягостно отражаются на душевном состоянии. Особенно с утра. Он еще отойдет.
Ленц прищурился:
— Чем меньше человек заботится о своем душевном состоянии, тем большего он стоит, Робби. Это тебя хоть немного утешает?
— Нет, — сказал я, — совсем не утешает. Если человек чего-то стоит, — он уже только памятник самому себе. А по-моему, это утомительно и скучно.
— Отто, послушай, он философствует, — сказал Ленц, — и значит, уже спасен. Роковая минута прошла! Та роковая минута дня рождения, когда сам себе пристально смотришь в глаза и замечаешь, какой ты жалкий цыпленок. Теперь можно спокойно приниматься за работу и смазать потроха старому кадилляку…
Мы работали до сумерек. Потом умылись и переоделись. Ленц жадно поглядел на шеренгу бутылок:
— А не свернуть ли нам шею одной из них?
— Пусть решает Робби, — сказал Кестер. — Это просто неприлично, Готтфрид, делать такие неуклюжие намеки тому, кто получил подарок.
— Еще неприличнее заставлять умирать от жажды подаривших, — возразил Ленц и откупорил бутылку. Аромат растекся по всей мастерской.
— Святой Моисей! — сказал Готтфрид. Мы стали принюхиваться.
— Отто, аромат сказочный. Нужно обратиться к самой высокой поэзии, чтобы найти достойное сравнение.
— Да, такой ром слишком хорош для нашего мрачного сарая! — решил Ленц. — Знаете что? Поедем за город, поужинаем где-нибудь и прихватим бутылку с собой. Там, на лоне природы, мы ее и выдуем.
— Блестяще.
Мы откатили в сторону кадилляк, с которым возились весь день. За ним стоял очень странный предмет на четырех колесах. Это была гоночная машина Отто Кестера — гордость нашей мастерской.
Однажды на аукционе Кестер купил по дешевке старую колымагу с высоким кузовом. Присутствовавшие специалисты не колеблясь заявили, что это занятный экспонат для музея истории транспорта. Больвис — владелец фабрики дамских пальто и гонщик-любитель — посоветовал Отто переделать свое приобретение в швейную машину. Но Кестер не обращал ни на кого внимания. Он разобрал машину, как карманные часы, и несколько месяцев подряд возился с ней, оставаясь иногда в мастерской до глубокой ночи. И вот однажды он появился в своем автомобиле перед баром, в котором мы обычно сидели по вечерам. Больвис едва не свалился от хохота, так уморительно всё это выглядело. Шутки ради он предложил Отто пари. Он ставил двести марок против двадцати, если Кестер захочет состязаться с его новой гоночной машиной: дистанция десять километров и один километр форы для машины Отто. Они ударили по рукам. Вокруг смеялись, предвкушая знатную потеху. Но Отто пошел дальше: он отказался от форы и с невозмутимым видом предложил повысить ставку до тысячи марок против тысячи. Изумленный Больвис спросил, не отвезти ли его в психиатрическую лечебницу. Вместо ответа Кестер запустил мотор. Оба стартовали немедленно. Больвис вернулся через полчаса и был так потрясен, словно увидел морского змея. Он молча выписал чек, а затем стал выписывать второй. Он хотел тут же приобрести машину.
Кестер высмеял его. Теперь он не продаст ее ни за какие деньги. Но как ни великолепны были скрытые свойства машины, внешний вид ее был страшен. Для повседневного обихода мы поставили самый старомодный кузов, старомодней нельзя было сыскать. Лак потускнел. На крыльях были трещины, а верх прослужил, пожалуй, не меньше десятка лет. Разумеется, мы могли бы отделать машину значительно лучше, но у нас были основания поступить именно так.
Мы назвали машину «Карл». «Карл» — призрак шоссе.
Наш «Карл», сопя, тянул вдоль шоссе.
— Отто, — сказал я. — Приближается жертва.
Позади нетерпеливо сигналил тяжелый бьюик. Он быстро догонял нас. Вот уже сравнялись радиаторы. Мужчина за рулем пренебрежительно поглядел в нашу сторону. Его взгляд скользнул по обшарпанному «Карлу». Потом он отвернулся и сразу забыл о нас.
Через несколько секунд он обнаружил, что «Карл» идет с ним вровень. Он уселся поплотнее, удивленно взглянул на нас и прибавил газу. Но «Карл» не отставал. Маленький и стремительный, он мчался рядом со сверкающей никелем и лаком махиной, словно терьер рядом с догом.
Мужчина крепче схватился за руль. Он еще ничего не подозревал и насмешливо скривил губы. Теперь он явно собирался показать нам, на что способна его телега. Он нажал на акселератор так, что глушитель зачирикал, как стая жаворонков над летним полем, по это не помогло: он не обогнал нас. Словно заколдованный, прилепился к бьюику уродливый и неприметный «Карл». Хозяин бьюика изумленно вытаращился на нас. Он не понимал, как это при скорости в сто километров он не может оторваться от старомодной коляски. Он с недоверием посмотрел на свой спидометр, словно тот мог обмануть. Потом дал полный газ.
Теперь машины неслись рядышком вдоль прямого длинного шоссе. Через несколько сот метров впереди показался грузовик, который громыхал нам навстречу. Бьюику пришлось уступить дорогу, и он отстал. Едва он снова поравнялся с «Карлом», как промчался автокатафалк с развевающимися лентами венков, и он снова должен был отстать. Потом шоссе очистилось.
Между тем водитель бьюика утратил всё свое высокомерие. Раздраженно сжав губы, сидел он, пригнувшись к рулю, его охватила гоночная лихорадка. Вдруг оказалось, что его честь зависит от того, сумеет ли он оставить позади этого щенка. Мы же сидели на своих местах с видом полнейшего равнодушия. Бьюик просто не существовал для нас. Кестер спокойно глядел на дорогу, я, скучая, уставился в пространство, а Ленц, хотя к этому времени он уже превратился в сплошной комок напряженных нервов, достал газету и углубился в нее, словно для него сейчас не было ничего важнее.
Несколько минут спустя Кестер подмигнул нам, «Карл» незаметно убавлял скорость, и бюик стал медленно перегонять. Мимо нас пронеслись его широкие сверкающие крылья, глушитель с грохотом швырнул нам в лицо голубой дым. Постепенно бюик оторвался примерно метров на двадцать. И тогда, как мы этого и ожидали, из окна показалось лицо водителя, ухмыляющееся с видом явного торжества. Он считал, что уже победил.
Но он не ограничился этим. Он не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над побежденными и махнул нам, приглашая догонять. Его жест был подчеркнуто небрежен и самоуверен.
— Отто, — призывно произнес Ленц.
Но это было излишним. В то же мгновение «Карл» рванулся вперед. Компрессор засвистел. И махнувшая нам рука сразу же исчезла: «Карл» последовал приглашению — он догонял. Он догонял неудержимо; нагнал, и тут-то впервые мы обратили внимание на чужую машину. С невинно вопрошающими лицами смотрели мы на человека за рулем. Нас интересовало, почему он махал нам. Но он, судорожно отвернувшись, смотрел в другую сторону, а «Карл» мчался теперь на полном газу, покрытый грязью, с хлопающими крыльями, — победоносный навозный жук.
— Отлично сделано, Отто, — сказал Ленц Кестеру. — Этому парню мы испортили к ужину аппетит.
Ради таких гонок мы и не меняли кузов «Карла». Стоило ему появиться на дороге, и кто-нибудь уже пытался его обогнать. На иных автомобилистов он действовал, как подбитая ворона на стаю голодных кошек. Он подзадоривал самые мирные семейные экипажи пускаться наперегонки, и даже тучных бородачей охватывал неудержимый гоночный азарт, когда они видели, как перед ними пляшет этот разболтанный остов. Кто мог подозревать, что за такой смешной наружностью скрыто могучее сердце гоночного мотора!
Ленц утверждал, что «Карл» воспитывает людей. Он, мол, прививает им уважение к творческому началу, — ведь оно всегда прячется под неказистой оболочкой. Так говорил Ленц, который себя самого называл последним романтиком.
Мы остановились перед маленьким трактиром и выбрались из машины. Вечер был прекрасен и тих. Борозды свежевспаханных полей казались фиолетовыми, а их мерцающие края были золотисто-коричневыми. Словно огромные фламинго, проплывали облака в яблочнозеленом небе, окружая узкий серп молодого месяца. Куст орешника скрывал в своих объятиях сумерки и безмолвную мечту. Он был трогательно наг, но уже исполнен надежды, таившейся в почках. Из маленького трактира доносился запах жареной печенки и лука. Наши сердца забились учащенно.
Ленц бросился в дом навстречу манящему запаху. Он вернулся сияющий:
— Вы должны полюбоваться жареной картошкой! Скорее. Не то самое лучшее съедят без нас!
В это мгновенье с шумом подкатила еще одна машина. Мы замерли, словно пригвожденные. Это был тот самый бюик. Он резко затормозил рядом с «Карлом».
— Гопля! — сказал Ленц.
Нам уже не раз приходилось драться в подобных случаях. Мужчина вышел. Он был рослый, грузный, в широком коричневом реглане из верблюжьей шерсти. Неприязненно покосившись на «Карла», он снял большие желтые перчатки и подошел к нам.
— Какой марки ваша машина? — спросил он с уксусно-кислой гримасой, обращаясь к Кестеру, который стоял ближе к нему.
Мы некоторое время помолчали. Несомненно, он считал нас автомеханиками, выехавшими в воскресных костюмах погулять на чужой машине.
— Вы, кажется, что-то сказали? — спросил, наконец, Отто с сомнением. Его тон указывал на возможность быть повежливей.
Мужчина покраснел.
— Я спросил об этой машине, — заявил он ворчливо.
Ленц выпрямился. Его большой нос дрогнул. Он был чрезвычайно требователен в вопросах вежливости ко всем, кто с ним соприкасался. Но внезапно, прежде чем он успел открыть рот, распахнулась вторая дверца бюика. Выскользнула узкая нога, мелькнуло тонкое колено. Вышла девушка и медленно направилась к нам.
Мы переглянулись, пораженные. Раньше мы и не заметили, что в машине еще кто-то сидит. Ленц немедленно изменил позицию. Он широко улыбнулся, всё его веснушчатое лицо расплылось. И мы все тоже вдруг заулыбались неизвестно почему.
Толстяк удивленно глядел на нас. Он чувствовал себя неуверенно и явно не знал, что же делать дальше. Наконец он представился, сказав с полупоклоном: «Биндинг», цепляясь за собственную фамилию, как за якорь спасения.
Девушка подошла к нам. Мы стали еще приветливей.
— Так покажи им машину, Отто, — сказал Ленц, бросив быстрый взгляд на Кестера.
— Что ж, пожалуй, — ответил Отто, улыбаясь одними глазами.
— Да, я охотно посмотрел бы, — Биндинг говорил уже примирительное. — У нее, видно, чертовская скорость. Этак, за здорово живешь, оторвалась от меня.
Они вдвоем подошли к машине, и Кестер поднял капот «Карла».
Девушка не пошла с ними. Стройная и молчаливая, она стояла в сумерках рядом со мной и Ленцем. Я ожидал, что Готтфрид использует обстоятельства и взорвется, как бомба. Ведь он был мастер в подобных случаях. Но, казалось, он разучился говорить. Обычно он токовал, как тетерев, а теперь стоял словно ионах, давший обет молчания, и не двигался с места.
— Простите, пожалуйста, — сказал наконец я. — Мы не заметили, что вы сидели в машине. Мы не стали бы так озорничать.
Девушка поглядела на меня.
— А почему бы нет? — возразила она спокойно и неожиданно низким, глуховатым голосом. — Ведь в этом же не было ничего дурного.
— Дурного-то ничего, но мы поступили не совсем честно. Ведь наша машина дает примерно двести километров в час.
Она слегка наклонилась и засунула руки в карманы пальто:
— Двести километров?
— Точнее, 189,2 по официальному хронометражу, — с гордостью выпалил Ленц.
Она засмеялась:
— А мы думали, шестьдесят — семьдесят, не больше.
— Вот видите, — сказал я. — Вы ведь не могли этого знать.
— Нет, — ответила она. — Этого мы действительно не могли знать. Мы думали, что бюик вдвое быстрее вашей машины.
— То-то же. — Я оттолкнул ногою сломанную ветку. — А у нас было слишком большое преимущество. И господин Биндинг, вероятно, здорово разозлился на нас.
Она засмеялась:
— Конечно, но ненадолго. Ведь нужно уметь и проигрывать. Иначе нельзя было бы жить.
— Разумеется…
Возникла пауза. Я поглядел на Ленца. Но последний романтик только ухмылялся и подергивал носом, покинув меня на произвол судьбы.
Шумели березы. За домом закудахтала курица.
— Чудесная погода, — сказал я наконец, чтобы прервать молчание.
— Да, великолепная, — ответила девушка.
— И такая мягкая, — добавил Ленц.
— Просто необычайно мягкая, — завершил я. Возникла новая пауза.
Девушка, должно быть, считала нас порядочными болванами. Но я при всех усилиях не мог больше ничего придумать. Ленц начал принюхиваться.
— Печеные яблоки, — сказал он растроганно. — Кажется, тут подают к печенке еще и печеные яблоки. Вот это — деликатес.
— Несомненно, — подтвердил я, мысленно проклиная себя и его.
Кестер и Биндинг вернулись. За эти несколько минут Биндинг стал совершенно другим человеком. По всей видимости, он был одним из тех автомобильных маньяков, которые испытывают совершеннейшее блаженство, когда им удается встретить специалиста, с которым можно поговорить.
— Не поужинаем ли мы вместе? — спросил он.
— Разумеется, — ответил Ленц.
Мы вошли в трактир. В дверях Готтфрид подмигнул мне, кивнув на девушку:
— А знаешь, ведь она с лихвой искупает утреннюю встречу с танцующей старухой.
Я пожал плечами:
— Возможно. Но почему это ты предоставил мне одному заикаться?
Он засмеялся:
— Должен же и ты когда-нибудь научиться, деточка.
— Не имею никакого желания еще чему-нибудь учиться, — сказал я.
Мы последовали за остальными. Они уже сидели за столом. Хозяйка подавала печенку и жареную картошку. В качестве вступления она поставила большую бутылку хлебной водки. Биндинг оказался говоруном неудержимым, как водопад. Чего он только не знал об автомобилях! Когда же он услыхал, что Кестеру приходилось участвовать в гонках, его симпатия к Отто перешла все границы.
Я пригляделся к Биндингу внимательнее. Он был грузный, рослый, с красным лицом и густыми бровями; несколько хвастлив, несколько шумен и, вероятно, добродушен, как люди, которым везет в жизни. Я мог себе представить, что по вечерам, прежде чем лечь спать, он серьезно, с достоинством и почтением разглядывает себя в зеркало.
Девушка сидела между Ленцем и мною. Она сняла пальто и осталась в сером английском костюме. На шее у нее была белая косынка, напоминавшая жабо амазонки. При свете лампы ее шелковистые каштановые волосы отливали янтарем. Очень прямые плечи слегка выгибались вперед, руки узкие, с длинными пальцами казались суховатыми. Большие глаза придавали тонкому и бледному лицу выражение страстности и силы. Она была очень хороша, как мне показалось, — но для меня это не имело значения.
Зато Ленц загорелся. Он совершенно преобразился. Его желтый чуб блестел, как цветущий хмель. Он извергал фейерверки острот и вместе с Биндингом царил за столом. Я же сидел молча и только изредка напоминал о своем существовании, передавая тарелку или предлагая сигарету. Да еще чокался с Биндингом. Это я делал довольно часто. Ленц внезапно хлопнул себя по лбу:
— А ром! Робби, тащи-ка наш ром, припасенный к дню рождения.
— К дню рождения? У кого сегодня день рождения? — спросила девушка.
— У меня, — ответил я. — Меня уже весь день сегодня этим преследуют.
— Преследуют? Значит, вы не хотите, чтобы вас поздравляли?
— Почему же? Поздравления — это совсем другое дело.
— Ну, в таком случае желаю вам всего самого лучшего.
В течение одного мгновения я держал ее руку в своей и чувствовал ее теплое пожатие. Потом я вышел, чтобы принести ром. Огромная молчаливая ночь окружала маленький дом. Кожаные сиденья нашей машины были влажны. Я остановился, глядя на горизонт; там светилось красноватое зарево города. Я охотно задержался бы подольше, но Ленц уже звал меня.
Для Биндинга ром оказался слишком крепким. Это обнаружилось уже после второго стакана. Качаясь, он выбрался в сад. Мы с Ленцем встали и подошли к стойке. Ленц потребовал бутылку джина. — Великолепная девушка, не правда ли? — спросил он.
— Не знаю, Готтфрид, — ответил я. — Не особенно к ней приглядывался.
Он некоторое время пристально смотрел на меня своими голубыми глазами и потом тряхнул рыжей головой:
— И для чего только ты живешь, скажи мне, детка?
— Именно это хотел бы я и сам знать, — ответил я. Он засмеялся:
— Ишь, чего захотел. Легко это знание не дается. Но сперва я хочу выведать, какое она имеет отношение к этому толстому автомобильному справочнику.
Готтфрид пошел за Биндингом в сад. Потом они вернулись вдвоем к стойке. Видимо, Ленц получил благоприятные сведения и, в явном восторге оттого, что дорога свободна, бурно ухаживал за Биндингом. Они распили вдвоем еще бутылку джина и час спустя уже были на «ты». Ленц, когда он бывал хорошо настроен, умел так увлекать окружающих, что ему нельзя было ни в чем отказать. Да он и сам тогда не мог себе ни в чем отказать. Теперь он полностью завладел Биндингом, и вскоре оба, сидя в беседке, распевали солдатские песни. А про девушку последний романтик тем временем совершенно забыл.
Мы остались втроем в зале трактира. Внезапно наступила тишина. Мерно тикали шварцвальдские часы. Хозяйка убирала стойку и по-матерински поглядывала на нас. У печки растянулась коричневая гончая собака. Время от времени она лаяла со сна, — тихо, визгливо и жалобно. За окном шурша скользил ветер. Его заглушали обрывки солдатских песен, и мне казалось, что маленькая комнатка трактира вместе с нами подымается ввысь и, покачиваясь, плывет сквозь ночь, сквозь годы, сквозь множество воспоминаний.
Было какое-то странное настроение. Словно время остановилось; оно уже не было рекой, вытекающей из мрака и впадающей в мрак, — оно стало морем, в котором безмолвно отражалась жизнь. Я поднял свой бокал. В нем поблескивал ром. Я вспомнил записку, которую составлял с утра в мастерской. Тогда мне было немного грустно. Сейчас всё прошло. Мне было всё безразлично, — живи, пока жив. Я посмотрел на Кестера. Он говорил с девушкой, я слушал, но не различал слов. Я почувствовал мягкое озарение первого хмеля, согревающего кровь, которое я любил потому, что в его свете всё неопределенное, неизвестное кажется таинственным приключением. В саду Ленц и Биндинг пели песню о сапере в Аргоннском лесу. Рядом со мной звучал голос незнакомой девушки; она говорила тихо и медленно, низким, волнующим, чуть хриплым голосом. Я допил свой бокал.
Вернулись Ленц и Биндинг. Они несколько протрезвели на свежем воздухе. Мы стали собираться. Я подал девушке пальто. Она стояла передо мной, плавно расправляя плечи, откинув голову назад, чуть приоткрыв рот в улыбке, которая никому не предназначалась и была направлена куда-то в потолок. На мгновенье я опустил пальто. Как же это я ничего не замечал всё время? Неужели я спал? Внезапно я понял восторг Ленца.
Она слегка повернулась ко мне и поглядела вопросительно. Я снова быстро поднял пальто и посмотрел на Биндинга, который стоял у стола, всё еще пурпурнокрасный и с несколько остекленевшим взглядом.
— Вы полагаете, он сможет вести машину? — спросил я.
— Надеюсь.
Я всё еще смотрел на нее:
— Если в нем нельзя быть уверенным, один из нас мог бы поехать с вами.
Она достала пудреницу и открыла ее.
— Обойдется, — сказала она. — Он даже лучше водит после выпивки.
— Лучше и, вероятно, неосторожнее, — возразил я. Она смотрела на меня поверх своего маленького зеркальца.
— Надеюсь, всё будет благополучно, — сказал я. Мои опасения были очень преувеличены, потому что Биндинг держался достаточно хорошо. Но мне хотелось что-то предпринять, чтобы она еще не уходила.
— Вы разрешите мне завтра позвонить вам, чтобы узнать, всё ли в порядке? — спросил я.
Она ответила не сразу.
— Ведь мы несем известную ответственность, раз уж затеяли эту выпивку, — продолжал я, — из особенности я со своим днем рождения. Она засмеялась:
— Ну что же, пожалуйста, — мой телефон — вестен 27–96.
Как только мы вышли, я сразу же записал номер. Мы поглядели, как Биндинг отъехал, и выпили еще по рюмке на прощанье. Потом запустили нашего «Карла». Он понесся сквозь легкий мартовский туман. Мы дышали учащенно, город двигался нам навстречу, сверкая и колеблясь, и, словно ярко освещенный пестрый корабль, в волнах тумана возник бар «Фредди». Мы поставили «Карла» на якорь. Жидким золотом тек коньяк, джин сверкал, как аквамарин, а ром был воплощением самой жизни. В железной неподвижности восседали мы на высоких табуретах у стойки, вокруг нас плескалась музыка, и бытие было светлым и мощным; оно наполняло нас новой силой, забывалась безнадежность убогих меблированных комнат, ожидающих нас, и всё отчаянье нашего существования. Стойка бара была капитанским мостиком на корабле жизни, и мы, шумя, неслись навстречу будущему.
II
На следующий день было воскресенье. Я спал долго и проснулся только когда солнце осветило мою постель. Быстро вскочив, я распахнул окно. День был свеж и прозрачно ясен. Я поставил спиртовку на табурет и стал искать коробку с кофе. Моя хозяйка — фрау Залевски — разрешала мне варить кофе в комнате. Сама она варила слишком жидкий. Мне он не годился, особенно наутро после выпивки. Вот уже два года, как я жил в пансионе фрау Залевски. Мне нравилась улица. Здесь всегда что-нибудь происходило, потому что вблизи друг от друга расположились дом профсоюзов, кафе „Интернационалы“ и сборный пункт Армии спасения. К тому же, перед нашим домом находилось старое кладбище, на котором уже давно никого не хоронили. Там было много деревьев, как в парке, и в тихие ночи могло показаться, что живешь за городом. Но тишина наступала поздно, потому что рядом с кладбищем была шумная площадь с балаганами, каруселями и качелями.
Для фрау Залевски соседство кладбища было на руку. Ссылаясь на хороший воздух и приятный вид, она требовала более высокую плату. Каждый раз она говорила одно и то же: „Вы только подумайте, господа, какое местоположение! „Одевался я медленно. Это позволяло мне ощутить воскресенье. Я умылся, побродил по комнате, прочел газету, заварил кофе и, стоя у окна, смотрел, как поливают улицу, слушал пение птиц на высоких кладбищенских деревьях. Казалось, это звуки маленьких серебряных флейт самого господа бога сопровождают нежное ворчанье меланхолических шарманок на карусельной площади… Я выбрал рубашку и носки, и выбирал так долго, словно у меня их было в двадцать раз больше, чем на самом деле. Насвистывая, я опорожнил свои карманы: монеты, перочинный нож, ключи, сигареты… вдруг вчерашняя записка с номером телефона и именем девушки. Патриция Хольман. Странное имя — Патриция. Я положил записку на стол. Неужели это было только вчера? Каким давним это теперь казалось, — почти забытым в жемчужно-сером чаду опьянения. Как странно всё-таки получается: когда пьешь, очень быстро сосредоточиваешься, но зато от вечера до утра возникают такие интервалы, которые длятся словно годы.
Я сунул записку под стопку книг. Позвонить? Пожалуй… А пожалуй, не стоит. Ведь на следующий день всё выглядит совсем по-другому, не так, как представлялось накануне вечером. В конце концов я был вполне удовлетворен своим положением. Последние годы моей жизни были достаточно суматошливыми. „Только не принимать ничего близко к сердцу, — говорил Кестер. — Ведь то, что примешь, хочешь удержать. А удержать нельзя ничего“.
В это мгновенье в соседней комнате начался обычный воскресный утренний скандал. Я искал шляпу, которую, видимо, забыл где-то накануне вечером, и поневоле некоторое время прислушивался. Там неистово нападали друг на друга супруги Хассе. Они уже пять лет жили здесь в маленькой комнате. Это были неплохие люди. Если бы у них была трехкомнатная квартира с кухней, в которой жена хозяйничала бы, да к тому же был бы еще и ребенок, их брак, вероятно, был бы счастливым. Но на квартиру нужны деньги. И кто может себе позволить иметь ребенка в такое беспокойное время. Вот они и теснились вдвоем; жена стала истеричной, а муж всё время жил в постоянном страхе. Он боялся потерять работу, для него это был бы конец. Хассе было сорок пять лет. Окажись он безработным, никто не дал бы ему нового места, а это означало беспросветную нужду. Раньше люди опускались постепенно, и всегда еще могла найтись возможность вновь подняться, теперь за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы.
Я хотел было тихо уйти, но раздался стук, и, спотыкаясь, вошел Хассе. Он свалился на стул:
— Я этого больше не вынесу.
Он был по сути добрый человек, с покатыми плечами и маленькими усиками. Скромный, добросовестный служащий. Но именно таким теперь приходилось особенно трудно. Да, пожалуй, таким всегда приходится труднее всех. Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни их используют, а потом отшвыривают в сторону.
Хассе поднял руки:
— Подумайте только, опять у нас уволили двоих. Следующий на очереди я, вот увидите, я!
В таком страхе он жил постоянно от первого числа одного месяца до первого числа другого. Я налил ему рюмку водки. Он дрожал всем телом. В один прекрасный день он свалится, — это было очевидно. Больше он уже ни о чем не мог говорить.
— И всё время эти упреки… — прошептал он. Вероятно, жена упрекала его в том, что он испортил ей жизнь. Это была женщина сорока двух лет, несколько рыхлая, отцветшая, но, разумеется, не так опустившаяся, как муж. Ее угнетал страх приближающейся старости. Вмешиваться было бесцельно.
— Послушайте, Хассе, — сказал я. — Оставайтесь у меня сколько хотите. Мне нужно уйти. В платяном шкафу стоит коньяк, может быть он вам больше понравится. Вот ром. Вот газеты. А потом, знаете что? Уйдите вечером с женой из этого логова. Ну, сходите хотя бы в кино. Это обойдется вам не дороже, чем два часа в кафе. Но зато больше удовольствия. Сегодня главное: уметь забывать! И не раздумывать! — Я похлопал его по плечу, испытывая что-то вроде угрызения совести. Впрочем, кино всегда годится. Там каждый может помечтать.
Дверь в соседнюю комнату была распахнута. Слышались рыдания жены. Я пошел по коридору. Следующая дверь была приоткрыта. Там подслушивали. Оттуда струился густой запах косметики. Это была комната Эрны Бениг — личной секретарши. Она одевалась слишком элегантно для своего жалованья, но один раз в неделю шеф диктовал ей до утра. И тогда на следующий день у нее бывало очень плохое настроение. Зато каждый вечер она ходила на танцы. Она говорила, что если не танцевать, то и жить не захочется. У нее было двое друзей. Один любил ее и приносил ей цветы. Другого любила она и давала ему деньги.
Рядом с ней жил ротмистр граф Орлов — русский эмигрант, кельнер, статист на киносъемках, наемный партнер для танцев, франт с седыми висками. Он замечательно играл на гитаре. Каждый вечер он молился Казанской божьей матери, выпрашивая должность метрдотеля в гостинице средней руки. А когда напивался, становился слезлив. Следующая дверь — комната фрау Бендер, медицинской сестры в приюте для грудных детей. Ей было пятьдесят лет. Муж погиб на войне. Двое детей умерли в 1918 году от голода. У нее была пестрая кошка. Единственное ее достояние.
Рядом с ней — Мюллер, казначей на пенсии. Секретарь союза филателистов. Живая коллекция марок, и ничего больше. Счастливый человек.
В последнюю дверь я постучал.
— Ну, Георг, — спросил я, — всё еще ничего нового?
Георг Блок покачал головой. Он был студентом второго курса. Для того чтобы прослушать два курса, он два года работал на руднике. Но деньги, которые скопил тогда, были почти полностью израсходованы, оставалось еще месяца на два. Вернуться на рудник он не мог — теперь там было слишком много безработных горняков. Он тщетно пытался получить хоть какую-нибудь работу. В течение одной недели он распространял рекламные листовки фабрики маргарина. Но фабрика обанкротилась. Вскоре он стал разносчиком газет и облегченно вздохнул. Но три дня спустя на рассвете его остановили два парня в форменных фуражках, отняли газеты, изорвали их и заявили, чтобы он не смел больше покушаться на чужую работу, к которой не имеет отношения. У них достаточно своих безработных. Всё же на следующее утро он вышел опять, хотя ему пришлось оплатить изорванные газеты. Его сшиб какой-то велосипедист. Газеты полетели в грязь. Это обошлось ему еще в две марки. Он пошел в третий раз и вернулся в изорванном костюме и с разбитым лицом. Тогда он сдался. Отчаявшись, Георг сидел теперь целыми днями в своей комнате и зубрил как сумасшедший, словно это имело какой-то смысл. Ел он один раз в день. А между тем было совершенно безразлично — закончит он курс или нет. Даже сдав экзамены, он мог рассчитывать на работу не раньше, чем через десять лет.