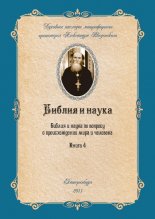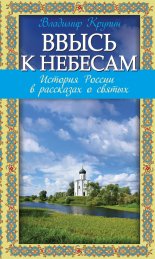Ты взойдешь, моя заря! Новиков Алексей
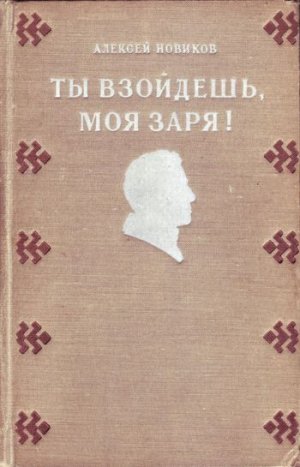
От автора
Роман «Ты взойдешь, моя заря!» посвящен зрелым годам, жизни и творчеству великого русского композитора Михаила Глинки.
Книга «Рождение музыканта» того же автора, вышедшая в 1950 году, повествует о детстве и юности М. И. Глинки.
Часть первая
Бедный певец
Глава первая
В Новоспасском готовились к свадьбе.
Выдавая замуж старшую дочь, Иван Николаевич Глинка собирался задать пир на всю губернию, но, видно, не в добрый час сладилась судьба Пелагеи Ивановны.
Еще только начались приготовления к будущему торжеству, еще не успели оповестить о нареченной невесте многочисленную родню, как вдруг последовало распоряжение о всеобщем трауре: волею божьей почил в Таганроге самодержец всероссийский.
Расставшись с излюбленной дорожной коляской, Александр Павлович совершал последнее путешествие в дорожном гробу. Царственный кортеж медленно двигался от Таганрога к Петербургу. Как при жизни, так и после смерти самодержец не давал подданным покоя: для встречи процессии повсеместно сгоняли к дорогам народ.
Однако Смоленщина оставалась в стороне от траурного шествия. Свадебные приготовления в усадьбе Глинок шли своей чередой. Иван Николаевич задумал для семейного события многие сюрпризы: в парадных комнатах решил разбить зимний сад, на Десне перед домом определил быть иллюминации, а на Острове муз приказал соорудить ледяной павильон.
На этот раз, вопреки обыкновению, Иван Николаевич принял во внимание даже музыку. По размаху задуманных увеселений выходило, что одним оркестром шмаковского братца Афанасия Андреевича никак не обойтись.
Потому и решил Иван Николаевич выписать в подмогу лучших музыкантов из Смоленска, а если случится, затребовать их из Москвы.
Но и впрямь не во-время затеялась свадьба Пелагеи Ивановны. До Ельни стали доходить тревожные слухи о петербургских декабрьских происшествиях. Рассказывали, будто восстали злодеи против самого царя и будто бы палили по ним из пушек. Слухи были разноречивы и смутны, однако громом прогремели по всему уезду, даром что пришлось дело чуть не в крещенскую стужу.
В помещичьих усадьбах наглухо запирали ворота, спускали цепных псов и выставляли надежных караульщиков, – по новым слухам – и притом достоверным – выходило, что силы бунтовщиков несметны и посланы ими подстрекатели по всем губерниям и уездам.
Но время шло, а в Ельню никакие смутьяны не являлись. Никто господских мужиков не бунтовал. Тогда, отдышавшись, господа дворяне поучили на конюшнях баламутов, замеченных в дерзости и своевольстве, и стали осматриваться вокруг себя. Давняя неприязнь к Новоспасскому соседу нашла пищу в новых подозрениях: живет фармазон – ни богу свечка, ни черту кочерга; не знай куда холопов гоняет и сам неведомо где рыщет… Откуда вечор на тройке прискакал?
А Иван Николаевич действительно только что вернулся в Новоспасское и, едва переодевшись с дороги, призвал к себе дочь-невесту и счастливого жениха.
– Что нам со свадьбой делать? Сыграть ее, как должно, – тотчас сочтут за нарушение траура, а нарушение траура непременно истолкуют как сочувствие бунтовщикам. – Иван Николаевич помолчал, потом отнесся к жениху: – Не располагаете ли, Яков Михайлович, отложить до времени?
– Откладывать свадьбу?.. – у Якова Михайловича Соболевского даже голос дрогнул.
– Папенька! – перебила жениха Поля. – Ведь на нашу свадьбу Мишель едет, а надолго ли он может от службы отпроситься?
– Ну, коли вы единственно о Мишеле печетесь, мне ли тогда перечить?
Когда же заговорил Иван Николаевич о том, что придется отказаться на свадьбе от всякой пышности и многолюдства, тогда жених и невеста не только не огорчились, но в один голос просили батюшку внять их просьбе и ничем не нарушать семейной тишины.
– До пиров ли сейчас, – горячо сказал Соболевский, – когда льется столько слез в семействах узников? Вы знаете, батюшка, что следом за Петербургом начался розыск в Москве?
– Скорее бы приехал Мишель! – Поля с надеждой посмотрела на отца. – По-вашему, папенька, когда его ждать?
Иван Николаевич незаметно переглянулся с будущим зятем, но, целуя Полю, ответил ей с уверенностью:
– С часу на час должен быть Мишель. Нет причины ему медлить.
Между тем желанный гость не являлся…
В ночную пору долго светились окна в кабинете Ивана Николаевича. Хозяин по обыкновению быстро расхаживал по комнате и размышлял: с тех пор, как прочел он в списке бунтовщиков о «безумном злодее, без вести пропавшем», Вильгельме Кюхельбекере, участь собственного сына стала для него предметом постоянной тревоги. Что будет, если сохранил Мишель дружескую связь с бывшим наставником? По счастью, не знал новоспасский владетель о том, что именно по этому поводу Михаила Глинку возили на ночной допрос к высшему начальству. Ничего не знал Иван Николаевич и о других знакомцах сына: о штабс-капитане Александре Бестужеве, о Кондратии Рылееве и о тех пансионских товарищах Михаила Глинки, которые оказались среди восставших в грозный день 14 декабря 1825 года.
Иван Николаевич подходил к окну кабинета и прислушивался. Вьюга-оборотень прикидывалась почтовой тройкой и, гикая, неслась по Десне.
Не спалось и Евгении Андреевне. Материнское сердце, напуганное слухами, давно утратило покой.
Долги ночи у зимы, а от тревог стали еще дольше. Не спится в светелке и нареченной невесте. Пелагея Ивановна сидит недвижна и пристально смотрит в зеркало, вопрошая судьбу: почему не едет из Петербурга любимый брат? Но молчит девичье зеркало, непривычное к такому спросу. Да и как ему, зеркальцу, ответ держать, если даже в гадальных книгах нет разгадки петербургских происшествий… Только вьюга, разыгравшись, все протяжнее стонет на реке.
Тогда раскидывает невеста карты, и тотчас ложится масть к масти, а сердце к сердцу, и все дороги поворачиваются к семейному дому.
И вдруг, откуда ни возьмись, падает на стол, словно коршун на добычу, пиковый туз! А пиковый туз – кому-нибудь непременно смерть.
– Ой, кому же? – Поля бледнеет и дрожащими руками заново тасует колоду.
К счастью, у зловещей карты есть давняя примета – рубчик на рубашке. Когда перед невестой ложится новый круг, уже не смеет упасть на стол коршун-туз. Все дороги опять поворачиваются к семейному дому, но на сердце ложится какой-то червонный, должно быть денежный интерес. Недовольная таким меркантильным поворотом, опять надолго задумывается Пелагея Ивановна. В светелке воцаряется предутренняя мгла. А январская вьюга знай себе гикает да несется по Десне, будто лихой ямщик, что мчит путника к родному дому да молодецким посвистом задорит усталых коней.
Поля смешала карты и прислушалась – к протяжному посвисту прибавился отчетливый звон колокольчика. Чу! Все ближе и ближе! Кто-то скачет к новоспасскому дому.
Пелагея Ивановна, отбросив карты, сбежала вниз и первая обняла приезжего.
– Мишель! – простонала она, повиснув на нем по детской привычке, и ничего больше не могла сказать.
Михаил Глинка тоже не мог произнести слова. Дожив до двадцати одного года, молодой человек, как и в детстве, не выносил ни дуновения ветра, ни стужи. Под дорожным тулупом и шубой, под всеми одеялами и шарфами он давно превратился в ледяную сосульку.
Весь дом поднялся для встречи дорогого гостя, но Иван Николаевич не дал и короткого часа для общей радости – увел сына в кабинет. Едва здесь заново затопили печку и подали свежий самовар, хозяин закрыл дверь на ключ.
– Не стал бы тревожить тебя после дороги, – объяснил сыну Иван Николаевич, – да ведь сам знаешь, каковы ныне обстоятельства. Скажи мне напрямки, друг мой: точно ли ты благополучен?
– Как видите, батюшка, – Глинка невесело улыбнулся, – мне к выезду из столицы помехи не было, хотя многие столь же неприкосновенные к происшествию, как я, уже пострадали за одно знакомство с несчастными.
– А разве ты со многими из них знался?
– Не буду скрывать от вас, батюшка, и не вижу в том бесчестия себе: среди тех, кого называют злодеями, были люди очень мне знакомые.
– Да на что же рассчитывали безумцы? – Иван Николаевич подбросил дров в пылающую печь и вплотную подошел к креслу, в котором расположился сын. – Поведай ты мне: что замышляли мечтатели и сумасброды, подобные Вильгельму Кюхельбекеру?
– В заговоре сошлись не только мечтатели, – с живостью ответил Глинка. – По собственному наблюдению скажу вам, что там были люди, которые умели сочетать полет мечты со знанием повседневной жизни…
Глинка оборвал речь, потом, внимательно глядя на отца, спросил:
– Приходилось ли вам, батюшка, читать поэмы Кондратия Рылеева?
– Так ведь то стихи, друг мой, – озадачился Иван Николаевич, – но можно ли пиитической мечтой достигнуть перемены в государстве?
– Не стану с вами спорить, – согласился Глинка, – и тем более не стану, что, общаясь с заговорщиками, никогда не подозревал существования заговора и никем не был осведомлен о намерениях, касающихся переустройства государства. Однакоже опять не буду скрывать от вас: я был и остаюсь единомышлен с ними во многом…
– Ты? – Иван Николаевич был так испуган этим признанием, что даже оглянулся на запертую дверь. – Да неужто и ты не уберегся?
– Против рабства восстает ныне каждый честный человек. Не отрекусь и я от этих мыслей.
Михаил Глинка протянул к огню все еще не согревшиеся руки.
– Что предосудительного, если писатели наши, оказавшиеся в заговоре, будили отечественную мысль, – сказал он, – если звали они к тому, чтобы науки и художества служили народу, чтобы жила Россия не чужим умом, а своим, русским разумом и собственными природными талантами? Вот в этом, батюшка, я опять единомышлен с заговорщиками и никогда не отступлюсь. Неужто до веку будем покорствовать заезжим и нашим доморощенным чужеземцам, презирающим народ?
И так разгорячился упрямец сын, что стал рассказывать родителю о собственных опытах сочинения музыки в русском духе. Явление химеры-музыки при столь смутных обстоятельствах было совершенно неожиданно для Ивана Николаевича.
– А, музыка! – рассмеялся он с душевным облегчением. – Оставим, однако, художества тем, друг мой, кто к ним предназначен.
Сын молчал, прикрыв глаза ладонью. Горячность его как будто разом улеглась. Иван Николаевич, отхлебнув пунша, снова вернулся к петербургским происшествиям.
– Если говорить о судьбах отечества, – сказал он, – мне ли не знать, сколь пагубно для дел рабство. Но могут ли исцелить эту вековечную язву младенцы, которые идут на бунт, не взвесив ни сил, ни обстоятельств? Мечтатели и стихотворцы – им ли повернуть кормило государства? Коли героев не имеем, то и в дон-кишотах нужды нет…
– Не дон-кишоты, батюшка, созидали Русь, – снова разгорячился Михаил Глинка. – Вся история наша свидетельствует о героическом. И те, кто стоял в Петербурге у сенатских стен, не против ветряной мельницы сражались. Неужто же в безвременье нашем сызнова не явятся герои?
– Не нам с тобой их искать, – отвечал Иван Николаевич. – Подражать древнему Диогену было бы сейчас бесполезно, а по обстоятельствам нашим и небезопасно. Ты уверен, друг мой, что не тянутся за тобой нити подозрения?
Глинка отвечал уклончиво. Рассказал о всех своих друзьях и знакомых, схваченных властями, и снова вернулся к допросу, которому подвергался из-за знакомства с Кюхельбекером.
– Не поздоровится теперь и сутокским Глинкам по родству с беглым государственным преступником, – размышлял вслух Иван Николаевич. – А Устинью Карловну Глинку и вовсе затеребят, когда станут спрашивать о местонахождении брата. Далеки мы с ними, слов нет, – продолжал он, – а все же надобно учесть, что уже поминают при следствии фамилию нашу. Смотри, друг мой, остерегись! Сам знаешь, береженого и бог бережет.
Иван Николаевич особо упирал на страхи соседей и добровольный сыск, которым встречают в уезде каждого приезжего.
Зимнее утром было в разгаре. Только солнце не показывалось из-за низких туч. Даже наверху, в бывших детских Михаила Глинки, было сумрачно. И старое фортепиано, стоявшее с наглухо закрытой крышкой, казалось, сурово и недоброжелательно встретило молодого человека, явившегося в Новоспасское с места смутных петербургских происшествий.
Глава вторая
– Когда же прикажете, Михаил Иванович, нам явиться?
– Повременим, Илья, – отвечает Глинка первому скрипачу дядюшкиного оркестра и продолжает расспросы о музыкантах.
– Да что им делается, Михаил Иванович!
– А Тишка-кларнет, слыхал я, грудью болел, теперь как?
Илья неохотно отвечает на вопросы, недостойные барского внимания, потом снова вопрошает, почти с отчаянием:
– Да какие же, Михаил Иванович, ваши распоряжения касательно оркестра будут?
– Сам в Шмаково приеду, когда понадобитесь, – решительно ответил Глинка, да так и отпустил озадаченного Илью.
Никогда не бывало, чтобы, приехав домой, тотчас не потребовал молодой человек дворовых музыкантов шмаковского дядюшки Афанасия Андреевича и не стал бы разучивать с ними новую пьесу. Но теперь Глинка почти не выходил из своих комнат и, повидимому, пребывал в бездействии. Даже уединение, обычно столь благотворное для работы, на этот раз не побуждало его к музыкальным опытам. Память постоянно возвращалась к декабрьским дням.
Сочинитель пробовал было вернуться мыслью к альтовой сонате, начатой в Петербурге, но странное дело – в величественные звуки аллегро врывался визг картечи; когда же обращался он к вешней теме, избранной для русского рондо, эта светлая песенная тема казалась теперь такой же далекой, как собственное безоблачное детство. Оцепенение, начавшееся в Петербурге, не проходило.
А по всему дому шли как ни в чем не бывало предсвадебные хлопоты. Правда, невеста вместе с Евгенией Андреевной отправилась за последними покупками в Смоленск, но швеи, кружевницы и золотошвейки работали повсюду, даже в верхних детских. И у девочек затеялись новые игры. Женихи толпами сватались к куклам. Куклы сидели чинно и, как благовоспитанные девицы, притворялись равнодушными. Зато Машенька, Лиза и Людмила наперебой вели разговоры со свахой, которую изображала Наташа. Как и младшие сестры, она отдавалась игре с истинным вдохновением.
– Только вы-то, матушка барыня Марья Ивановна, не скупитесь, – выпевала сваха и, расправив складки ковровой шали, язвительно поджимала губы. – Ох, и скупеньки вы, благодетельница, всего две шубы за невестой даете да салоп сам-один. Где такое видано? С этаким приданым и жениху обида, и свадьбу засмеют!
Машенька торговалась и крепилась. А краснощекая Наташа все больше и больше увлекалась.
– У Солдатенковых, – сыпала она мелким горохом, – намедни три салопа за девицей дали, а жених-то против моего, прямо сказать, квач! – Наташа форсисто расправляла плечи и доверительно понижала голос. – И непьющий мой-то, с Покрова зарок дал… Меньше двух салопов и смотреть не станет…
Михаил Глинка, шагая по коридору, долго прислушивался к этим монологам, потом заглянул в детскую.
– А вы, Наталья Ивановна, меня посватайте, – сказал он, едва сдерживая смех, – возьму невесту и вовсе без салопов.
Девочки сорвались с мест и, визжа от восторга, бросились навстречу брату. Только Наташа не отступила перед неожиданностью.
– И рада бы, Михаил Иванович, – снова пела она, с сомнением покачивая головой, – да как же вас благородным невестам сватать, коли вы на селе на посиделках пропадаете? Какая же, извините, благородная девица за вас пойдет? Мерси боку…
Но тут ковровая шаль слетела с плеч, и Наташа залилась смехом.
– К вечеру опять, поди, на посиделки отправитесь? – Наташа лукаво подмигнула. – Нам, свахам, все известно.
– А коли так, то вместе и пойдем, – предложил Глинка.
Песни, ютившиеся по курным избам, предстали перед ним в этот приезд совсем с новой стороны. Идя вечером с Наташей на село, Глинка глянул на серебряную тишь парковой аллеи, потом перевел глаза на сестру.
– Вот ты, Наташенька, на песни мастерица, а приметила ли ты, какая пропасть отделяет воображаемый мир, созданный народом в песнях, от мира вещественного, в котором народ живет?
Но вместо ответа Наташа взмахнула руками и куда-то провалилась.
– Да помогите же мне выбраться, братец! – взмолилась она, барахтаясь в сугробе.
Глинка подал ей руку, и пока Наташа топала валяными сапожками, отряхивая снег, сказал ей наставительно:
– А если будешь топтаться на месте и слов моих не поймешь, никогда не станешь истинным артистом.
– Господи, мне в артисты! – испугалась Наташа. – Вы хоть при папеньке этого не скажите, а то достанется нам обоим.
– А ты все-таки послушай, – Глинка взял Наташу под руку, чтобы продолжать путь, – я открою тебе предмет, достойный того, чтобы над ним задуматься… В жизни нашей даже живые человеческие души и те закрепощены, а глянь в песни – весь порядок держится в них на полном раскрепощении голосов. Нету, значит, среди песенных голосов ни господ, ни подначальных.
– Братец, – с опаской перебила Наташа, – неужто и вы тоже бунтовщик?
Глинка недовольно покачал головой.
– Я тебе, глупая, о песнях толкую. В песни ни одно начальство носа не совало, а ты присмотрись да рассуди: складываются в песнях голоса не по чьему-нибудь хотению, а по собственному соизволению. Так?
– Конечно, так, – подтвердила Наташа. – А помните, братец, вы раньше говорили, будто в песнях – правила? А вот и нету их, правил, теперь сами признали.
– Насчет правил вопрос особый, – не согласился Глинка. – А кто этак голоса сладил? Народ!
Наташа схватила Глинку за руку, как будто снова о чем-то догадалась.
– Братец, вы опять о бунтовщиках?
– Эх, дались вам бунтовщики! – с досадой отвечал Глинка. – Да ты-то откуда о них знаешь?
– Яков Михайлович еще до вашего приезда толковал, – призналась Наташа. – И насчет народа тоже… – Девушка посмотрела на брата и, хоть шли они по безлюдной дороге, заговорщицки прошептала: – Неужели и в песнях наших тоже бунт, братец?
– Признаюсь, – Глинка даже остановился посреди дороги, – только тебе одной могло этакое в голову прийти. Сделай одолжение, заруби себе на носу: в песнях наших вовсе не бунт, а высшее проявление свободы каждого голоса в общем их согласии, сиречь высшая гармония…
Но тут Наташа ахнула:
– Братец, мы никак опоздали!
Они подходили к неказистой избе, стоявшей на отлете от села. Кто-то открыл дверь на улицу, и вместе со слабым отсветом лучины до путников долетели стройные молодые голоса. Закрепощенные люди создавали в своем пении ту самую вольную гармонию, которая всегда была душой артельной русской песни.
Как будто и не имели эти песни никакого отношения к петербургским происшествиям, но разговор, начатый с Наташей, Глинка все чаще и чаще продолжал наедине с собой.
Те сочинители, которые участвовали в восстании, давно говорили о прелести народных песен. Уже призывали они отечественную словесность обратиться к этому чистому роднику мудрости и вдохновения, но еще никто из них не проник в самую сущность хорной песни. А ведь именно песенные голоса не меньше, чем слово, являют вольный распорядок, желанный народу.
Еще резче обозначились перед Михаилом Глинкой латаные крыши мужицких изб, еще памятнее стали извечные мужицкие разговоры о мякине. То и дело шушукались на селе о поимке в округе беглых, о продаже людей на свод… Словно отдернул кто-то завесу и зловещее рабство предстало во всей наготе. А Иван Николаевич возьми да и скажи сыну:
– Уже болтают у соседей, друг мой, что ты приехал бунтовать мужиков, а может, и сам скрылся от правительства. Охотников на ябеду у нас не занимать стать, а время, сам знаешь, какое. Остерегись, друг мой!
И, как будто для подтверждения батюшкиных слов, Евгения Андреевна и Поля, вернувшись в Новоспасское, привезли тревожное известие: в Смоленске взят и под строжайшим караулом отправлен в Петербург дальний родственник Ванюша Кашталинский. Новость поразила Глинку: неужто и в Смоленске существовал заговор, а из тихого Ванюши вырос грозный заговорщик?
– Пустое! – решил Иван Николаевич. – Ванюша каждого квартального боялся – ему ли ниспровергать правительство? Я не иначе располагаю: доносители сбирают жатву. Им ли теперь зевать?
Выждав, когда Евгения Андреевна ушла к себе, Иван Николаевич продолжал:
– Не прав ли я был, Мишель, взывая к осторожности? Ты говоришь, на селе мужиковы песни слушаешь, а какой-нибудь дальновидный ум ябеду настрочит: знаем, мол, какие он там с мужиками песни заводит!
– Но вы же сами изволили говорить, батюшка, что музыкальным занятиям моим никто препятствовать не будет?
– А коли хочешь, опять повторю. – Иван Николаевич посмотрел на сына с недоумением. – Однако мужицкие-то песни тебе на что? В них какая музыка?
Надобны были чрезвычайные обстоятельства, чтобы завел Иван Николаевич разговор о музыке. Впрочем, опять кончился он без результата. У новоспасского хозяина начинались прорухи в собственных делах. Ожегшись на кожевенном заводе, искал он вкладчиков для ткацкой мануфактуры. Но, по тревожному времени, вкладчики не находились. К тому же требовала немалых денег предстоящая свадьба, а из-за всеобщей сумятицы Иван Николаевич находил их с большим трудом.
Приданое Пелагеи Ивановны уже было отправлено на будущее ее жительство, в село Руссково. Уже назначен был и день свадьбы. Поля доживала в своей светелке последние девичьи дни и была похожа на птицу-пересёлку. Глинка часто засиживался у сестры. Невеста то вся светилась от счастья, то бледнела от тревоги: жених ускакал в Москву и не возвращался.
– Ни в чем не замешан Яков Михайлович, – успокаивал Полю брат, – ништо ему Москва. Считает часы и минуты до встречи с тобой, а на дела времени не хватает. И скучать причины тебе вовсе нет: вы хоть вместе, хоть врозь – все равно неразлучны.
А Поля обняла брата, и вдруг из сияющих ее глаз хлынули слезы.
– Я так счастлива, Мишель, – говорила она, а слезы градом катились по побледневшим щекам, – и я боюсь этого счастья… Я, наверное, умру, Мишель…
– Полно, что ты говоришь! – Глинка совсем растерялся, не зная, как утешить сестру.
– А может быть, так всегда бывает перед свадьбой? – по-детски всхлипывала Поля.
– Ну конечно, перед венцом все девицы непременно плачут.
Но уже пронеслась набежавшая тучка, и Полины глаза снова сияли.
– Как бы я хотела, Мишель, чтобы ты жил с нами в Русскове! Не уезжай, милый, в этот ужасный Петербург!
– Мне вовсе и не хочется туда ехать, даю в том слово.
– Да? – обрадовалась Поля. – Но твоя музыка!.. – снова огорчилась она.
– А помнишь, Поленька, какие неприятности музыка чинила тебе в детстве?
– Еще бы! Я и сейчас с трудом разбираю ноты.
– Тебе в том большого убытка нет, а вот мне ныне достается… – Глинка тяжело вздохнул.
– Недаром ты теперь совсем не играешь, – посочувствовала Поля.
– Что делать? Решительно ничего не могу произвести, – отвечал Глинка и снова отдался воспоминаниям детства: – Помнишь, как у тебя ноты с линейки на линейку прыгали?
– Еще и хуже бывало, – воодушевилась Поля. – Как соберутся все в кучу, ни одной не разберу!
– Ну, у меня они так вести себя не смеют, – Глинка рассмеялся. – Я беспорядка не потерплю. И что ж ты думаешь? Теперь они мне по-иному мстят. Я их по соображению на линейки рассажу и рад: вот, мол, какое чудо сочинил… – Он оборвал речь и закончил с грустью: – А пригляжусь – одни чучела сидят.
– Какой ты странный, Мишель! – Поля коснулась его руки. – Ты никогда так не говорил о музыке.
– А надобно так говорить, если чучел ей не занимать стать. – Казалось, он в эту минуту забыл о сестре, отдавшись мысли, которая не давала ему покоя. Потом он обернулся к Поле и озадачил ее совсем непонятной речью: – Однако не намерен я изобретать чучела для чучел! На то и без меня охотников довольно… Но где они, российские герои?
Глава третья
В тот самый час, когда Михаил Глинка вопрошал сестру о российских героях, к новоспасской усадьбе подъехал семейный возок господ Ушаковых. Это были первые гости, прибывшие на свадьбу из Смоленска.
Пока в нижних комнатах приносились поздравления невесте, в верхних покоях, отведенных молодому хозяину, царила полная тишина.
Укрывшись в своих комнатах, молодой человек выжидал удобной минуты, чтобы незаметно исчезнуть из дому. Если не случится сегодня посиделок в Новоспасском, придется пройти за песнями еще с версту – до Починка. Стоя у стола, Глинка раскрыл первую попавшуюся на глаза книгу. Тут же, на столе, тщательно сохранялись спутники детства: и гербарий, и диковинные камешки, обточенные Десной, и любимейшая из книг – «История о странствиях вообще по всем краям земного круга». Рядом покоятся и детские тетради с выписками из «Странствий», над которыми он когда-то столько потрудился.
Возвращаясь в отчий дом, Глинка всегда оглядывался на эти памятные меты жизни, словно измеряя пройденный путь. Любимые «Странствия», как встарь, приглашали в неведомую даль. А на соседней полке покоился недавний его набросок – вариации на тему песни «Среди долины ровныя». Уже в первой из этих вариаций в лад главному голосу по-своему вторили подголоски. И веяло от них тем полевым раздольем, в котором родилась сама песня. Но недаром пьеса была положена на полку – вариациям все еще не хватало той высшей свободы, с которой сливаются в русской песне голоса.
Размышляя, Глинка постоял у клеток с птицами, которых, как и в детстве, завел во множестве. В смутном видении ему слышались звуки, не похожие на прежние его создания. Может быть, эти звуки стали бы еще явственнее, если бы не спугнул их чей-то нетерпеливый стук. Стук повторился несколько раз.
– Войдите!
– Мишель, – еще с порога начала Поля, – узнаешь ли ты нашу дорогую гостью?
А гостья уже впорхнула в комнату и, смеясь, но ничего не говоря, протянула ему руки.
– Не узнаешь? Ну, конечно, не узнаешь! – с торжеством повторяла Поля. – Да ведь это Лизанька Ушакова!
Он с трудом узнал девушку, которую не видел с детских лет. Если бы с унылого январского неба вдруг сверкнула ослепительная молния, он не был бы так поражен. Глинка то глядел, опешив, на гостью, то готов был зажмурить глаза. Он любезно усадил Лизаньку и, разговаривая с ней, все еще присматривался: когда и где могла расцвести эта благоуханная лилея?
Озабоченная приемом гостей, Поля даже не заметила растерянности брата.
– Мишель, оставляю Лизаньку на твое попечение, – сказала она и убежала вниз.
Молодые люди сидели на диване и продолжали разговор. Глинка еще явственнее ощутил теперь благоухание Лизаньки, в котором не были повинны ни аглицкие, ни французские парфюмеры. Должно быть, поэтому у него и не кружилась голова.
– Как мы заболтались, однако! – спохватилась девушка и тут же вылила на собеседника ушат холодной воды: – А давно ли вы были ужасным мальчишкой, Мишель! Когда я у вас гостила, вы глядели на меня букой и ни разу со мной не танцевали, только пиликали в оркестре, вот так! – Лизанька состроила мрачную рожицу и смешно ударила по воздуху воображаемым смычком.
Глинка, улыбаясь, следил за взмахами ее руки.
– Признаюсь, – сказал он, – я был в те времена плохим кавалером.
– Кавалером?! – возмутилась Лизанька. – Вы были самым отвратительным созданием на свете!
– А теперь? – Глинка коснулся ее руки. – Теперь, – продолжал он, – я надеюсь заслужить ваше снисхождение и надеюсь тем более, что вовсе не играю в оркестре.
– Еще бы! – сказала девушка и медленно отвела руку. – Пристало ли скрываться в оркестре столь славному сочинителю?
Он даже не понял, о чем она говорит.
– Вы, наверное, с пренебрежением судите о провинциальных девицах? – продолжала Лизанька. – Но знайте, сударь, я готова за них вступиться… Уверяю вас, мы умеем ценить изящное.
И она вдруг вполголоса напела:
- Не искушай меня без нужды…
– Откуда вы узнали этот романс? – только и нашелся спросить растерявшийся автор.
- Не искушай меня без нужды… —
снова запела Лизанька, искушая каждым звуком.
– Но, умоляю вас, скажите мне: как узнали вы этот романс? – снова повторил заинтригованный Глинка.
– Я знаю о вас гораздо больше, чем вы думаете, – ответила Лизанька и, выдав себя, смутилась совсем по-детски.
На минуту воцарилось молчание.
– Я полюбила ваш талант и непременно сама написала бы вам об этом, если бы не случилась наша встреча. – Лизанька покраснела еще больше и доверчиво закончила: – Только, умоляю, не судите меня за признание. Что делать, я не похожа на тех жеманниц, которые стыдятся говорить о чувствах…
Птицы в клетках, чинно расположившись на жердочках, выжидательно молчали. Только некоторые из них перебрасывались ничтожными репликами, как бывает у равнодушных зрителей во время увертюры.
Но в это время в рассказе Лизаньки мелькнул дядюшка Иван Андреевич, и тогда Глинка понял, как дошло петербургское «Разуверение» до смоленского дома Ушаковых. Впрочем, теперь это вовсе не интересовало сочинителя.
Прошел всего час, а может быть и два с появления гостьи, но уже было совершенно ясно, что без нее комнаты Михаила Глинки были лишь мрачным логовом. Он особенно остро это ощутил, когда проводил Лизаньку вниз и вернулся после ужина к себе.
В те дни ни песни, ни российские герои не являлись более в верхних комнатах новоспасского дома. Одной лилее Лизаньке было предоставлено властвовать здесь.
А гости, с легкой руки господ Ушаковых, съезжались на свадьбу во множестве. Каждый день прибывали новые семейные возки. Из возков, как птицы из гнезда, выпархивали губернские и уездные девы. Вернулся из Москвы счастливый жених.
Весь дом полнился веселой неразберихой.
Никто не обратил внимания на то, что Михаил Иванович, раньше сидевший сиднем в своих комнатах, стал принимать участие даже в дальних прогулках. Никто не удивлялся, видя его участником всех домашних увеселений.
Только счастливая Поля все чаще делилась наблюдениями с будущим мужем.
– Послушай, – Поля прятала голову на груди у жениха, – а что, если… Ой, как бы я была счастлива за Мишеля и Лизаньку! Ведь это может быть?
– Что, радость моя? – отвечал Яков Михайлович, плохо вслушиваясь в смысл Полиных речей.
– Какой ты непонятливый… – смущалась Поля. – Ведь никто не знает, когда и как приходит любовь… Когда ты читал мне из Вальтер Скотта про Матильду Рокби, ты ведь тоже ни о чем не догадывался?
– Но Мишель не читает Вальтер-Скотта с mademoiselle Ушаковой, – серьезно возражал Яков Михайлович.
– Ой, какой ты у меня глупый! Ну, при чем тут Вальтер Скотт?
А Соболевский, обняв Полю, целует ее в лоб, в глаза, в губы, в зардевшееся ушко. Поля стихает, с трудом привыкая к этому потоку ласк, и только скупым счетом дарит избраннику ответный поцелуй…
В то время, когда в Полиной светелке происходил этот разговор, Глинка брел с Лизанькой по заснеженному Амурову лужку. Озябшая Лизанька тщательно куталась в шубку.
– Что это? – спросила девушка, протянув руку к дощатому футляру, под которым был укрыт на зиму резвокрылый мраморный бог.
– Амур, – отвечал Глинка.
– Любовь! – многозначительно перевела Лизанька.
Она стояла, крепко опираясь на руку кавалера; ее щека коснулась его щеки.
– Мишель, – едва слышно сказала Лизанька, – стали бы вы прятать от людей свою любовь?
– Никогда, – отвечал он, – если бы только она пришла!
– Если бы… – еще тише повторила девушка.
Мраморный бог, укрытый в ржаную солому и грубые доски, ничего не видел и не слышал…
…Накануне свадьбы на одной половине новоспасского дома справлялся мальчишник, на другой – шел запретный для кавалеров девишник. Потом все спуталось, потому что затеялась ночная гоньба на тройках, и дом мигом опустел.
Михаил Глинка не принял участия в этом предприятии, столь сомнительном для молодого человека слабого здоровья. Он слышал, как замерли вдали последние звуки бубенцов, как отошли ко сну почтенные гости и хозяева.
Бледный от волнения, Глинка чего-то ждал. Он прислушивался к каждому шороху и готов был принять биение собственного сердца за чью-то быструю поступь. Потом, решившись, молодой человек вышел в коридор. В полной темноте он осторожно миновал бывшую классную и вошел в ту комнату, в которой произошла когда-то его первая встреча с музыкой. Здесь он остановился подле промерзшего окна. Ни один звук не нарушал таинственного покоя ночи.
– К тебе пришла твоя любовь, – прошелестел чей-то голос.
И Глинка обнял Лизаньку, трепещущую от страха и смущения.
– Ты обещал мне быть благоразумным, – повторяла она, отбиваясь от поцелуев, – ты обещал…
Только ночь, шествуя по дому, была свидетельницей признаний, восторгов и слез. Ни один предостерегающий звук не нарушил тишины, ни один бледный луч луны не упал на изящную головку девушки, склонившуюся на грудь молодого человека. Сладостное их молчание могло бы продолжаться бесконечно, и уже молил влюбленный о том, чтобы остановилось время.
Но Лизанька вдруг откинула голову, потом отвела пышный локон, спустившийся ей на ушко.
– Сумасшедший! – шепнула она, к чему-то прислушиваясь. – Нас застанут…
Дева выскользнула из рук счастливца и, как тень, исчезла.
Глинка приник горячим лбом к промерзшему стеклу.