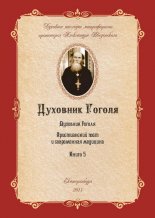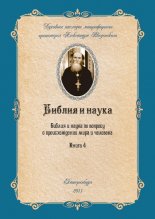Впереди идущие Новиков Алексей

Часть первая
Глава первая
Почтовый дилижанс следовал из Москвы в Петербург. Как водится, попутчики давно перезнакомились. Отправясь в дальнюю дорогу, люди, известно, о многом переговорят, всякое вспомнят.
Только один пассажир не принимал участия в разговорах. Он кутался в истертую шубейку, натягивал поверх нее плед – и все-таки не мог согреться. Жестокий январский мороз добирался до костей, а дилижанс, ныряя из ухаба в ухаб, двигался так медленно!
Путешественник нахлобучивал теплую шапку, прятал лицо в вязаный шарф и, кажется, дремал. Впрочем, и в дреме он ни на минуту не выпускал из рук объемистый портфель.
Когда в промерзлых окнах кареты проплывали встречные тусклые огни и пассажиры торопились обогреться на почтовой станции, путник в истертой шубейке выходил последним, бережно неся неразлучный портфель.
Он торопливо хлебал жидкие щи, с жадностью пил горячий чай, а потом, глотнув морозного воздуха, заходился в карете от кашля. Кашель был такой глубокий, надрывный и долгий, что на лбу, несмотря на мороз, выступала испарина.
Попутчик, по-видимому из отставных чиновников, долго присматривался к страждущему человеку.
– Изволите, сударь, жительствовать у нас в Москве?
– Нет, в Петербурге, – коротко отвечал хмурый пассажир, не выражая ни малейшего желания продолжать разговор.
– Так-с… А ведомо ли вам, милостивый государь, что под Москвой обитает богоугодный старец и саморучно настаивает чудодейственный травник? Если пить тот травник с молитвою – как рукой снимет всякую грудную болезнь.
– Травник? – с явным недоверием переспросил купеческий сын, ехавший в Петербург по тятенькиной скобяной надобности. – Пито этих травников нашим родителем – беда! Забирает действительно крепко. А последствие одно: еще больше на опохмёл тянет.
– Самое верное дело – парная баня, – вмешался пассажир в медвежьей шубе. – С употреблением горячительного, конечно, но в меру – сколько душа примет.
– А душа, вестимо, меру должна знать, – подтвердил купеческий сын.
Разговор стал общим. Только путешественник, возбудивший сочувствие, по-прежнему молчал да крепко держал в руках портфель.
Этот портфель давно привлекал любопытствующие взоры. По всему видать, не дал бог достатка человеку, если не сумел он нажить даже приличной шубы, – какое же может быть сокровище в портфеле, чтоб держаться за него обеими руками?
А если бы раскрыть тот таинственный портфель, обнаружились бы аккуратно исписанные листы и заглавие, выведенное крупными буквами: «Мертвые души. Поэма Н. Гоголя».
О «Мертвых душах» давно идут нетерпеливые толки. Шутка ли, сколько лет молчал Гоголь после «Ревизора»! Пока что автор прочел поэму только немногим избранным друзьям и требовал от них соблюдения строжайшей тайны. Но кто из счастливцев удержался, чтобы не шепнуть приятелю: читал, мол, вчера Гоголь из нового…
Гоголь читал в Москве, а эхо откликалось в Петербурге. Кажется, только сам Николай Васильевич еще верил, что тайна чтений сохраняется.
Весть о поэме, которую привез Гоголь, возвратясь на родину из прекрасного далёка, летела с быстротой молнии. Как не ждать новой встречи с писателем, который приковал к себе взоры всей России… А «Мертвые души», вместо того чтобы быть в типографии, путешествуют в почтовом дилижансе.
Правда, сам автор вручил рукопись пассажиру, замерзающему в ненадежной шубейке.
– Сделайте одолжение, Виссарион Григорьевич, – сказал ему Гоголь, – отвезите мое многострадальное детище в Петербург.
…Далеко отъехала почтовая карета от Москвы, а Виссариону Белинскому все еще видится автор «Мертвых душ», слышится его голос.
Критик, который первый предрек Гоголю великое поприще, и автор «Мертвых душ» давно не виделись. При встрече в Москве Белинского поразило истомленное лицо Гоголя, даже походка его стала расслабленной и шаркающей.
Николай Васильевич, сразу приступив к делу, начал рассказывать о мытарствах «Мертвых душ» в московской цензуре. И тотчас как живые предстали в этом рассказе московские цензоры.
– «Как это может быть – мертвые души? – Гоголь, войдя в роль председателя цензурного комитета, многозначительно пожевал губами и взглянул на Белинского округлившимися от страха глазами. – Души – и вдруг мертвые? – Николай Васильевич снова пожевал губами. – Почему же, однако, мертвые?»
«А потому и мертвые, ваше превосходительство, что нынешние модники не признают даже бессмертия христианской души…» – Изображая кого-то из членов цензурного комитета, Гоголь наморщил лоб, лицо его вдруг окаменело.
Николай Васильевич поднялся с кресла, представив еще чью-то фигуру, уморительно похожую на восклицательный знак, затесавшийся не к месту посередь строки. Это цензор-докладчик, прерванный председателем на полуслове, теперь сыпал витиевато-почтительной скороговоркой.
– «Долгом считаю пояснить, ваше превосходительство, что в представленном на рассмотрение комитета сочинении подразумевать надо не мертвые души, так сказать, вообще, – Гоголь сделал округлый жест рукой. – Но имеются в виду единственно помещичьи крестьяне, свершившие земной путь, сиречь ревизские мертвые души».
«Ревизские души?! – Гоголь вновь принял обличье председателя, и Белинскому ясно представилось, как взметнулись председательские бакенбарды. – Да ведь если есть в сочинении хотя бы одно подобное слово, так это значит – против крепостного права? Трижды запретить!»
Положительно, Николая Васильевича нельзя было узнать. Вместо человека, удрученного несчастьями, перед Белинским был прежний Гоголь – великий мастер-лицедей. Один за другим оживали в его изображении чиновники цензурного комитета, толстые и тощие, дряхлые и в цвете лет, каждый со своей повадкой; даже вицмундир каждый обдергивал по-своему.
Но тут Николай Васильевич оборвал рассказ, и Белинский снова увидел измученного человека, ушедшего в горькие думы…
… – Вот она – наша злодейская, кнутобойная и тупоголовая цензура!
Хрипловатый голос Виссариона Григорьевича прозвучал в почтовой карете неожиданно громко. Кто-то из пассажиров спросонья бросил на него недоуменный взгляд, прочие согласно кивали головами. Это отнюдь не означало, однако, какого-нибудь мнения о цензуре, но целиком зависело от покачивания кареты и неодолимой дремоты.
Совсем близко заливчато зазвенели бубенцы. По тракту пролетела, обгоняя медлительный дилижанс, чья-то тройка да гикнул на коней лихой ямщик. И снова настала тишина.
Белинский отодвинулся от пассажира в медвежьей шубе, расположившегося в карете, как в собственной спальне, и снова отдался воспоминаниям.
– Скажите же на милость, Виссарион Григорьевич, – спросил в недавнюю встречу Гоголь, и в голосе его отразилось искреннее недоумение, – в чем я согрешил? Ей-богу, ни в чем закона не нарушил. За что же ополчился на меня цензурный комитет? – Он взглянул на собеседника, словно ожидая, что вот сейчас и подтвердит ему Виссарион Белинский: нет, мол, и не было на Руси более благонамеренного писателя, чем Николай Гоголь. А Белинский хорошо помнил свой ответ:
– Нет у нас Пушкина, не стало Лермонтова, вы один теперь у России, Николай Васильевич! Понятия не имею я о содержании «Мертвых душ», но знаю наперед: каждое слово ваше поставят вам в вину, и не только в цензуре.
– Помилуйте, какая же моя вина? – Гоголь так удивился, что даже откинулся в кресле. – Ну, может быть, в каком-нибудь иносказании я и преступил, допускаю… Так ведь для того и поставлены над нами попечительные цензоры…
Автор «Мертвых душ», рассуждавший о попечительной цензуре, вдруг заговорщически улыбнулся.
– А что же делать, – продолжал он, косясь на Белинского, – если не дал мне бог умения окуривать людские очи упоительным куревом? На то и без меня охотников довольно. Только я, грешник, никак не потрафлю своей лирой на высокий лад…
Пока Гоголь жаловался на непокорную лиру, Белинский выжидал удобной минуты, чтобы начать задушевный разговор. А Гоголь опять замолчал. Потом сказал тихо, будто открывая великую тайну:
– Прежде всего надо очиститься Руси от всякой скверны.
– А как же будем очищаться, Николай Васильевич? Какой метлой? Какой скребницей? – горячо спросил Белинский.
Тут бы и начаться важнейшему разговору…
– Валдай! Валдай! – раздался над самым ухом Белинского чей-то нетерпеливый тенорок, вовсе не похожий на голос Гоголя.
Виссарион Григорьевич с трудом открыл глаза.
– Сейчас горячих баранок у валдайских девок накупим! – объявил купеческий сын, ехавший по тятенькиной надобности.
Белинский тяжело вздохнул. Еще только Валдай! А ноги совсем застыли.
У станционного здания торговали баранками разбитные валдайские красавицы. На станции было полно проезжих. Двери то и дело открывались. Мороз врывался в помещение облаком густого, висячего пара. Снаружи были слышны крики ямщиков, ржание лошадей и звон валдайских колокольцев.
Дорожная Русь жила привычной жизнью. Хлопнет рукавицей о рукавицу ямщик, подберет вожжи: «Эй, любезные!..»
И смотришь, станционный самовар встречает песней новых гостей; снова открываются двери, и морозное облако накрывает белой шапкой все – и проезжих, и столы с неубранной посудой, и самого станционного смотрителя, вздумавшего прикорнуть у горячей печки. Да когда же смотрителю спать!
– Запрягать фельдъегерских!
– Лошадей! Живо!
А ведерный самовар, набравшись свежих угольев, как фыркнет на проезжую особу, будь особа хоть в бобрах или енотах. Ему, туляку, что…
…Медвежья шуба снова прижала Белинского в угол почтовой кареты. Карета продолжала путь в Петербург.
Виссарион Григорьевич безотрывно смотрел в промерзлое окно. Теперь-то он наверняка не спит и даже не дремлет. Почему же вдруг видится ему среди узоров, выведенных на стекле морозом, чье-то милое лицо, чей-то приветливый взгляд? Наваждение, истинное наваждение!
Посмотрел Виссарион Григорьевич еще раз на промерзлое окно – искрятся одни алмазные узоры. И в Москве тоже решительно ничего не было. Пора расстаться с несбыточными мечтами, когда пошел человеку четвертый десяток.
Мысли его вернулись к Гоголю. Хитер оказался Николай Васильевич! Ведь и приехал-то он к Белинскому тайком, ускользнув от своих друзей москвитян – профессоров Погодина и Шевырева.
Усердно холопствуют эти господа профессоры на страницах своего журнала «Москвитянин» перед российским самовластием и печатают откровенные доносы на инакомыслящих, в первую очередь на него, Белинского: вот он, возмутитель шатких молодых умов!
Такой донос, писанный опытной рукой профессора Шевырева, и прочитал на страницах «Москвитянина» Виссарион Белинский, будучи в Москве.
Знал ли об этом доносе Гоголь? Не мог не знать. Но ни словом не обмолвился. Правда, Гоголь не дает ни строки в «Москвитянин», – стало быть, не желает иметь с этим журналом ничего общего. Но вот загадка: когда приезжает Николай Васильевич в Москву, всегда останавливается у издателя «Москвитянина» профессора Погодина, в его доме на Девичьем поле. А там зорко стерегут его москвитяне и вся славянофильская нечисть.
О, как бы надо было иметь с Гоголем важнейший разговор! Но уклонился Николай Васильевич. Ничего не ответил насчет метлы или скребницы, потребной для очищения Руси от скверны. Только развел руками и опять перевел разговор на «Мертвые души».
– Буду искать высшего суда в Петербурге, – сказал он. – Пусть ближние мои похлопочут – и граф Виельгорский, и профессор Плетнев, и князь Одоевский. К ним обращаю челобитье: как же можно лишать меня плодов семилетнего труда и последнего куска хлеба! А ходатаи мои пусть не обойдут и любезнейшую Александру Осиповну Смирнову – у нее легкая, но сильная рука во дворце…
И вот Белинский везет в Петербург драгоценную рукопись и скорее пожертвует жизнью, чем допустит ее пропажу. Наконец-то между литературных пустоцветов и ядовитых пузырей раздастся долгожданный голос Гоголя. При одной этой мысли согревалась душа. А цензура? И становилось Виссариону Григорьевичу так зябко, что он дыханием согревал руки. Но руки все равно деревенели.
Дилижанс тянулся от станции к станции, а Белинский уже видел себя дома, за рабочей конторкой. Он знает, как ответит в «Отечественных записках» на донос «Москвитянина». Не умом или талантом опасны эти ученые холопы. Страшны они угодливым оправданием многоликого российского зла.
– Все они в Москве шевыревы!
Вырвалось, конечно, по горячности. В Москве были у Белинского многие встречи, с разными людьми. Но между всех хлопот и переговоров о журнальных делах случилась, между прочим, еще одна встреча с девушкой зрелых лет и трудной судьбы – из тех, кто весь век мыкается в гувернантках, переходя из одного барского дома в другой или из пансиона в пансион.
А если и была такая встреча, что из того? Ведь и раньше, еще в студенческие годы, он видел эту девушку, – правда, очень редко и случайно. И оба они были тогда моложе. Вот и все! Мало ли кого можно снова встретить в Москве…
Однако же впечатления от этой встречи оставались многообразны, противоречивы, беспокойно-радостны, но смутны.
Под Петербургом зимняя дорога была совершенно разбита. Дилижанс плыл, качаясь, как корабль на волне. В тесноте с трудом разъезжались встречные экипажи. Барские откормленные кучера истошно ругались. С унылого петербургского неба сыпался мокрый серый снег.
Добравшись до дома, Белинский вынул из портфеля рукопись Гоголя. Долго не отрываясь на нее смотрел. Взять бы да и прочесть не переводя дыхания! Но Николай Васильевич не сделал такого предложения. И то сказать: дорог каждый час в хлопотах о спасении поэмы.
Едва обогревшись после утомительного путешествия, Белинский повез рукопись «Мертвых душ» к князю Одоевскому. Владимир Федорович, слушая рассказ о запрещении «Мертвых душ» московской цензурой, прочитал коротенькую записку, присланную Гоголем: «…вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю…»
– Так-таки сразу и государю? – Владимир Федорович очень удивился: – Но почему же непременно государю?
Белинский меньше чем кто-нибудь другой мог ответить на этот недоуменный вопрос.
А чем же может помочь в таком экстраординарном деле Владимир Федорович? Он якшается с пишущей братией и еще больше с музыкантами. Дворцовых же связей, да еще таких, чтобы доставить рукопись самому императору, у Одоевского нет. Тут надобна могучая рука. Перво-наперво и оповестит Владимир Федорович ближнего царедворца, графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Михаил Юрьевич, если захочет, все может.
С тем и уехал Белинский, свято выполнив поручение Гоголя. А дома занялся поливкой любимых олеандров – вытянулись олеандры чуть не до потолка. Давняя у Виссариона Григорьевича страсть к цветам. Однако сегодня не выходит из головы новая мысль: на диво хороши олеандры, но кто же, кроме него, будет ими любоваться?
Белинский осматривает свое холостяцкое жилище так, будто впервые сюда попал; улыбка смущения не сходит с губ. Он долго стоит перед рабочей конторкой, но думается, к удивлению, вовсе не о журнальных делах. Наваждение, испытанное в Москве, овладевает им с новой силой.
– Молчание, молчание! – шепчет человек, давно расставшийся с мечтами о счастье. Нет на свете ни одного женского существа, которое бы думало о нем.
А наваждение продолжается. Виссарион Белинский снова видит перед собой девушку со следами красоты, увы, уже поблекшей. Так о чем же они говорили в Москве в последний раз?..
Виссарион Григорьевич совсем было уже улегся на покой и вдруг снова поднялся.
– Возможно ли?.. Мари!..
Имя было произнесено и прозвучало непривычно странно в этой суровой обители, где текла одинокая жизнь, без ласки, без любви.
Но заснуть опять не удалось. Едва прикрыл глаза, на смену всем наваждениям явился Гоголь. Все тот же горький у него вопрос:
– Как можно лишить меня плодов семилетнего труда и последнего куска хлеба?
– А лишить Россию ваших созданий, Николай Васильевич, можно?!
Даже забывшись наконец в тревожном сне, Белинский скрежетал зубами и задыхался.
Глава вторая
Профессор Плетнев, дочитав письмо Гоголя, аккуратно сложил листы. Непременно надо Николаю Васильевичу помочь!
Конечно, ректор Петербургского университета Петр Александрович Плетнев многое может. Вхож он и в императорский дворец, где доверено ему обучение царских детей. Как редактор «Современника», Плетнев и в цензуре свой человек. Правда, бывший пушкинский журнал быстро превратился благодаря его стараниям в тихую ученую заводь, в которой не отражаются волнения быстротекущей жизни. Но зато и чтут власти благоразумного профессора. Недаром состоит уважаемый редактор «Современника» еще и членом столичного цензурного комитета.
«Как же помочь автору «Мертвых душ», попавшему в беду? – размышляет Петр Александрович. – Всего лучше начать, пожалуй, с Александры Осиповны Смирновой. Она женщина тонкого ума. Как ценил ее приснопамятный Пушкин!»
Каждый раз, когда Петр Александрович вспоминал Пушкина, ему в самом деле казалось, что идет он прямой пушкинской дорогой и неуклонно разит врагов великого поэта. Но никогда не дерзал тишайший профессор Плетнев восстать против тех, кто лишил Россию Пушкина. Никогда не написал Плетнев ни строки в осуждение порядков, от которых задыхался поэт.
…Благостная тишина царит в кабинете профессора Плетнева. Неугасимая лампада горит перед иконой, отбрасывая мерцающий свет на письменный стол. На столе аккуратно разложены конспекты лекций по русской словесности. Очень поучительные лекции! И поэзия и проза представлены в них как вдохновенное служение идеалу прекрасного. Чувство меры, вернее, благой умеренности, является при этом едва ли не главным мерилом прекрасного в глазах почтенного профессора.
Впрочем, эти мысли Петра Александровича не отражаются на страницах редактируемого им «Современника». Раз и навсегда изгнал он из журнала всякие споры и только издали поглядывает на журнальные битвы. А там первый и отчаянный боец – Виссарион Белинский. Ладно бы воевал Белинский с продажными журналами, но, воюя с ними, он все настойчивее проводит собственные идеи, куда более опасные для истинного благомыслия. Положительно, еще не было подобной дерзости в русских журналах!
Растревоженный мыслями, Плетнев глянул на божественный лик иконы: никак коптит неугасимая лампада? Подошел, поправил фитиль и набожно перекрестился.
А начать хлопоты за Гоголя лучше всего, конечно, со Смирновой. Александра Осиповна Смирнова, в девичестве Россет, была в свое время любимой ученицей профессора Плетнева, потом стала фрейлиной императрицы, а после замужества сохранила положение придворной дамы, близкой к царскому дому. Сам государь Николай Павлович оказывал, бывало, особое внимание обольстительной красавице. Впрочем, тут могли обнаружиться щекотливые обстоятельства, которых Плетнев никогда не касался. Сказано в священном писании: сердце царево в руце божией!
Стоило, однако, подумать о Смирновой, как сейчас же явилась другая мысль: удобно ли миновать в хлопотах за Гоголя могущественного царедворца графа Виельгорского?
Но ни к Виельгорскому, ни к Смирновой Петр Александрович ни в тот, ни в следующие дни не поехал. Своих дел по горло. А Гоголя надо знать: если ему что-нибудь приспичит, так вынь ему и положь! Правда, в письме жаловался Гоголь на припадки, которые приняли у него какие-то странные образы. Да ведь всем известно: охоч Николай Васильевич ссылаться на свои необыкновенные болезни. Конечно, дан ему великий талант. В том нет спора. Но доколе же будет он смехом своим порицать и разрушать?
Думалось о Гоголе, но тут вспомнился Виссарион Белинский. Издавна ратует он за Гоголя, но как? При каждом случае выпячивает темные стороны жизни, схваченные Гоголем, и толкует о них вкривь и вкось. А Николай Васильевич волей или неволей дает пищу смутьянам. Неужто он сам этого не понимает?
Много и долго думал о Гоголе профессор Плетнев, пожертвовав даже необходимыми часами сна.
Хотел было заняться судьбой «Мертвых душ» и граф Виельгорский, но в это время назначили большой бал у великой княгини, и почетному устроителю придворных празднеств было не до Гоголя. По счастью, Михаил Юрьевич встретил где-то университетского профессора словесности и одновременно цензора Александра Васильевича Никитенко.
– На ловца и зверь бежит! – любезно обратился к нему граф Виельгорский. – Имею к вам покорную, хотя, может быть, и обременительную просьбу: прочтите рукопись Гоголя, присланную им из Москвы, и одолжите вашим просвещенным мнением, – разумеется, неофициальным и предварительным… Предварительным, – еще раз повторил, изящно грассируя, Михаил Юрьевич, – а дальнейшие шаги, если удостоите чести, обсудим совместно.
Профессор Никитенко был очень польщен вниманием знатной особы. Граф Виельгорский тоже остался доволен: дал наконец делу ход.
Михаил Юрьевич рад содействовать Гоголю. Как забыть, что его собственный сын умер на руках у Гоголя в Италии? Как забыть, сколько внимания отдал умирающему юноше этот участливый к чужой беде человек? Но граф Виельгорский, будучи убежденным поклонником французской фривольной литературы, не совсем ясно представлял себе помыслы русского писателя Гоголя. Толков же о нем ходит, пожалуй, даже чересчур много. Какой переполох поднялся вокруг его комедии «Ревизор»! Мало ли что мог сызнова написать при бойкости пера многоуважаемый Николай Васильевич… Заручиться мнением опытного цензора было при таких обстоятельствах очень полезно. Во всяком случае, куда благоразумнее, чем везти рукопись императору. Чудак Гоголь, этакий чудак!
«Мертвые души» попали к цензору Никитенко. Вот, собственно, и все, что сделали именитые друзья Гоголя. Впрочем, тот же цензор Никитенко мог бы принять рукопись от автора и без всяких ходатайств, просто по обязанностям службы.
Ничего не зная о намерении Гоголя искать высшего суда в столице, Александр Васильевич Никитенко раскрыл «Мертвые души». Гоголь! Даже имени этого не произносят равнодушно: одни хулят его с пеной у рта, другие хвалят с безудержным восторгом. Профессор Никитенко не разделял этих крайностей. По цензуре уже приходилось ему иметь дело с Гоголем в прежние годы, когда Гоголь представил занимательную повесть о ссоре какого-то чудака Ивана Ивановича с таким же чудаком Иваном Никифоровичем и, помнится, написал к этой повести весьма ядовитое, двусмысленное предисловие.
И вот – новая встреча с писателем, каждое слово которого производит всеобщее смятение. Необходима сугубая осторожность!
Старинные часы отбивали час за часом. Шелестели медленно переворачиваемые страницы. Никитенко читал не отрываясь, совершенно позабыв о том, что рукопись вручена ему как цензору. Кончил и снова начал читать с первой страницы – будто заглянул вместе с Гоголем в бездонный омут. Но тут Александр Васильевич вспомнил об обязанностях цензора, и многое в поэме представилось сомнительным. Взять хотя бы заглавие – «Мертвые души».
Просвещенный профессор столичного университета не повторял тех благоглупостей, которыми с перепугу встретили произведение Гоголя в московской цензуре. Но как не угадать опытному цензору умысел автора? Александр Васильевич перечитал повесть о капитане Копейкине. Такого пассажа никто и никогда не пропустит! Тут даже в высшем правительстве показаны те же мертвые души. Один министр-вельможа чего стоит!
А читатель Никитенко так и противоборствует Никитенко-цензору:
«Спасай эту удивительную, неслыханную поэму, коли попала она в твои руки».
«Да как же ее спасти?» – недоумевает многоопытный цензор.
Глава третья
Над Петербургом опустились ранние февральские сумерки. Густым туманом клубятся улицы. Как бесплотные тени движутся прохожие. Мелькнет молчаливая тень – и снова скроется в белесой мгле. Только и слышно, как отбивают четкую дробь чьи-то тяжелые каблуки или старость выдаст себя натруженными шагами; властным звоном объявят о себе гвардейские шпоры, да бойкой скороговоркой откликнутся им женские сапожки.
Все гуще клубится туман, а столица живет привычной жизнью.
К театрам спешат кареты. Если блеклый луч уличного фонаря успеет заглянуть в зеркальное стекло, за стеклом обозначится кокетливый капор, а под капором – чуть вздернутый носик и свежие, пухлые губы. Но какой дьявол шутит свои шутки на улицах, объятых зловещим маревом? Когда успела красавица превратиться в безобразную старуху? А старуха тоже исчезает, как призрак. Кареты катятся одна за другой; невидимые кучера все чаще покрикивают с невидимых козел: «Эй, берегись!»
В семейных домах, где назначены балы, девицы на выданье обдумывают наряды и ведут доверительные беседы с зеркалом. Кто пригласит сегодня на первый вальс? От сладостного волнения вздымается грудь, а зеркало равнодушно отражает потаенные прелести, которые вот-вот будут в меру прикрыты от любопытных глаз воздушным кружевом и батистом.
Все идет в столице привычной чередой. Ярче вспыхивают парадные огни. А там, где ютится беднота, там лежит на слепых оконцах грязная наледь. Туман оседает на ней мелкими каплями, капли собираются в мутные ручьи. Кажется, что плачут кособокие домишки. О чем? Бог весть. Ни к чему знать, как коротают время люди, для которых нет в Петербурге ни театров, ни балов, ни беспечной юности, ни достатка.
Вот уж и на дальних улицах, на задних дворах, во флигелях и в подвалах перемигиваются ожившие оконца, словно сами дивятся: батюшки-светы, сколько же канцелярского племени расплодилось в столице!
А поутру снова высыпает на улицу служивая мошкара и трусит в должность.
Бывает, что несет от незадачливого чиновника странным составом, в котором перемешались запахи застойной плесени, лука и сивушного перегара. Вызовет его к себе начальственное лицо для очинки перьев и скажет, помахивая рукой: «Встань-ка ты, братец, подальше!..» Если же особо чувствительно начальственное лицо в рассуждении чистоты атмосферы, тогда будет грозно махать обеими руками: «Эк ты пропитался, скотина! Ступай на место!» И шмыгнет виновный в дальний угол канцелярии и будет шуршать бумагами, как запечный таракан.
Конечно, есть в столице и такие присутственные места, где даже последняя сошка может взять благодарность с просителя или протесниться к казенному пирогу. Только не каждому ворожит судьба. У тех, кто сидел когда-то со счастливцем за одним столом и писал таким же обгрызенным гусиным пером, ничего не изменилось. У холостого – все тот же картуз с табаком на колченогом столе. У женатого – не пустует зыбка. А наследники, что подросли, путешествуют под стол собственным ходом или копошатся летом на пыльных задворках. Играют наследники в свайку и не ведают, что жить им, как родителю, у той же чернильной банки да владеть при удаче разве что новым гусиным пером.
Но коротко в Петербурге летнее тепло, долги осени и зимы. Наглухо закрываются тогда убогие оконца; кропят их дожди, слепят снега, точат туманы.
Кто заглядывал в эту жизнь? Кто знает, как унижен может быть человек в пышном городе дворцов и монументов?
– Ан есть такой писатель на Руси, который смело раздвигает все завесы!
Белинский шел медленно; от сырости было трудно дышать. Пошел еще медленнее, а мысли летели со стремительной быстротой.
Вчера встретился ему князь Одоевский: «Могу обрадовать вас, Виссарион Григорьевич, приятной новостью: «Мертвые души» попали к просвещенному цензору Никитенко. Поверьте, теперь все разрешится к полному удовольствию Николая Васильевича». «Если бы так! – размышлял Белинский. – Да ведь надо же знать неистребимое благодушие Владимира Федоровича…»
– Эй, берегись!
Из белесого марева вынеслась на перекресток щегольская карета. Белинский едва успел отпрянуть и чуть было не угодил под встречные сани. По счастью, идти оставалось совсем недалеко.
У Ивана Ивановича Панаева, автора известных повестей и деятельного участника «Отечественных записок», собирались преимущественно сотрудники «Отечественных записок» или люди, близкие к журналу.
Когда Виссарион Григорьевич вошел в гостиную Панаевых, Иван Иванович приветствовал гостя из-за полураскрытых дверей кабинета:
– Виссарион Григорьевич? Сердечно рад! Сейчас освобожусь. Дописываю последние строки. Сделайте милость, поскучайте пока с Авдотьей Яковлевной.
– Вам не остается ничего другого, Виссарион Григорьевич, как покориться совету моего повелителя. – Сдерживая улыбку, Авдотья Яковлевна Панаева усадила гостя в покойное кресло. – Не узнаю Ивана Ивановича, – продолжала она, – начинаю подозревать, что и Панаев может приохотиться к усидчивым занятиям. Не удивлюсь, если станут называть его домоседом!
– Панаев – и домосед? – откликнулся Белинский. – Еще обидится, пожалуй, Иван Иванович, если припишут ему такую мещанскую добродетель. Панаев! Вы слышите?
– Не слышу, ничего не слышу, – отвечал из кабинета Иван Иванович, ушедший с головой в занятия.
Авдотья Яковлевна еще раз улыбнулась. Потом спросила серьезно:
– А чем же вы, Виссарион Григорьевич, порадуете читателей в мартовской книжке «Отечественных записок»?
– Если попустят бог и цензура, хочу, во-первых, сполна расчесться с москвитянами. Побывав в Москве, воочию увидел я, как растет их дурь и мерзопакостная страсть к доносам. Но если буду перечислять все, что готовлю в мартовскую книжку, боюсь, не скоро кончу.
– Я, право, не соскучусь. А Иван Иванович, как видите, не собирается нам мешать.
Белинский не очень свободно чувствует себя в дамском обществе, что не относится, однако, к Авдотье Яковлевне Панаевой. Эта юная дама, едва переступившая за порог своего двадцатилетия, счастливо наделена многими качествами: красотой, еще только расцветающей, недюжинным умом, не по-женски рано созревшим, и острым, наблюдательным взглядом больших черных глаз. Авдотья Яковлевна всему предпочитает задушевные разговоры с Белинским и именно с ним бывает сердечно-проста, доверчиво-откровенна и пытливо-любознательна. Они могут беседовать часами, этот сутулый человек, с лицом, изможденным трудами и болезнью, облаченный в мешковатый сюртук, и признанная красавица, полная юных сил, одетая с той элегантной простотой, которая обходится, впрочем, куда дороже, чем любое произведение броской и преходящей моды.
– А где же наши? – Панаев появился в гостиной со стопкой свежеисписанных листов. – Опять опаздывают?
Авдотья Яковлевна и Белинский ответили ему дружным смехом: сам Иван Иванович никогда и никуда не мог попасть вовремя.
– Они опаздывают, – продолжал в негодовании Панаев, – а я тружусь ради них, профанов, не щадя сил!
– И за то мы, профаны, будем смиренно сопровождать тебя до самого порога храма бессмертных. – В дверях гостиной стоял любимый товарищ Панаева еще по школьной скамье, Михаил Александрович Языков.
Языков тоже причастен к «Отечественным запискам», но литературная судьба школьных товарищей сложилась по-разному. Панаев пользуется широкой известностью, Языков больше всего ударяет «по смесям». Его собственный каламбур имеет в виду не столько комбинации из горячительных напитков, сколько журнальный отдел «Смесь» в «Отечественных записках», где и печатает свои скромные труды этот образованный выходец из помещичьей среды.
Слегка прихрамывая по прирожденному недостатку, Михаил Александрович занял место подле хозяйки дома.
– Имею для тебя преприятнейшее известие, Панаев, – обратился он к Ивану Ивановичу.
– Знаю твои известия, – отмахивается Панаев. – Опять что-нибудь соврешь.
– А вот извольте послушать, господа! – Михаил Александрович обвел слушателей глазами. – Иду я сегодня к тебе, Панаев, и в тумане ничего не вижу. Трезв со вчерашнего дня, но дома от дома отличить не могу. Едва не перевернул на углу полицейскую будку, а на здешней улице, как в лесу, заблудился. И вдруг возник передо мной, как смутное пятно, какой-то человек. «Может быть, вы, сударь, – спрашиваю, – случайно знаете, где живет писатель Панаев?» – «Как не знать, – отвечает призрак застуженным басом, – идите, говорит, прямо, а там свернете в первое парадное». Каково? Первый встречный – и тот тебя знает. Вот она, слава!
– Каков был из себя тот встречный? – все больше заинтересовывался рассказом Иван Иванович. – Надо думать, из образованных чиновников?
– Да разве в этом чертовом тумане что-нибудь рассмотришь! По счастью, незнакомец подошел ко мне близко, и лицо его вдруг осветилось вспыхнувшей цигаркой…
– Ну, ну! – торопил Панаев.
– И тут… – Языков даже привстал с кресла, словно заново переживая памятную встречу, – тут-то я и узнал Илью!
– Какого Илью?! – Иван Иванович совсем опешил.
– Того самого Илью, – деловито заключил рассказчик, – который служит дворником в вашем доме.
Иван Иванович смеялся вместе со всеми. По слабости к литературной славе он опять стал жертвой Языкова, но в простодушном его смехе не было и тени обиды.
В гостиной появились новые гости.
– Господа! – встретил их Панаев, которого все еще душил смех. – Пусть злодей Языков расскажет вам про дворника Илью… Тот самый, говорит, что служит в нашем доме… Ох, не могу! – и он снова зашелся от смеха.
Вновь прибывшие Николай Яковлевич Прокопович и Александр Александрович Комаров, естественно, ничего не могли понять. Они устремились к хозяйке дома, потом к Белинскому.
И Комаров и Прокопович преподают русскую словесность в столичных военных учебных заведениях; оба страдают страстью к стихотворству и тяготеют к «Отечественным запискам».
Когда Александр Александрович, самовольно расширяя программу, говорит на уроках о Пушкине, Лермонтове или Гоголе, ученики его знакомятся со многими мыслями, высказанными Виссарионом Белинским.
Прокопович охотнее всего рассказывает ученикам о Гоголе. Может быть, и не дерзнул бы на это пугливый Николай Яковлевич, если бы не особые обстоятельства. Прокопович учился с Гоголем. Школьная дружба оказалась неразрывно прочной. Рассказывает Прокопович ученикам о Гоголе и, кажется, сам дивится: за что судьба наградила его, человека ничем не примечательного, вниманием столь знаменитого писателя? Задумается медлительный Прокопович и непременно прибавит: «А великую силу Гоголя раньше всех понял критик Белинский».
Белинский и завладел Прокоповичем, едва он появился у Панаевых.
– Что слышно от Гоголя?
– До слез горько читать его письма, Виссарион Григорьевич. Ждет Николай Васильевич решения участи «Мертвых душ» и томится. Боюсь, совсем изнемог. А что ему ответишь?
Разговор о «Мертвых душах» стал общим. Из Москвы шли новые слухи, но все было в них смутно. Прав был Виссарион Белинский, когда говорил Гоголю, что он не имеет понятия о содержании «Мертвых душ». Но не зря же и Гоголь, рассказывая о происшествиях в московской цензуре, вложил в уста председателя комитета главное себе обвинение: «Против крепостного права?! Трижды запретить!» Чего же доброго можно ждать после этого от цензуры петербургской?
– Господа! – сказал Панаев. – Каждый из нас будет стараться разведать при случае, что творится в цензуре; надеюсь, буду и я не последним разведчиком. А сейчас приступим к делу.
– Не согласен! – решительно вмешался Языков. – И предлагаю: ни к чему не приступать до прибытия всеми нами уважаемого редактора-издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.
Шутка имела успех: Андрей Александрович Краевский никогда не бывал на сборищах, подобных сегодняшнему. Став хозяином первоклассного журнала, он, несмотря на молодость лет, тяготеет к обществу влиятельных особ. Даже при общеизвестном своем либерализме он наверняка испытал бы потрясение умственных и душевных сил, если бы заглянул в рукописные листы, которые разложил на столике перед собой Иван Иванович Панаев.
– К делу, господа! – повторил Панаев, несколько рисуясь по неистребимой привычке. – Сегодня я предложу вашему вниманию перевод одной из важнейших речей Максимилиана Робеспьера – ее точный текст по «Монитёру»…
Дело происходит в столице русского императора Николая I, находящейся под особым надзором высшей полиции. Кажется, взяты под наблюдение шпионов – явных, тайных и добровольных – даже сокровенные мысли жителей Петербурга. А в квартире литератора Панаева готовятся внимать речам Максимилиана Робеспьера! И собрались вовсе не какие-нибудь заговорщики, плетущие нити адского заговора. Даже изящная дама присутствует на сходке.
Такие чтения происходят у Панаевых не первый месяц. Конечно, история Французской революции 1789 года ведома в той или иной мере образованным русским людям. Но Панаев умеет отобрать для перевода такие документы, в которых как нельзя лучше отражаются кипучая атмосфера политических клубов, революционная жизнь площадей и предместий Парижа.
Но, едва вознамерился Иван Иванович увлечь слушателей в далекую Францию, в события давних лет, русская действительность напомнила о себе резким звонком, раздавшимся в передней.
Иван Иванович стал поспешно собирать крамольные листы, как будто это могло помочь, если бы за дверями уже стоял офицер в голубом мундире с обычной свитой из бравых жандармов.
Напряжение разрешилось, когда из передней послышался знакомый голос и в гостиную вошел еще один близкий человек – Иван Ильич Маслов.
– Нелегкая вас возьми, mon cher!{Мой дорогой (франц.).} – приветствовал его хозяин дома. – Сначала вы безбожно опаздываете, а потом пугаете порядочных людей.
– Да еще при вашей должности, Иван Ильич! – пошутил Белинский.
– Имеются ли, Иван Ильич, новые постояльцы?
Маслов состоял секретарем при коменданте Петропавловской крепости, куда испокон веков ввергали наиболее опасных вольнодумцев. При всей незначительности своей секретарской должности он мог рассказать о том, что творится в крепостных казематах.
Никаких новостей у Ивана Ильича Маслова на этот раз не оказалось. Чтение наконец началось.
Панаев читал знаменитую речь Робеспьера. С гневом обрушился Робеспьер на политическое примиренчество, столь присущее жиронде и столь опасное для революции. Всякое примиренчество неминуемо оборачивается предательством, когда нарастающая опасность грозит революции со всех сторон: от аристократов и их многоликой агентуры, от международной реакции, открыто собирающей силы для разгрома революционного Парижа. В этих исторических условиях и обосновал Робеспьер необходимость революционного террора.
На этой части речи Робеспьера и сосредоточился переводчик. Иван Иванович Панаев читал речь вождя якобинцев с той горячностью, с которой никогда не произносил своих речей Робеспьер. Эта горячность была понятна. Ведь и Робеспьер погиб именно потому, что не проявил решительности в те грозные дни, когда созрел заговор против революционной диктатуры Конвента. Еще оставались считанные минуты, отделявшие контрреволюцию от победы, но именно в это время Робеспьер, с железной логикой обосновавший право революции на подавление врагов и предателей, выпустил из рук управление событиями.
Все это знал, конечно, Иван Иванович Панаев и потому читал речь Робеспьера с волнением.
– Каково наше мнение, господа? – вопросом заключил он свое чтение.
Никто не откликнулся.
Тогда заговорил Виссарион Белинский.
Глава четвертая
Часы били медленно, но настойчиво; потом наступила неожиданная тишина, от которой Белинский проснулся. Глянул на часы – одиннадцать! Укорил себя в лености, а сам продолжал лежать и размышлял: что же, собственно, вчера у Панаевых произошло?
Встал, отпил чай, наскоро просмотрел почту и, вместо того чтобы приняться за работу, опять задумался. Конечно, он говорил вчера, пожалуй, откровеннее, чем обычно. Но что же нового он сказал? Что правда утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами прекраснодушной жиронды, а обоюдоострым мечом слова и дела? Пока говорил он все это применительно к речи Робеспьера – спасибо, хоть Панаев к нему присоединился. Остальные так и ринулись на защиту «благородной» жиронды.
Но ведь он-то, Белинский, говорил не столько о Франции, сколько о России, и не столько о прошлом, сколько о будущем.
Но тут, вспомнив вчерашние споры, Виссарион Григорьевич горько улыбнулся и пошел мерить тесный кабинет быстрыми шагами.
На рабочей конторке лежала стопка приготовленной бумаги, но он так к ней и не прикасался. А истекали последние дни подготовки мартовской книжки «Отечественных записок», и от редактора-издателя журнала накопилась целая груда записок. Андрей Александрович Краевский просил, торопил, напоминал и снова торопил.
Но если бы только привычные докуки от Краевского! Новая записка, доставленная из редакции, оповестила о неприятностях куда более важных. Краевский просил почтеннейшего Виссариона Григорьевича незамедлительно наложить приличные швы на те места в его статьях, в которых цензура не оставила ни последовательности изложения, ни даже смысла. Присланные вместе с запиской статьи Белинского свидетельствовали об этом со всей наглядностью.
Еще раз пересмотрел их Виссарион Григорьевич и гневно развел руками. Какие швы могут помочь там, где цензура рубит топором? А сам знал, конечно, что будет изощрять ум, чтобы спасти для читателей все, что можно спасти. Только не сейчас! Не давали покоя вчерашние споры.
Белинский был явно не в духе, когда заехал Панаев.
– Ну и напугали мы нашу братию Робеспьером! – начал гость, присматриваясь к хозяину. – Да ведь Робеспьер что? История! Но когда услышали вашу речь, Виссарион Григорьевич, тут и вовсе струхнули наши храбрецы.
– Как бы не ожили, сохрани бог, грозные тени? – усмехнулся Белинский.
– Э, нет, Виссарион Григорьевич! Будущее пострашнее будет. А вы как раз и стали пророчить революционные потрясения России. Тут, я думал, чудака Прокоповича первого удар хватит, а за ним и Маслова.
– Чего же им опасаться? Прокопович наверняка дождется пенсиона за беспорочную службу. И Маслов, честная душа, может до конца дней ходить на службу в Петропавловскую крепость. Во Франции восставший народ взял приступом ненавистную Бастилию, но кто и когда посягнет у нас на твердыню самовластия? Чего же им опасаться? Не первый раз говорю я о революции и, надеюсь, не в последний. Но как бы ни было далеко это спасительное будущее, каждый раз вижу, что вырастает передо мной глухая стена. Оно лучше, конечно, пребывать в болоте безмятежного созерцания, чем заглянуть вперед без страха.
– Без страха? Когда заговорили вы о неминуемых при революции жертвах, тут, если заметили, и Языков отпрянул. Не говорю о Комарове.