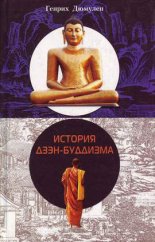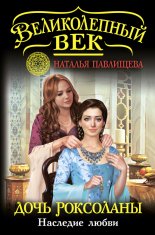Выход 493 Матяш Дмитрий

Реакция была однозначной.
Бешеный довольно кивнул, отвел руки за спину и вытащил свое оружие. Поднял вверх обе руки с зажатыми в них огромными ножами с прямыми лезвиями. Словно выполняя заключительную часть ритуала, скрестил их над головой и, сделав ужасную гримасу и обнажив в зверином оскале белые зубы, выкрикнул:
– Кай-йа-а-а-а!!!
Так уж выпала карта, что в состав экипажа «Монстра» попали и Стахов, и Каран, и Андрей со своим рыжим напарником. И если у последних просто грудь распирало от гордости за себя и глаза горели в предвкушении новых открытий и постижений, Стахову с каждой секундой становилось все тягостнее, тоскливее на душе. Будто покинул он не самую опасную заставу, из которой ему не раз приходилось выносить трупы сослуживцев, не зная, как после этого смотреть в глаза их семьям, а блаженное место под солнцем, райский уголочек с белыми барашками набежавшего прибоя, морским песком, пальмами и танцующими мулатками. Как на том рекламном буклете, что тридцать лет назад в сердцах выбросил в урну какой-то полнотелый политик, осознав, видать, что в то счастливое место ему уже попасть не удастся.
Примерно то же переживал и сам Стахов, задержавшись у трапа, изо всех сил борясь с непреодолимым желанием обернуться, взглянуть на тех, кто смотрит им в спину. Попрощаться бы…
Нет, никто не прощается, никто не рыдает, никто не говорит никаких слезных речей…
Сердце у Ильи Никитича отчего-то сжалось. Вспомнилась вдруг Ольга, такая милая, нежная, такая красивая, и голос ее мелодичный вспомнился. Она бы не разрешила ему, конечно. Да и сам он не смог бы ее оставить. Но ведь ее уже давным-давно нет. Он даже стал забывать, как она выглядела. А сейчас вот вспомнилась. Так четко стали видны ее черные, цвета воронова крыла волосы, собранные сзади синей лентой, более светлого оттенка, чем ее униформа, серые глаза и улыбка… Так отчетливо вспомнил, будто он только что ее видел… где-то здесь, среди провожающих.
С тех пор как ее не стало, смысл его жизни замкнулся на заставе. Там был его дом, там он надеялся найти и свою смерть. Но в тот день, когда Тюремщик показал свое последнее «кое-что», кое-что поменялось для Стахова и в отношении к собственной жизни. Не мог он никак теперь остаться на заставе. И вот он здесь.
Экипаж «Монстра» состоял из шести человек, четверо из которых находились в самой машине, включая Бешеного и его напарника Тюремщика, один дежурил в «Базе-1» и один в «Базе-2» – на «хвостовом» пулемете.
На «Базу-2» на первые двенадцать часов был выставлен «стражником» Стахов. Он вызвался туда сам, подумав, что одиночество на какое-то время спасет его от ненужных бесед, избавит от назойливых перешептываний и любопытных взглядов юнцов, впервые покинувших подземелье. Зайдя в прицеп, он окинул лишенным всякого интереса взглядом закрепленный тросами уазик, гордо носивший имя «Разведчик», посмотрел на кресло, повернутое к заднему борту, большая часть которого была сделана из бронестекла, и закрыл за собой дверь. Постоял с минуту, потом присел, заглянул под машину. Под ней в разобранном виде лежала гордость подземных лабораторий – часть криокупола, похожая на собранный из металлических пластин и стропов парашют.
В задней части прицепа к потолку была прикреплена напоминавшая формой большую таблетку выдвижная капсула. В нее и помещался «стражник» в случае поступления команды «К орудию!». Рядом свисал шнур, разворачивающий «таблетку» в капсулу и раскрывающий люк, через который «стражник» имел доступ к пулемету.
Обойдя уазик, Стахов провел рукой по пыльному борту цвета хаки, подошел к панорамному бронестеклу и коротко махнул рукой сгрудившимся на заставе людям. Затем опустил ролет – как раз, чтобы он скрыл от публики его лицо, – и бухнулся в кресло, подняв в воздух облако пыли.
Здесь был его дозорный пункт. Ему предстояло быть глазами на затылке «Монстра», как сказал Тюремщик, по-дружески подмигнув ему перед посадкой. Поискав взглядом, на что бы переключить свое внимание, Стахов уделил минуту на прочтение инструкции, приклеенной к борту. Там было указано, что и как нужно делать в случае боевой тревоги. Разложить кресло, дернуть шнур, поместиться в капсулу, открыть люк, извлечь из ящика пулемет… «Чепуха для юнцов», – подумал Илья Никитич, вздохнул, уронил голову на руки.
Двигатель взревел, над ухом затрещала рация.
– Одинокий два… Никитич, как слышишь? – прозвучал голос Тюремщика из покрытой плотным слоем пыли рации.
– Одинокий два, – нехотя поднеся рацию к щеке, ответил Стахов, – слышу хорошо.
– Как самочувствие, Илья Никитич? Чего-то мне видок твой в последнее время не нравится.
– Все нормально, дружище, – соврал Стахов, откинув голову на спинку кресла.
– Правда? – удивился Тюремщик. – Да ладно тебе, ты так переживаешь, будто на край света собрался. Что там до того Харькова – всего четыре дня ходу, максимум пять. Через полторы недельки снова будешь любоваться своей «северкой», обещаю.
– Ты так говоришь, будто я не знаю, что самый дальний твой выход – это сто шестьдесят, – иронично улыбнулся Стахов.
– Ну и что? Я что, когда-нибудь не возвращался? Никитич, для меня что сто шестьдесят, что четыреста девяносто три – разницы никакой. Нам с Бешеным вот по херу куда, лишь бы ехать. И – скажи, Беш? – никто, ёлы, никогда не оказывал нам такой почести. А тут, блин, как на фронт отправляют. Только цветы еще не бросают вслед. – Тюремщик засмеялся. – Никитич, все будет в ажуре!
– Ладно, поехали уже, фронтовик, поехали…
«Монстр» въехал в шлюз последним. Вся застава стояла как по стойке смирно, с торжественными, немного грустными лицами, с приставленной к виску ладонью, выпяченной вперед грудью и застывшим в глазах восторгом. Когда грузовик пошел по шлюзу в гору, Стахов с горечью отметил про себя, что это было последнее прощание с Укрытием. И хотя в его сердце действительно раньше не находилось места мнительности, сейчас он чувствовал себя раскисшим, подавленным юнцом, вырванным из родительского дома, вмиг лишившимся материнской ласки и заботы.
На часах мерцали цифры 20.54. На улице, должно быть, вечерело.
Андрей сидел в кунге «Монстра» на жесткой, для блезиру обшитой линолеумом скамье вместе с рыжеволосым напарником Сашкой. Со всех сторон они были обложены ящиками с продпайками и боеприпасами, разбросанными брикетами сухого топлива, оставшегося с предыдущих выходов, а также просто бытовым мусором, который вояжеры подбирали на поверхности и, не находя ему применения, забрасывали в фургон. Здесь валялись и канцелярские принадлежности, как то: дырокол, карандаши, линейки; и разбитый радиотелефон, и тележка из супермаркета, наполненная вздутыми банками тушенки, и связка железнодорожных костылей, и табличка с цифрой «275» и надписью «Мемориал Освобождения – Ботанический сад», и набор рождественских свечей, и распахнутая СВЧ-печь – в общем, все то, что вояжеры захватывали с собой, а потом, вместо того чтобы выбросить за борт, замусоривали кунг.
Но не над этим размышляли пассажиры фургона, прильнув к боковым иллюминаторам и стараясь не упускать ни малейшей возможности рассмотреть в слабых, изредка мелькавших отблесках света стены шлюза, потрескавшиеся то ли от старости, то ли от давних ядерных содроганий, темные, покрытые какой-то вязкой слизью.
Сверху донесся сигнал.
– Сейчас подымут верхний заслон, – с благоговением прошептал Саша.
Круглый люк, соединяющий кабину «Монстра» с фургоном, сдвинулся, и в проеме показался сначала встопырившийся ирокез, а затем и вечно улыбающееся лицо его владельца.
– Ну что, пацанва, с почином вас, потомки великого Тавискарона!
– Кого-кого? – переглянулись между собой ребята, наморщив лбы.
– Атефобией[1] никто не страдает? – снова задал вопрос Бешеный, не обратив внимания на округлившиеся глаза юнцов.
– А что это?
– Вот и чудно, – кивнул Бешеный и, напоследок подмигнув, исчез в проеме.
На вопросительный взгляд Саши Андрей лишь повел плечом, дав понять, что нет никакого смысла разгадывать странные слова Бешеного – все равно никогда не разгадаешь. Семь лет постоянных подъемов на поверхность. Как же тут без своих «фишек»?
Шлюз посветлел. Это значило, что верхний заслон поднят. Вниз, к Укрытию, просунулись несколько темных, тучных, приземистых фигур с опущенными головами и широкими плечами. У одной из них что-то выпало из рук, она остановилась, подняла с земли блестящие медяки, оглянулась на Стахова, наградила его презрительным взглядом и побежала вниз. Банкиры… Очень похожи на людей, очень. Легко ошибиться. Бегут вниз, хотят попытать счастья прорвать кордон. Что ж, имеют полное право.
«Монстр» выкатился из шлюза, подал длинный сигнал, и массивная металлическая плита, усеянная множеством маленьких вмятин, следов бесчисленных соприкосновений со свинцовыми посланниками, сразу же начала опускаться, закрывая вход в Укрытие. Вся стена вокруг нее была сплошь облеплена бурыми, черными ошметками существ, оказавшихся в неподходящее время возле заслона. Независимо от преследуемых ими целей исход был один. Пулеметы подъезжавших к шлюзу машин без разбору припечатывали «гостей» к стенам и заслону шквальным огнем, разрывая чью бы то ни было плоть на куски и проделывая на поверхности плиты миниатюрные кратеры.
Стахов поднимался наверх много раз, но первое место соприкосновения с наружным миром, место, где заканчивается подземный мир и начинается мир наружный, – вестибюль разрушенной станции метро «Университет», – всегда производило на него особое впечатление.
Практически лишенный купола, вестибюль был мрачен и холоден, впрочем, как и всегда в это время суток. Некогда украшавший стены коричневый мрамор почти полностью облетел, обнажив нутро отсыревших стен, но еще цепко держался у входа и возле продырявленных ржавчиной турникетов, напоминая о былой красоте станции и изысканных вкусах метростроителей. С проломленного купола, покачиваясь на ветру, свисали нерукотворные ламбрекены, сотканные из многолетней паутины, за долгие года не прожженные солнечными лучами, не поврежденные кислотными дождями и злыми зимними ветрами.
Сердце у Андрея чуть не вырывалось из груди. Он соскользнул со скамьи и встал на колени перед прямоугольником большого иллюминатора, голодными глазами поглощая остатки цивилизации, силясь не упустить ничего, что появлялось за бортом «Монстра». Завороженно, как ребенок в кукольном театре, он любовался бликами заходящего солнца, игриво скачущими по мраморным плитам, заискивающе отражающимися в рассыпанных бисером осколках стекла, подмигивающих ему, заставляя жмуриться и радостно улыбаться.
Он настолько ушел в себя, настолько отключился, упиваясь тем, о чем мечтал всю свою сознательную жизнь – посмотреть, каков он, этот верхний мир, – что даже не понял, когда алая штанина и сделанная из кожи туфля оказались возле его лица.
– Что, боец, любуешься?! – На лице Бешеного не оставалось и следа от лучезарной улыбки, и Андрей вдруг понял, что ошибочно принимал этого чудаковатого сталкера за добряка. – Ну-ка сядь!
«Черт, а умело прикидывался дружелюбным», – подумал Андрей.
– Так я ж это… – послушно садясь на место, выдумывал оправдание он. – Веду наблюдение.
– Наблюдение вести с места! – сердито ткнул пальцем в приклеенную к борту инструкцию Бешеный. – К иллюминаторам не приближаться. Что еще не понятно?!
– Да все понятно, товарищ Бешеный, – украдкой заглядывая в манящий иллюминатор, сказал Андрей, – но мы ведь… первый раз. Интересно же.
– Еще раз подойдешь к окну – получишь по башке, – бесцеремонно отрубил сталкер. – Усек? А вообще, вы еще не на дежурстве, какого бы лёва вам не отбросить на этой скамье костыли и не подрыхнуть, пока есть такая возможность?
– Как же тут уснешь, товарищ Бешеный? – округлившимися глазами взглянул на него рыжий. – Мы же никогда еще не видели…
– Еще насмотритесь, – перебил его сталкер. – Было б на что смотреть. А ты, – он ткнул пальцем в сторону Андрея, – выучи инструкцию наизусть, понял? Я позже спрошу.
Андрей кивнул и, проследив, как тот с какой-то нечеловеческой, звериной гибкостью проскользнул обратно через люк в кабину, с досадой стукнул кулаком по подлокотнику. Черт, как же жаль, что этот необычный человек без имени (а может, у него и было имя, но никто его не знал) не всегда такой улыбчивый и добрый. Хотя говорили, что он был таким всегда. Странным. Будто скрывался под его оболочкой и не человек вовсе, а существо какое-то несусветное, умело выдающее себя за человека. Но думать о нем сейчас Андрею не хотелось.
– Глянь, – подбил его локтем Саша, кивнув на иллюминатор со своей стороны.
Андрей повернул голову и едва сдержался, чтоб снова не прильнуть к запыленному иллюминатору, забыв о предостережениях Бешеного и рискуя схлопотать по башке.
На его лице растянулась широкая глупая улыбка. Там, вдали, на краю, как ему казалось, земли, где городские постройки сменялись небесным навесом, сквозь сизую пелену косматых, рваных туч и угрюмых высоток пробивалось необычайное сияние. Не яркое, но достаточно сильное, чтобы дырявить непроглядную серость веером багровых лучей и разрывать ее по живому, открывая темно-красную горбатую рану на горизонте.
– Солнце, – протянул Саша, не в силах оторваться от чарующего явления.
– Закат, – уточнил Андрей.
– Вот ведь здорово, да? Так бы и смотрел на это всю жизнь, – вздохнул Саша. – Жаль, что из Укрытия этого не увидеть. Брату показал бы.
– Да. Жаль, – согласился Андрей, когда машины свернули в сторону и закат остался позади, более не видимый в боковых иллюминаторах.
Машина набирала скорость. Выбравшись на одну из главных улиц Киева, улицу Богдана Хмельницкого – проезженную, свободную от ржавых остовов автомобилей и бетонных обломков (заслуга «Чистильщика»), Тюремщик пришпорил «Монстра», наслаждаясь тем, как охотно тот реагирует на его потяжелевший ботинок. Стрелка спидометра плавно подползала к отметке «60». Это был его любимый отрезок пути: прямая как стрела дорога так и подстегивала вдавить педаль акселератора поглубже, обойти семенящую впереди «Бессонницу», грозно шествующего во главе «Чистильщика» и сломя голову ринуться в сгущающиеся сумерки, удирая от смертоносных лучей заходящего солнца. Но, к превеликому сожалению, правила движения в колонне, о которых Крысолов напомнил перед выездом, это запрещали: никаких обгонов, никакого лихачества.
«За что я и ненавижу эти гребаные кортежи», – подумал Тюремщик.
Закат во всей своей угрожающе-восхитительной красоте остался позади, постепенно сдавая позицию неизбежным сумеркам, воротам ночи.
– Что б такое включить? – поинтересовался Бешеный у небрежно держащего руль одной левой Тюремщика, выложив себе на колени с десяток плоских пластмассовых коробочек.
– На твое усмотрение, – отмахнулся Тюремщик. – Мне сейчас все будет по душе.
– Ладно. Тогда что желаем больше? Поплакать? – Он взмахнул перед лицом Тюремщика коробочкой с надписью Within Temptation, насколько успел прочитать Андрей. – Посмеяться? – Мелькнули надписи «Король и Шут» и «Сектор Газа». – Может, покричать? – Остроконечные буквы «Ария». – Или по тяжелячку пройдемся? – задумался Бешеный, рассматривая рисунки на коробках с надписями Fear Factory, Marilyn Manson и Soulfly.
– Давай по тяжелячку, диджей, – определился Тюремщик, доставая тем временем из нагрудного кармана аккуратно склеенную самокрутку. – Будешь? Петрович подсуетился, говорил, цепляет с первой тяги. Проверим?
Андрей заинтересованно, будто за зверем в клетке, наблюдал за Бешеным. Как тот извлекает из плоской коробочки диск с зеркальной поверхностью, прокручивает его в руках, вставив указательный палец в отверстие посередине, обдумывает предложение Тюремщика, а потом всовывает диск в какой-то прибор у себя над головой. Тот сразу засветился мягким синим светом, на экране появились буквы Sepultura, и после этого бегущей строкой прошло: Refuse-Resist.
– Петрович, говоришь? Надо попробовать, раз сам Петрович подогнал. В прошлый раз было… – И он довольно присвистнул, сделав головой несколько круговых движений и сведя глаза к переносице. – Улет!
– О, а композиция в тему, – подметил Тюремщик, когда из подкрепленных усилителем динамиков задребезжала музыка.
Затем Бешеный резко оглянулся назад, заставив следящего за ним Андрея подпрыгнуть на месте и часто-часто заморгать, будто застуканного за рукоблудием церковного служителя. Какое-то время огненный гребень был нацелен в сторону Андрея. Бешеный наблюдал за тем, как тот поведет себя под прицелом его сурового, из-под сдвинутых бровей взгляда. Но потом его лицо расплылось в улыбке, он снова подмигнул молодому, а затем громко стукнул закрывающимся люком.
Фургон «Монстра» начал наполняться странными звуками. Не сразу Андрей понял, что этот нарастающий шум и есть музыка. Странно, ведь в его понимании музыка была совсем не такой. Он слушал в последний раз ее очень давно, еще когда подача электричества в дома не была ограничена несколькими часами утром и вечером. Музыка хранилась у матери в ноутбуке вместе с необходимой для ее работы медицинской информацией. Она там была разной, но в основном русские песни, на понятном языке. Некоторые из них Андрей заучивал наизусть, некоторые не любил за банальность текстов или просто за неуклюжее, по его мнению, исполнение, но то, что он слышал сейчас, больше походило на звуки, доносящиеся из металлокомбината, когда там пускали под резак очередную партию притащенного снаружи железа. А этот голос… Разве это голос? Это же крик дежурного заставы о том, что кордон прорван очередной волной прущей с поверхности нечисти! Да еще и с попыткой сделать это в ритм завывающему резаку и в такт грохоту десятка молотов в кузнице! Сашка даже демонстративно закрыл ладонями уши, покрутив пальцем у виска:
– Ненормальный какой-то, да?
– Не то слово, – улыбнулся Андрей, – бешеный! И музыка такая же.
Саша хмыкнул, почесал затылок.
– Слышь, а ты как отбор прошел? Ну, для экспедиции?
– Как и все, – нахмурившись, ответил Андрей. – Подал ротному заявление, тесты сдал – поспрошали там кое-чего, так и взяли. А что?
– Да ничего, просто некоторые удивляются, мол, что шпану взяли – тебя, меня, Лека, а старшаки остались наряды тянуть и в патрулях ходить.
– Ну так и что? Мы ведь тоже не на прогулку собрались.
– Оно-то так, – согласился Сашка, – но вояжерской романтики всем хочется. И нигде, кроме как в пути, не ощутишь. В нарядах скучно, а тут, – он обвел глазами борта фургона, – что ни говори, а интереснее. Едешь, что-то новое видишь, а не только сырые стены и потолок над головой. Знаешь, сколько желающих было в экспедицию? Наш замкомвзвода говорил, человек сто, не меньше. А тут нас с тобой взяли…
Андрей, отчего-то вдруг погрустневший, будто только после Сашиных слов осознавший, что в экспедицию он попал по дикой случайности, по чьему-то недосмотру, из-за ошибки в записях или потому, что его просто забыли вычеркнуть из списка кандидатов, насупился и отвернулся.
– Меня еще и отец отпускать не хотел, – протянув ноги и заложив руки за голову, сказал Саша. – Даже командира моего просил, чтобы похерили меня. Все надеялся, что не возьмут, что не пройду отбор. Он, знаешь, из тех, кто считает, что лучше до старости гнить в Укрытии, чем раз увидеть мир. Я же наоборот: живи быстро – умри молодым. А как твои отнеслись к этому?
– К чему? – потеряв ход мысли, поднял голову Андрей.
– Ну, что тебя приняли в экспедицию?
– Мать… как мать, – развел руками он. – А отец, когда мне еще два года было, умер… По крайней мере, из города точно не вернулся.
– Он у тебя что, сталкером был? – В Сашиных глазах вспыхнул огонек.
– Да нет, не сталкером, – вздохнул Андрей. – Биологом, но часто работал на поверхности. Однажды не успел до восхода солнца найти себе убежище – проводники заблудились и… – Он громко выпустил через ноздри воздух. – Только через неделю один из проводников добрался до Укрытия, но и тот умер, так и не сказав, где остальные. Меня воспитывали бабушка, земля ей пухом, и мать, она хирург, в больнице работает, хотя уже плохо видит и слышит. Надеялась, что я смогу стать достойной заменой, а меня вот, на военщину потянуло…
– Постой, постой. – На Сашином лице вдруг заиграла загадочная улыбка. – Дай-ка я угадаю – ты сбежал! Да?
– Ничего я не сбежал, – зардевшись, что его раскрыли, попробовал опровергнуть догадку Андрей. – Говорю тебе – сам пошел.
– Не ври! – довольно прищурился Саша. – Сбежал.
– С чего ты взял? Я что, по-твоему, не могу сам за себя решить, что мне делать?
– Можешь, конечно. Но если у матери ты один, то никуда она бы тебя не отпустила, я уж точно знаю. А значит, ты сбежал.
– Хватит тебе! – сердито осек его Андрей. – Сам пошел, говорю. Матери записку оставил только. Не мог я ей сказать раньше, понимаешь? Не мог!
Снаружи становилось все темнее. От багровых лучей, пронизывающих мертвенный горизонт, остались только тающие розоватые лоскуты, проглядывающие словно сквозь толстый слой снега. На смену красочному закату пришла закономерная сумрачная угнетенность.
Глава 3
Руины за окном смазывались, растворялись в темноте, а за ними все чаще начали мелькать мягкие, крадущиеся тени. Мертвые улицы начали шевелиться, оживать. Вот игриво носятся по тротуару несколько собак, совсем щенки, треплют какие-то лохмотья. На обломках бетонной стены, насторожив уши и поджав хвосты, сидят две зрелые особи, принюхиваются, водят по ветру раздвоенными носами. Вот из дверного проема продуктового магазина неспешно вывалились несколько огромных черных тварей, поблескивающих хищными глазами и твердыми панцирями. Они похожи на гигантских омаров, но вместо привычных хвостов у них мясистые, извивающиеся конусовидные отростки, а вместо клешней – что-то похожее на острые г-образные кисти. Вот из широкой трещины в тротуаре взвились несколько лиан – это ростки прячущейся глубоко под землей кровожадной аркуны, только и ждущей, чтоб кто-то по неосторожности приблизился к ее логову.
Больше всего с приходом ночи появлялось собак. Одни сидели, провожая колону своими невидящими глазами; другие бегали, склонив морду и ища чей-то след; третьи лаяли на нарушителей вечерней тишины, пробежав за ними с десяток метров.
Сейчас они не опасны, за ними можно понаблюдать или даже любоваться, если угодно. Сейчас они просто резвящиеся животные, безобидные и несчастные уродцы, радующиеся наступлению темноты. Но стоит одной из машин остановиться, как их поведение сразу же поменяется. И не позавидуешь тому, кто волей случая останется здесь наблюдать за этим вне металлических стен.
– Сколько же вас здесь развелось-то, а? – качнул головой Стахов, рассматривая через заднее стекло непомерно разросшееся семейство четвероногих.
Вдруг его слух уловил посторонний шорох. Затем к нему добавилось слабое скрежетание. Комбат тихо поднялся с кресла, внимательно оглядел трясущийся в прицепе багаж и, не определив источник звуков, перетянул автомат со спины на грудь. Скрежет повторился. Держась за поручни, протянутые вдоль борта, Илья Никитич сделал пару осторожных шагов, опустился на колени и заглянул под днище «Разведчика». Кроме сложенного в несколько раз криокупола, теперь больше похожего на накрытый плащаницей труп, там больше ничего не было. Внутреннее освещение он еще не включал, а фонарик остался висеть в углу противоположного борта, и теперь Стахов бранил себя за такую непредусмотрительность.
Внезапно за заднее колесо ухватилась чья-то костлявая рука, заставив Стахова отпрянуть, вскочить на ноги и в мгновение ока направить на нее черное дуло автомата.
– Э-э, полегче там, – донесся из-под уазика знакомый голос.
Ствол Илья Никитич опустил, но всматриваться в темное пространство под задним мостом УАЗа все же не прекращал. А потом, поняв наконец, кому принадлежит этот голос, недовольно сплюнул и забросил автомат на плечо.
– Каран, ты что, дурак? Ты зачем пост оставил?
– Ну не ругайся, Никитич. – Из люка в полу, о существовании которого Стахов успел напрочь забыть, показалось узкоглазое лицо его напарника по заставе. – Помоги лучше вылезти, а то эта соединительная кишка рассчитана на каких-то тощих малолеток. Я в ней как колобок в желудке удава.
Илья Никитич выругался, снова сплюнул, но все же протянул руку напарнику, помогая ему выбраться из резинового рукава, протянутого между двумя прицепами и машиной.
– Хаким, ты зачем пост оставил, балда? – рассматривая гостя, усердно стряхивающего с комбинезона пыль, повторил вопрос Стахов.
– Блин, там пылищи – задохнуться, – словно не услышав вопроса, поведал Каран. – Представляю, как по нему продираться в этих самых экстренных случаях, да еще и с боеприпасами под руку. Погодь, Никитич, ты что, не рад меня видеть?
– Какого черта ты оставил пост, я спрашиваю?!
– Я же думал… – виновато вскинул на него глаза Каран, прекратив вытряхивать куртку.
– Думал, думал, – перебил его Стахов. – Сказано же, не покидать боевой пост во время дежурств!
Каран был, конечно, славным парнем. И хотя лет ему было около тридцати пяти, ребячества в нем оставалось хоть отбавляй. Шутник, раздолбай, балагур – все это было о нем. Он соткан из этих ниток, как говаривал старый Юхха, пропитан горючим черным юмором, присыпан ветреностью и завернут в кокон дурачества. Никто еще не знавал Карана, философски размышляющего о жизни и о той канаве, по которой она стекает в бездну небытия. Для всех он был ходячий заряд оптимизма и жизнелюбия, от чистого сердца раздающий их тем, кто нуждается. Вот уж кто мог вселять веру в потерявших ее. А еще он отлично играл на гитаре, которую повсюду таскал с собой, а песни у него были все как на подбор: о жизни, дружбе и любви.
Стахов его любил как брата. И песни его слушал с удовольствием, когда имелась свободная минута. Но в то же время Илья Никитич был одним из тех уставных зануд, для которых понятия «служба» и «дружба» находились в разных углах ринга. Причем боец под именем «служба» выглядел как раздутый супертяжеловес, а его соперник походил на щуплого прыщавого старшеклассника, попавшего на ринг по глупой случайности, проиграв друзьям в карты. Зачастую они так и топтались, разминаясь в своих углах, но гонг мог прозвучать когда угодно. Вот хотя бы сейчас.
– Ладно, – Стахов немного остыл, – раз пришел… приполз, проходи.
– О, это совсем другой разговор, – обрадовался Каран. Он последовал за Стаховым к его наблюдательному пункту, продолжая вытряхивать одежду. – Хорошо ты тут устроился, вид – что надо! Не то что мне – крутить головой в обе стороны. Кстати, Никитич, видел, сколько собачья расплодилось в городе? Я прозрел!
Хаким запрыгнул на капот уазика и вольготно там разлегся, протянув ноги чуть ли не до кресла Стахова. Он оперся спиной на лобовое стекло и заложил руки за голову. Как деревенский парень на стоге сена, еще бы только соломинку в зубы да бутыль спирта в оттопыренный карман.
– Видел. У них как раз период такой. – Стахов щелкнул тумблером на контрольном пульте слева, возле рации. И тут же сверху, над прицепом, вспыхнул прожектор, пролив на убегающую дорогу широкую полосу желтоватого света. – Сейчас их больше, чем у нас есть патронов. Но ничего, за зиму их численность сократится.
– Ага, а до зимы еще как пешком до Харькова. Еще дадут они, сволочи, нам жизни.
– Тебе бы отчаиваться, – кинул на него косой взгляд Стахов. – Тебе же всегда море по колено?
– Да море-то морем, но вот все равно как-то кисло в последнее время на душе. А еще кислее становится, когда вижу это собачье кодло!
– Тебе кисло? – удивился Стахов. – Не смеши меня, Каран. Если б я тебя не знал, может, и поверил бы. Тебе ж кисло бывает, только когда последние медяки просадишь в карты.
– Не веришь. А я, между прочим, правду говорю. Вот как покинул Укрытие, так и совсем… – Он отчаянно махнул рукой. – Дурное предчувствие у меня какое-то.
– Зачем же тогда в экспедицию записывался? Сидел бы себе дома, в наряды ходил. И Укрытию пользу приносил бы, и никакие предчувствия не посещали бы.
– Скажешь тоже. Как это я сам на заставе останусь? Вы все, значит, на большую прогулку, а я сиди с новичками? – Он сухо засмеялся, но в глазах радости не было. – Нет уж, я как все.
– Как все? Странно. Раньше, если мне не изменяет память, ты назвал бы это стадным инстинктом. Так что же заставило тебя пойти за стадом, Каран? Поддался все-таки?
– Называй это как хочешь, Никитич. Я просто знаю, что больше нужен здесь. Тем более с Укрытием тоже что-то недоброе происходит. Вот чувствую я. – Он ударил себя кулаком в грудь. – И там хреново, и впереди беду чую. Вот как будто в тиски попал.
– Во как? – На лице Стахова застыло удивление. – Ты просто меняешься на глазах, друг мой. Еще вчера ты пил спиртягу в «Андеграунде», бабам песни посвящал, кадрил их там по полной и вообще радовался жизни. А сегодня тебе уже стало кисло, одолевают какие-то дурные предчувствия и с Укрытием нелады. В тисках его уже зажало. В «Андеграунде», небось, не зажимало?
– В «Андеграунде»… – хмыкнув, потер щеку Каран. – Скажешь тоже. Когда Петрович нальет первосортной, сам знаешь, как понести может.
– Хочешь сказать, что Кондратий к тебе зашел еще раньше? – улыбнулся Никитич.
– Все шутишь? А я тебе по правде говорю, что давка там какая-то, прямо шкурой чувствую. Вон, Шиш перед смертью все твердил, что видит, как над Укрытием какой-то шар навис и все снижается и снижается.
– Шиш на свою же мину наступил, Каран. Его контузило на всю голову, а заодно, вижу, и тебя. Какой еще к черту шар?
– Ну а Ветер? Он-то на мину не наступал, а перед тем как окончательно с катушек съехать, тоже твердил о какой-то силе, давящей извне, и что сведет она нас всех с ума по одному. Или, думаешь, сговорились? И я вот чувствую, Никитич, честное слово чувствую.
– Да что ты несешь, Каран? – В голосе Стахова послышалась раздражительность. – Какая еще давка? Какой шар? В гробу я видел ваши эти проповеди. Знаешь, сколько таких, как ты, уже было за тридцать шесть лет? Предсказателей, оракулов и прочих, на кого сходили откровения небесные? Некоторые даже конкретно называли день, когда Укрытие должно пасть. И что? Умерли все? А ни хрена. Так что не забивай себе голову всякой ерундой. В тисках его зажало! И придумает же.
– Ну хорошо, – согласился Каран после некоторых раздумий, – пусть будет по-твоему. Ответь мне тогда на другой вопрос: ты сам-то веришь в успех этой экспедиции? Ну, в то, что мы сможем помочь тем людям из харьковской подземки?
– Помочь? Не знаю, как насчет помочь, думаю, на месте сориентируемся. Если им нужны только боеприпасы и еда, то, думаю, на пару месяцев мы их точно обеспечим. Не забывай, наша основная цель – разведка. Прибудем на место, посмотрим, может, и поддержим чем.
– То есть мы едем не помочь людям, а только посмотреть на них, так получается?
– Каран, не задавай глупых вопросов! – вспылил Никитич. – Ты помнишь нашу с тобой первую спасательную операцию? Как мы пытались помочь людям из «Дружбы народов»? Забыл? Так вот, кто даст гарантию, как говорил наш старейшина, что подобное не произойдет в Харькове?
Мысли Карана всколыхнулись, словно давно никем не тревожившаяся вода, завертелись, раскручивая катушки памяти в обратном направлении, разматывая многолетние пленки пережитого. На пять лет назад, десять, двадцать…
Ему недавно стукнуло четырнадцать. Все выходы из метро на то время уже были либо взорваны, либо наглухо забаррикадированы, либо запечатаны железными заслонами, двери на которых открывались только снаружи. Внутрь подземки уже лет семь как никто не входил. И не потому, что не нужно было, а потому, что боялись. Разные истории рассказывали сталкеры, которым приходилось приближаться к закрытым заслонам. Одни говорили, что за ними до сих пор слышатся нечеловеческие крики боли и стенания, другие говорили, что слышали, как там играет какая-то музыка, третьи уверяли, что слышали скрежет с той стороны занавеса, будто кто-то скреб ногтями по дверям. И уж почти всем, кто прикладывал ухо к холодной металлической стене, если долго прислушиваться, удавалось распознавать на фоне давящей тишины голоса. Порой только шепот, порой словно чтение молитв, порой зов…
Двадцать третьего августа две тысячи двадцать шестого года Каранов третий раз в жизни поднялся на поверхность. «Монстра» тогда еще не было, его только годом позже притащат вояжеры с какого-то подземного бункера, где он простоял, что называется, «в масле» последних двадцать лет. На развозе тогда был старенький пазик, который также был обшит легкой броней и использовался как боевой транспорт. В тот день вояжеры, в числе которых были Каран и Стахов, возвращались назад не с пустыми руками. В намеченном сталкерами месте они нашли почти новый генератор. Поход был более чем удачным, ведь кроме нового генератора им удалось обзавестись еще и нужными деталями к тем генераторам, что стояли у них в Укрытии и уже дышали на ладан.
Возвращались под утро, так как работы было много, погрузка заняла почти всю ночь. Вдруг кто-то заметил, что двери на заслоне одной из станций сорваны с петель, а над зияющим чернотой проходом огромными буквами было написано: «Помогите!»
Сама мысль о том, что там, в изолированной от внешнего мира среде, мог кто-то выжить, заставила вояжеров забыть, что скоро рассвет, что нужно убираться из города как можно скорее, что спасательные операции следует проводить вовсе не средне вооруженным вояжерам, а специально подготовленным для этого сталкерам. Надежда увидеть живого человека, пусть нелепая, пусть бездумная, помешавшая им разглядеть, что смола, которой были нанесены буквы, уже стара и даже успела местами отвалиться, становилась сильнее инстинкта самосохранения.
Их не остановило и несчетное количество иссохших от длительного времени человеческих останков, усеявших собой пол вестибюля и коридор к эскалаторам. Они шли вниз по ржавым ступеням эскалатора, не сообразив, что люди, которым принадлежат те останки, бежали как раз на поверхность, бежали из бесконечных глубин тоннелей в последней надежде спастись. Не поняли они и того, что здесь же их настигла страшная смерть, разметавшая их тела на части, разорвавшая, пропустившая сквозь себя, словно через огромный измельчитель. Ослепленные идеей повстречать живого человека, вояжеры спускались и спускались вниз, осматривая забрызганные багровыми пятнами стены, не обращая внимания на дышащую в лицо угрозу, заглушая крик «Беги!», эхом звучащий в мозгу.
И только когда по платформе с застывшим посреди нее изъеденным ржавчиной поездом пронесся низкочастотный гул, будто по тоннелю пролетел невидимый сверхзвуковой самолет, и фонарики у вояжеров погасли, они вдруг поняли, что попали в западню. Вдогонку ко всему где-то сверху скрипнула ржавыми засовами дверь.
Их закрыли!
Первым вышел из состояния ступора командир. Он выкрикнул что-то вроде «Уходим!», но тут же какая-то невидимая рука подхватила его и бросила об землю так, что было слышно, как хрустнули ребра. Кто-то хотел помочь и подоспел к его распластанному телу, но и сам взмыл к потолку, а затем громко шлепнулся обо что-то металлическое, возможно о неподвижный состав на платформе. Загромыхали автоматы. В кромешной темноте при свете брызжущего огня не было видно ничего, они расстреливали темноту, но вместе с тем темнота брала их поодиночке, одного за другим, и отбрасывала назад, на платформу. Забирала себе.
Каран со Стаховым выжили только благодаря тому, что сразу же бросились наверх, не тратя времени на обстреливание невидимого врага. Побежали сами, не дожидаясь приказа командира. Они уже успели преодолеть половину расстояния, когда крики и стрельба внизу стихли. Бросив всю снарягу, зажав в руках только оружие, они сломя голову понеслись наверх. Это их и спасло. А также случайно попавшие в дверной проем кости, не позволившие дверям заслона защелкнуться полностью, закрыв молодых вояжеров там навсегда…
И пусть при этом они проявили крайнюю трусость, так и не сделав ни единого выстрела, за что их позже неоднократно потом грызла совесть, но зато выиграли жизнь…
Где-то слева затрещала рация, оборвав в мозге Карана воспроизводимую с точностью до мелких деталей пленку памяти. Раздался искаженный радиоволнами, но все же вполне узнаваемый голос Бешеного.
– Никитич, а где Одинокий-один? Что-то мы с ним связаться не можем, он не у вас там случаем?
И еще до того, как Стахов поднес рацию к щеке и нажал на кнопку связи, Каран понял, что врать комбат не станет. Слишком хорошо он его знал.
– Бешеный, он здесь, – доложил Илья Никитич, стараясь не смотреть в сторону напарника. – Я его позвал.
Рация молчала пару секунд, затем затрещала снова.
– Илья Никитич, берешь грех на себя? – самодовольный голос Тюремщика.
– Беру, – решительно сказал Стахов, оглянувшись на Карана. – Чего уж мелочиться-то? Одним больше, одним меньше.
– Хорошо, – смеясь, сказал Тюремщик. – Я просто хотел предупредить вас, что мы спускаемся на воду. К вашим услугам прогулки на речном трамвайчике, аттракционы и множество других развлечений.
А уже в следующий миг машины замедлили ход и пошли по наклонной.
Впрочем, никакого всплеска не послышалось.
Когда-то здесь была река, настоящая, широкая, полная чистой, живительной воды. Река – жизнь, река – гордость, река – предание, воспетая народными песнями и окутанная древними легендами. Днепр.
Сейчас уже трудно поверить, что этот широченный ров, кривой и ухабистый, был раньше весь до краев заполнен водой, что здесь обитали рыбы ценных пород, водную гладь бороздили пассажирские теплоходы, бурлящими «расческами» возвышались плотины электростанций, а у причалов сияли, озаряя ночь тысячью разноцветных лампочек, плавучие казино и рестораны. Невозможно было и представить, что летом эти корявые берега превращались в место отдыха для тысяч горожан, детей, плескающихся в теплой воде, возводящих дома из песка, визжащих от переполняющей их радости и удовольствия, а на Венецианском острове, ныне больше смахивающем на астероид, наполовину ушедший в дно высохшей реки, когда-то располагался развлекательный комплекс «Гидропарк» со множеством пляжей, аттракционов, ресторанов и лодочных станций. Теперь же ржавеющие остатки каруселей в отблесках света фар выглядели как протянутые к небу кисти рук, обглоданные и иссохшие, просящие о помиловании, о спасении.
Легендарная река давно превратилась в пар, поднялась в атмосферу лишь для того, чтобы выливаться обратно, щедро орошая мертвой водой проклятую земную юдоль и трепыхавшихся в ней в стремлении выжить существ.
– Чего-то затишье подозрительное какое-то. – Бешеный выбросил окурок через приоткрытое боковое окно. – Давно такой ночки не было. Одни собаки.
В еще не выветрившихся клубах дыма, разъедающих глаза, его можно было принять за новый вид мутанта с торчащим остроконечным гребнем для вспарывания животов несчастным жертвам.
– Не каркал бы ты, а? – прищурился Тюремщик. – Вечно тебе не хватает острых ощущений. Кого тебе еще надо-то?
– Ну, хоть бы пару летунов для разнообразия… – Он рассмеялся и хлопнул Тюремщика по спине, зная, как тот до одурения ненавидит шутки подобного рода. Особенно на поверхности.
– Чего ты несешь, балбесина?! – раздосадованно просипел Тюремщик. – Вечно ты должен накликать беду своей болтовней!
– Релакс, бой, – многозначно протянул Бешеный и опять хлопнул друга по плечу, – все под контролем. Если будут проблемы – папуля все уладит. – Он стукнул себя кулаком в голую грудь. – Я не дам тебя в обиду, малыш.
– Слушай, ну помолчи, а? До чего же ты бываешь редкостным занудой! Иногда так и хочется взять твое мачете и обрубить этот твой чертов язык!
– Язык??? – шутливо изобразив на лице глубокое удивление, подпрыгнул на месте Бешеный. – Тюрьма, как ты можешь такое говорить? Линка меня сразу же бросит! Лучше уж отруби мне яйца!
И он протянул ему один из своих громадных ножей.
– Отстань, – отмахнулся Тюремщик. – Линка тебя все равно бросит, хоть ты с языком, хоть без.
– Это еще почему?
– Потому что ты ее не удовлетворяешь за свои пять минут дерганья! – с лицом, готовым вот-вот растянуться в улыбке, ответил Тюремщик.
– Это она сама тебе сказала?!
– Да, когда я ей вот на днях засаж…
– Ах ты сучонок! – взревел Бешеный и, выкрикивая ругательства и брызжа слюной, набросился на него и принялся колошматить. С таким остервенением, будто пытался вытрясти из него последнюю монету. – Я тебе покажу «на днях»!
Тюремщик сдерживаться больше не мог – загоготал во весь голос. Практически не оказывая сопротивления и не в силах прекратить смеяться, он забрал руки с руля и сполз на пол. Сверху его своей массой придавил Бешеный, не переставая испытывать на прочность его бока, в частности печень, не всерьез лупя по ним кулаками и коленями.
– Слезь с меня, ты, извращенец! – закричал Тюремщик, не находя в себе сил, чтобы остановить смех. – Она говорила правду!
Машина пошла змейкой, то притормаживая, то, наоборот, разгоняясь. Случайно придавив педаль газа в пол, они едва не наскочили на мерно шествующую впереди «Бессонницу». Вывернуть руль удалось лишь в последний момент, когда своим клином «Монстр» чуть не поддел ее за гусеницу. А в следующую секунду они уже на всех парах мчались навстречу догнивающему остову катера, разлегшемуся посреди русла реки, и в этот раз столкновения избежать не удалось. Куски обшивки взмыли в воздух, закружились над кабиной, разлетелись в разные стороны, ржавый остов прогулочного катерка переломился пополам, безропотно пропустив сквозь себя грозную машину со своим немалым багажом. «Монстр» при столкновении лишь слегка покачнулся, будто легковушка, попавшая в зону высокого давления с сильным встречным ветром.
Затрещала рация.
– Э, братишки, вы там чего? – прозвучал подсевший голос Крысолова, командира «Чистильщика», а заодно и начальника экспедиции, как всегда, суровый и насмешливый одновременно. – У вас там все нормально? Или решили порезвиться немного?
– Все нормально, кэп, – ответил Тюремщик, влезая обратно на сиденье и схватив рацию как гранату, у которой выпала чека. – Немного отклонились от курса, сейчас все выправим. – Затем, отпустив кнопку связи, повернулся к Бешеному и замахнулся на него зажатой в руке рацией: «У-у, балбесина!»
Бешеный смеялся, его еще здорово держало выкуренное зелье, подогнанное любезным Петровичем, который, что называется, «держит бренд и херни не подсовывает». Суеверный Тюремщик постукивал по деревянной дощечке, специально припасенной для такого случая, мысленно прося Бешеного, чтоб тот больше не трындел о летунах и прочей нечисти. Андрей все еще обижался на своего рыжеволосого напарника, но в то же время с любопытством слушал его рассказы о том, как проходил отбор и как его едва не отсеяли, сказав, что у него есть пара болезней, с которыми нежелательно подниматься на поверхность…
И вдруг кабину «Монстра» сотряс крик, вмиг оборвав и музыку, и раздумья, и смех, и пустую болтовню. Крик из рации, над которой загорелась цифра 3, тут же вывел всех из инертного состояния, словно впрыск лошадиной дозы адреналина.
– Одинокий-два… – догадался Бешеный, согнув руку в локте и указав большим пальцем на заднюю стенку кабины. – Никитич…
Что именно он прокричал, с первого раза никто и не расслышал, настолько громким, внезапным и резким был его окрик. Тюремщик потянулся было к рации, как очередной вопль заставил его вздрогнуть и похолодеть. Голос комбата, обычно такой спокойный и уравновешенный, был полон тревоги. Даже со второго раза непонятно было, что он хотел сказать.
Правая нога Тюремщика рефлекторно вдавилась в пол, заставив машину мчаться во весь опор, не обращая внимания ни на оставшуюся в стороне «Бессонницу», ни на приближающуюся громадину «Чистильщика».
– Стоп машина, идиоты!!! – наконец удалось разобрать слова Стахова. – Мерзлые!!!
В следующий миг «Монстр», подобно адскому носорогу, всеми колесами вгрызся в загрубелую глинистую поверхность дна, задрожал, заскрежетал старыми суставами, заскрипел тормозами, поднимая за собой песчаные тучи.
Бешеный, краем глаза заметив, как Тюремщик отдергивает ногу от гашетки акселератора, будто от раскаленной поверхности утюга, и вжимает в пол педаль тормоза, вытянул вперед руки, дабы не врезаться головой в лобовое стекло. Тряхнуло здорово, «База-2» со Стаховым и Караном на борту едва не опрокинулась, колеса заскользили из стороны в сторону, а мгновение спустя хвост прицепа уже начало заносить влево. Любая кочка, любая, даже совсем безобидная, выемка могла сыграть роковую роль в судьбе «Базы-2», опрокинув ее на бок и оторвав от основного состава.
– Тормози-и-и!!! – снова закричала рация голосом Стахова.
Тюремщик, проклинавший себя за идиотскую свару с напарником, понял, что, если сейчас же не отпустить тормоз, «База-2» догонит его, и убрал ногу с педали. «Бессонница» мелькнула где-то справа, слава богу, ее не зацепит.
Бешеный машинально схватил рацию, ткнул пальцем в кнопку на пульте с надписью «Внешняя связь» и, приложив микрофон к губам, выкрикнул примерно то же, что и Стахов, в безумной надежде, что остальные расслышат его с первого раза, поскольку повторять эти слова дважды ему совсем не хотелось.
«Монстр» наконец остановился, заглушив двигатель. За ним тянулись вспаханные колесами глубокие борозды, а в воздухе все еще неслись вперед, подхваченные ветром, сплошные стены пыли. Свет погас одновременно во всех машинах, как в упавших на дно океана подводных лодках.
Люк в фургон распахнулся, словно глаз громадного чудовища.
– Мелкие, запомните, – впопыхах прошептал Бешеный, – что бы вы ни увидели – не кричите. Закричите – подпишете всех. Если они войдут, не шевелитесь, не дергайтесь, не дышите, мать вашу, не хлопайте даже ресницами, а главное – не бздите. Если они вас учуют, вам не жить, ясно? И никто вам не поможет. Никто.
Они затрясли головами, побледнев и выпучив глаза, словно две выброшенные на берег рыбы. В мозгу Андрея лихорадочно начали всплывать какие-то незаконченные фразы, слова, прочитанные или услышанные, мутные картинки с жуткими изображениями. Что оно такое, эти мерзлые?
Но вдруг ощутил, что в голове стало пусто и свежо, как в расколотом сосуде после многочасовой бури. Все заполнили гулкая пустота и холод.
Холод. Вот в чем причина. Холод отовсюду. Холод пробирается под одежду, сковывает грудь, покалывает лицо, оседает инеем на бровях и ресницах, превращает выдох в белый пар. Холод, постепенно переходящий в мороз. Укутывающий мохнатой белой шерстью красный плафон дежурной лампы, едва тлевшей под потолком фургона. Холод рисует вычурные узоры на стекле неподвижно закрепленного «Разведчика», пускает пушистые «трещины» на лобовом стекле «Монстра», инеем оседает на брикетах топлива, на ящиках с патронами, на панели приборов, скрывая из виду все показатели, на фиолетовом дисплее проигрывателя, на руле, рычагах… Все неживое побелело, обзаведясь щетинистой, искрящейся коркой, а живое стало синим и дрожащим.
Бешеный медленно, словно боясь укуса, дотянулся до рации, дрожащими пальцами ткнул на радиомодеме цифру 3 и поднял рацию до уровня груди.
– Ил-л-ль-я Ник-к-китич, – стуча зубами, выговорил Бешеный, – а м-мы не мог-г-гли прос-с-скочить?
Некоторое время в радиоэфире, как это и должно быть в таких случаях, соблюдалась тишина. Бешеный знал наверняка, что Стахов, неукоснительно соблюдающий все инструкции и предписания, не станет нарушать этот пункт, и опустил руку, поймав на себе презрительный, чуть ли не озлобленный взгляд напарника, в котором так и читалось: «Ну что, доволен? Тихая ночь, говорил? Скучно было? Держи теперь, урод!» Но рация, вопреки всем предсказаниям, зашипела, и в ней послышался дрожащий голос Стахова.
– Н-нет, с-с-слишком пл-л-лотное… ес-с-сли бы ехали м-м-медленнее, м… м… черт, как хол-л-л-лодно… может, и про… проск-кочил-ли бы… А т-так, пот-т-тянули за с-с-собой… к-к-ак ш-ш-шаровую мо-о-олнию…