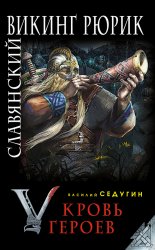Князь механический Ропшинов Владимир

С разных сторон на нее вышли два саженных ростом будетлянских силача[13]. Они неуклюже, но уверенно шагали своими стальными ногами, с легким шипением пневматических приводов опуская на дощатый пол широкие плоские ступни, и пол скрипел под их тяжестью. Дойдя до середины, силачи остановились и повернулись к залу.
Было очень тихо, никакой музыки, только чуть-чуть шелестел граммофон и внутри голов силачей, как в готовых пробить часах, когда уже запущен механизм боя, бешено завертелись шестеренки.
Первый будетлянский силач открыл рот, и в тот же миг пластинка на граммофоне запела за него.
– Все хорошо, что хорошо начинается! – пропел граммофон, идеально попадая словами в такт движения челюстей силача. – А кончается? – пропел он за второго. – Конца не будет! – пропел за первого.
- Мы поражаем вселенную,
- Мы вооружаем против себя мир.
- Солнце, ты страсти рожало,
- Жгло воспаленным лучом,
- Задернем пыльным покрывалом,
- Заколотим в бетонный дом!
Пока силачи пели, на сцену выехала телега, похожая на две соединенные друг с другом спинки казенных металлических кроватей на больших колесах с тонкими спицами. В ней сидел и приводил ее в движение механический актер в шляпе. Когда силачи допели и, развернувшись в разные стороны, медленно пошли за кулисы, актер в телеге повернул голову к зрителям. Он был обычного человеческого роста, его тело, как и у силачей, представляло собой стальной скелет с тросиками нервов и пневматическими приводами мышц. На актере была надета застиранная армейская гимнастерка с Георгием, но ни штанов, ни исподнего он не носил. На стальной голове – человеческое лицо с неподвижными глазами.
– Я буду ездить по всем векам, я был в 35-м, там бунтовщики в 10-х странах воюют с солнцем, и хоть нет там счастья, но все смотрят счастливыми и бессмертными, – в такт его открывающимся челюстям пропел граммофон. – Неудивительно, что я весь в пыли и поперечный… Призрачное царство… Я буду ездить по всем векам, хоть и потерял две корзины, пока не найду себе места.
В этот момент загрохотали барабаны, и неизвестно откуда идущий голос провозгласил:
– Идут враги.
На сцене появились новые механические актеры, одетые в немецкую и японскую военную форму. Медленно и неуклюже они ступали, а музыка играла военный марш. С другой стороны им навстречу появились силачи, теперь державшие в руках огромные молоты. Силачи и враги сошлись друг к другу и остановились на расстоянии полусажени. Музыка взвизгнула, грохнул барабан, и силачи обрушили молоты на врагов. Раздался звонкий удар, стальные черепа полопались, и на дощатый пол сцены полетели шестеренки. Внутри разбитых голов зашелестели раскручивающиеся пружины заводных механизмов. Руки механических врагов, как живых, конвульсивно дернулись. Два врага рухнули, и стоявшие за ними следующие враги сделали шаг вперед, подставляя свои головы. Будетлянские силачи и их осчастливили ударом. Снова загрохотало, зазвенело, посыпались шестеренки, стеклянный глаз одного из врагов, вылетев, покатился по доскам. Из глазницы вывалилась и повисла, покачиваясь, пружина.
В этом неестественном действе было что-то еще более неестественное, чем оно само. Не могли так, со спокойствием поднявшихся на эшафот, подставлять свои головы под удар и умирать машины. Олег Константинович видел, как они умирают. В ночь на 17 ноября 1921 года южнее станции Цицикар Китайско-Восточной железной дороги на его глазах тремя прямыми попаданиями был сбит воздушный крейсер «Минерва». С капитанского мостика «Адмирала Макарова» князь видел, как в трехстах саженях от него лучи японских прожекторов выхватили «Минерву» из темноты, и спустя лишь несколько секунд крейсер обстреляли с земли. Цеппелин дернулся, когда первый снаряд пробил его алюминиевый баллон, выбрасывая наружу смятые, порванные металлические листы сот, удерживавших газ. Как мотыльки, сверкая в свете прожекторов, они вылетели в черное небо. Часто-часто захлопали, взрываясь, газогенерационные патроны, пытаясь восполнить тающую летучесть, и «Минерву» окутал плотный серый дым, за которым экипаж пытался поменять курс, чтобы уйти с линии огня. Но лучи вцепились в него и держали своими когтистыми желтыми лапами. Цеппелин дернулся, хватаясь за воздух. Он бы выдержал этот удар и дошел обратно до летного поля, но один за другим его баллон пробили еще два японских снаряда, и газа в нем не осталось вовсе. Экипаж покинул корабль, и под ним раскрылся с десяток парашютов. Но огромная машина, устав сопротивляться законам природы, опустила руки и всей своей многотонной массой пошла в сырую землю, погребая под собой своих людей, чтобы быть в земле вместе так же, как вместе были в небе.
Вот так умирали машины.
Один из врагов на сцене упал, но второй, хоть и с проломленной головой, остался стоять. Тут же подбежал весь в черном, имея в виду быть незаметным, служитель с крюком и дернул им стоявшего механического актера. Актер закачался и рухнул. Но за миг до этого силачи повернулись к залу, открыли свои челюсти и запели:
- Колесница победная едет,
- Пулемет работает сверху.
- Видишь сталь в небе?
- Порт-Артур и Сольдау[14]
- Тяжелы для вас стали, враги!
Путешественник во времени выехал на своей телеге-кровати вперед. Граммофон запел за него:
- – Что прошлое вам?
- Молоты дадены в руки к тому ль?
- Солнце свергайте скорей!
Будетлянские силачи кивнули головами и, повернувшись, пошли со сцены. Словно сорвавшийся с пружины, вылетел занавес. Загорелся приглушенный свет: наступил антракт. Публика, складывая лорнеты и убирая в лакированные футляры бинокли, совершала свои бессмысленные ритуалы: дамы подавали руки в нитяных перчатках спутникам и, едва касаясь их пальцев своими, легко поднимались из мягких кресел.
Князь услышал за собой шелест юбки и обернулся. В его ложу вошла одетая в белое, как подвенечное, платье, с заплетенными в косу волосами поэтесса Зинаида Гиппиус. Он помнил ее лицо – безупречное, но как будто мужское. Словно прекрасный миловидный юноша переоделся в женское платье и стал красивой женщиной – но мужское происхождение выдает его даже не в повадках, не в мимике, а читается, если приглядеться, в глубине глаз. Они виделись несколько раз на литературных вечерах, прежде нежели он уехал на фронт.
– Извините, Олег Константинович, что нарушаю ваше уединение, – сказала она уверенным тоном человека, привыкшего к поклонению, который нисколько не шел к ее словам, – надеюсь, вы не прогоните меня?
Князь поднялся с кресла, взял лежавшие на соседнем фуражку с перчатками и жестом предложил Гиппиус садиться.
– Вы ведь только вчера из Маньчжурии? – обворожительно улыбнулась Гиппиус. – И сразу пошли смотреть нашу диковинку?
– Мне барон Фредерикс настоятельно советовал, – ответил Романов, – хотя пьеса, кажется, довоенная?
– Ах, вольно ведь вам пьесу смотреть, – хихикнула Гиппиус, – да, она довоенная, но немного осовремененная. Ее Крученых придумал, кажется, за год или за два до войны. Это та, к которой Малевич свой «Черный квадрат» нарисовал. Но что пьеса? Тут, бывало, и похуже ставили – главное ведь не в ней, а в артистах. Чтобы все синхронно было – рты с граммофоном совпадали, удары с головами. Могли бы ведь самих актеров говорящими сделать, но как тогда подчеркнуть эту слаженность? Тут как балет: превыше всего ценится механика. Если бы последний враг сам упал – и придраться бы не к чему было. В Лондоне вроде бы в следующем году хотят такой же театр открыть, в Хрустальном дворце. Но пока наш – единственный в мире. Из Америки специально прилетают, чтобы в него попасть.
Романов вежливо улыбнулся.
– А как вам проломленные черепа?
– После войны – никак.
– Ах, ну да, я же забыла, что идет война. – Гиппиус опять улыбнулась, и князь вдруг поразился, как нелепо, невозможно и вместе с тем искренне, а главное – правдиво – произнесены были эти слова. – Однако вот же странная тяга драматургов к уничтожению и публики к созерцанию уничтожения. Гладиаторскими боями развлекали себя, пока в вынужденном порядке не стали христианами, и только нашли способ совместить одно с другим – ту же и совместили! А заодно и цену своей пьесе назначили: ведь не меньше 300 рублей одна голова стоит, а тут четыре, так что действо самое малое в 1200 рублей обходится. У кого повернется язык сказать, что дешевка?
Пронзительно зазвенел звонок, погас свет. Служитель выбежал, чтобы запустить граммофон, и князь с удивлением подумал, что не заметил, когда он остановился. Занавес рванулся и открыл сцену.
Там теперь были декорации. Они изображали Петроград XXXV века: на стрелке Васильевского острова стояла Биржа, ее портик из клепаных стальных балок поддерживали металлические колонны, а из двух Ростральных колонн красного кирпича, как из заводских труб, валил черный дым. Механические жители того Петрограда со стрекозиными крыльями летели по своим надобностям с Адмиралтейского острова, мимо крепости и гиперболоидной башни, на Петроградскую сторону, а иные – вдоль Малой Невы в сторону Министерства торговли и промышленности. Все было нарисованным, только люди настоящие: маленькие, они летали из одного конца сцены до другого, где за кулисами их ловили служители, заводили механизмы и пускали обратно – к другим служителям напротив.
Из граммофона раздавалась песня, и под нее, синхронно двигая челюстями, словно произнося слова, вышли на сцену жители 10-х стран.
- Знайте, что Земля не вертится более,
- Мы вырвали солнце со свежими корнями,
- Они пропахли арифметикой жирные.
- Вот оно, смотрите.
В руках первого жителя 10-х стран был круглый стеклянный шар с дешевым подсвечником внутри, в котором горела свеча. Он развел свои механические руки, и солнце упало на пол, разбилось, подсвечник покатился, свечка в нем сломалась и потухла, оставив на досках пятнышко застывающего воска.
С другой стороны сцены появился Трусливый. Трусливый был живым человеком, с лысиной и жидкими длинными немытыми волосами, неряшливо одетый, но пел за него все равно граммофон.
– Мы выстрелили в прошлое, – пропел граммофон за жителей 10-х стран.
– Что же, осталось что-нибудь? – вопрошал уже другим голосом все тот же граммофон за Трусливого.
– Ни следа!
– Глубока ли пустота?
– Проветривает весь город. Всем стало легко дышать, и многие не знают, что с собой делать от чрезвычайной легкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными.
– Позавчера на рынке за фунт масла хотели 30 копеек, вчера – рубль, а сегодня уже просят фонарный столб! – пропел Трусливый. – Как угнаться за этими ценами? Ох, 10-е страны…
Дверь в ложу за спиной князя вдруг заскрипела. В ту же секунду Гиппиус нагнулась к нему из своего кресла, так что полоска света дверного проема перечеркнула ее белое платье.
– А презанятнейший толстяк, не находите? – неожиданно громко спросила она.
Князь удивленно посмотрел на поэтессу, но она уже вернулась в свое кресло и погрузилась в созерцание действия. Дверь за спиной снова скрипнула, закрываясь.
Тем временем на сцену с вещмешками за плечами и посохами в руках, как путешественники, вышли будетлянские силачи.
– Мы победили врагов, – пропели они, – немец с японцем лежат. Расколоты их черепа.
Хор жителей 10-х стран пропел:
- Вы победили врагов,
- Тому уж 15 веков!
- Что ваша победа для нас?
- Дряннее, чем кошкин хвост!
Гиппиус украдкой глянула на Романова. Он почувствовал этот взгляд и спросил сам себя, что было в нем: любопытство или сочувствие. Смешно. Разве тот миг, когда, укрытый кровавой простыней, в сентябре 1914 он лежал на кровати походного госпиталя в Вильно и отец, великий князь Константин Константинович, привез ему царский указ о награждении Георгием, мог померкнуть от этого граммофона? Или сочинившие пьесу поэты-футуристы, отсиживавшиеся всю войну по прокуренным подвалам, могли оскорбить его, князя императорской крови?
– Как можете вы оскорблять героев?! – воскликнул, выскочив вперед, Трусливый.
Жители 10-х стран ответили ему:
- Великая невидаль: одни черепа другим проломили, —
- Не так ли всю историю и бывало?
- Мы свергли солнце
- И конец всему положили,
- Началом нового стали!
Будетлянские силачи, все еще стоявшие с посохами, спросили:
– Что ж вам без солнца славно ли живется?
– Да уж славнее, чем с ним. Хоть и темно, а все же хозяева мы теперь всему!
Силачи бросили свои посохи, встали в один ряд с жителями 10-х стран и присоединились к их хору.
Когда занавес закрыли, зал потонул в аплодисментах. Служитель, дождавшись их окончания, поднял иголку патефона, публика стала вставать, соблюдая все положенные ритуалы, со своих мест. Гиппиус, уже не скрываясь, с любопытством посмотрела на князя.
– И как вам? – спросила она.
– Я – сторонник классического искусства, – вежливо улыбнулся Олег Константинович.
– Вам не понравилось? – всплеснула руками Гиппиус и тут же рассмеялась. – Ах, не отчаивайтесь. Это никому не нравится – просто не многие находят силы признаться. Нужен мальчик, который скажет, что король голый, как в той сказке, помните? А давайте, князь, это будем мы?! Вот сейчас вот спустимся вниз, к гардеробу, и прямо там скажем: господа, да что же вы? Да скажите же наконец вслух, что думаете. Что это – чушь несусветная!
– Боюсь, я, как представитель царствующего дома, не имею права на подобные высказывания, – опять улыбнулся Олег Константинович.
– Что же, опять придется мне одной, – притворно обиделась Гиппиус, – как немцев рубить – так вы первый, а одинокую женщину в ее борьбе за правду поддерживать не хотите!
Князь развел руками.
Под руку с Олегом Константиновичем Гиппиус спустилась по мраморной лестнице театра на первый этаж. Одновременно с ними по другому крылу лестницы спускалась тонкая, в изящном длинном, волочащемся по полу платье Анна Ахматова, окруженная, как обычно, толпой восторженных почитателей и соратников. Было даже странно, что никто из них не догадался поднять подол ее платья с пола и нести его, как паж за королевой.
Взгляды обеих поэтесс встретились. Ахматова гордо подняла голову и величаво проследовала дальше. Она была лет на пятнадцать моложе и, конечно, привлекательнее. Гиппиус криво ухмыльнулась. Они ненавидели друг друга.
– В этом, – убежденно говорил один из окружения Ахматовой, поэт Михаил Зенкевич, с курчавыми волосами и круглыми очками на молодо выглядевшем лице, – есть великая глубина мысли. Что пьеса стара, я не спорю. На первых своих постановках она была прорывом, теперь же это уже и не прорыв вовсе, а попытка ее переписать только ухудшила дело. Хотя, надо признать, отдельные моменты меня и позабавили. Но дело ведь в другом! Смотрите не на форму, а на суть. Механические артисты поют о будущем, и мы, люди, воротим носы. Но так ведь это и не наше будущее, как же оно нам может нравиться? Это их, машин, будущее! Машины, которые мы создаем, скоро превзойдут нас во всех отношениях. Они уже воюют лучше людей, а в ближайшие десять лет научатся делать лучше и все остальное. Вы слышали – из городской управы уволено около ста человек, работавших в адресном столе, потому что их заменили электромагнитной машиной. Они теперь уже стоят не только на заводах, но и в управе. Следующий шаг – суды. Справедливые судьи, не берущие взяток, не подчиняющиеся приказам начальства, чьи железные сердца не разжалобить притворными слезами, – разве не об этом мечтало все человечество. Мы создадим их, и они будут работать против нас! Нас, людей, они будут судить по своим машинным представлениям о справедливости. И мы сгинем! Мы сгинем, как сгинут этой же зимой от голода и холода уволенные конторщики из паспортного стола.
Ахматова с поощрительной улыбкой смотрела на оратора.
– Безрадостные картины вы рисуете, Михаил Александрович, – сказал сутуловатый Осип Мандельштам.
– Что же здесь, любезный Осип Эмильевич, безрадостного? – воскликнул Зенкевич. – Это закон природы. Родители создают своих детей и умирают, освобождая им место для жизни и развития! Роды – кровавые, мучительные, страшные – уже состоялись. В великой, потрясшей весь мир войне родились новые машины. Прежде мы смотрели на них как на игрушки, созданные для нашего удовольствия и облегчения труда. Теперь же познали их силу! Скоро, скоро они вырастут до нашего роста и, не останавливаясь, пойдут расти дальше. Послушайте, какое стихотворение написал я в 1918 году, когда запах войны в воздухе, запах паленой крови, смешанной с удушающим газом, достиг наивысшей концентрации!
Зенкевич поправил пальцем очки и встал в позу, готовясь декламировать. Остальные члены кружка Ахматовой расступилась, давая ему место. Олег Константинович вместе со своей спутницей стояли на противоположном лестничном пролете и, как и многие другие вышедшие из зала зрители, наблюдали за происходящим.
Когда толпа расступилась, князь впервые увидел Зенкевича во весь рост. Высокий, но тщедушный, в куцем пиджаке – Романов не понимал, от бедности ли или такова была мода в этой среде, – он казался каким-то жалким, как чахоточно-больной. Именно такие люди всегда самые яростные – с удивлением заметил про себя князь, – яростные и часто в своей ярости неоправданно жестокие. Как будто трусливо боятся, что тот, кого они обидели, если не будет изничтожен окончательно, повернется и отомстит.
И голос у него был под стать, высокий, взвизгивающий:
- На выжженных желтым газом
- Трупных равнинах смерти,
- Где бронтозавры-танки
- Ползут сквозь взрывы и смерчи,
- Огрызаясь лязгом стальных бойниц,
- Высасывают из черепов лакомство мозга.
- Ни гильотины, ни виселиц, ни петли.
- Вас слишком много, двуногие тли.
- Дорогая декорация – честной помост.
- Огулом
- Волочите тайком поутру
- На свалку, в ямы, раздев догола,
- Расстрелянных зачумленные трупы…
- И ты не дрогнешь от воплей детских:
- «Мама, хлебца!» Каждый изгрыз
- До крови пальчики, а в мертвецких
- Объедают покойников стаи крыс.
- Ложитесь-ка в очередь за рядом ряд
- Добывать могилку и гроб напрокат,
- А не то голеньких десятка два
- Уложат на розвальни, как дрова,
- Рогожей покроют: и стар и мал —
- Все в свальном грехе. Вали на свал…
- Мы – племя, из тьмы кующее пламя.
- Наш род – рад вихрям руд.
- Молодо буйство горнов солнца.
- Мир – наковальня молотобойца.
- Наш буревестник – Титаник.
- Наши плуги – танки,
- Мозжащие мертвых тел бугры.
- Земля – в порфире багровой.
- Из лавы и крови восстанет
- Атлант, Миродержец новый, —
- Пришедший закрыть гнилозубый век
- Стальной, без души, человек!
– Браво, – улыбнулась Ахматова, когда Зенкевич закончил декламировать и, выдохнув, как будто еще больше сгорбился, – вы очень ревностны, Михаил.
– Нет, я передумала, – шепнула Гиппиус на ухо Романову, прижавшись к нему, – я не буду говорить. Я переоценила публику.
Они спустились к гардеробу, и князь помог поэтессе надеть шубу. Конечно, белую. В литературном Петрограде уже давно устали и перестали обсуждать манеру Гиппиус наряжаться, как невеста, да еще и заплетать косу, как будто намекая на непорочность, несмотря на многолетнее замужество. Манере этой давали самые превратные толкования.
– Я, Олег Константинович, имею для вас письмо, – сказала Гиппиус, – вы, наверное, слышали о человеке, который мне его написал. Володя Бурцев, издатель журнала «Былое». Тот, который охотник на провокаторов. Мне следовало бы пересказать вам его содержание, но проще отдать так. Не забудьте потом уничтожить. А теперь не откажите мне в любезности – я желаю проводить вас до вашего автомобиля.
Князь не успел опомниться, как Гиппиус взяла его под руку и потащила к выходу, а потом, буквально втолкнув в салон автомобиля, помахала ему рукой и исчезла.
Уже расположившись на мягком сиденье, Романов разорвал конверт.
«Уважаемая З. Н., – прочитал он, – Кн. Олег Константинович, сын в. кн. К. К., через два дня будет в Петрограде. Вы – единственная среди людей, коим я доверяю, кто может встретиться с О. К. Я не обладаю пока всей достоверной информацией, но твердо уверен, что, если кн. пойдет в Механический театр, там на него будет совершено покушение. На случай неудачи этого есть и другие подобные планы. Прошу вас предупредить О. К. о подстерегающей его опасности. Пока это все, что могу сказать, но всего дела этого оставлять не собираюсь.
Ваш В. Л.».
Романов сложил письмо и сунул его в карман. Декадентская поэтесса в белом платье села в его ложу, чтобы помешать подосланным к нему убийцам. Но не смелость этой женщины и даже не эти неожиданные убийцы – мысль, что в мире есть люди, совсем ему незнакомые, которым дорога его жизнь, – вот что удивило князя. Оглушенный этим фактом, Романов уставился в окно.
По уже заснувшему Старо-Петергофскому проспекту автомобиль выехал к увешанному цепями Калинкину мосту. Слева от них исступленно сгибали свои стальные, задубевшие на ледяном ветру руки краны Адмиралтейских верфей, а они поехали прямо, по Екатерининскому каналу в сторону Свято-Исидоровской церкви. И здесь была Надя: они вместе стояли, опершись о перила, и смотрели, как по замерзшей теперь воде плывут желтые кленовые листья. Она кидала в воду свой раскрытый зонтик и говорила, что это – дредноут, и дредноут плыл вместе с остальными листьями в сторону верфей, где на него должны были поставить пушки и сделать броневую палубу. Интересно, она помнит?
На углу с Английским проспектом дорога была перегорожена бронеавтомобилем. Его прожектор на верхней пулеметной башне вращался, попеременно выхватывая из мутного снежного мрака то линию неприветливых доходных домов набережной, то холодное пустое пространство Екатерининского канала, то казачий разъезд, переминавшийся рядом с ноги на ногу, и сверкал в замерзших, как бриллианты, каплях на казачьих бородах.
Автомобиль князя остановился. Один из казаков неспешно подъехал и, свесившись с седла, постучал рукояткой нагайки в окно со стороны шофера.
– Прикажете доложить? – повернулся шофер к князю.
Романов кивнул.
– А ну, живо дал дорогу князю крови императорской Олегу Константиновичу! – рявкнул, открыв окно, шофер.
В автомобиль влетел холодный ветер, и Романов поежился.
Казак соскочил с седла и заглянул внутрь, как будто знал в лицо Олега Константиновича и желал убедиться, он ли это.
– В Коломне неспокойно, ваше высокоблагородие, – начал казак.
– Высочество, дубина, – проворчал шофер.
– Ваше высочество, – поправился, нисколько не смутившись, казак, – ищут террористов и прочих мазуриков. Облава, стало быть. Так что вы уж извините, но пропустить не можем. Извольте по Садовой ехать до Невского или куда вам там нужно.
Тут Романов услышал, как что-то тихонько скребется об автомобиль сзади, со стороны, противоположной казаку, у набережной. Он глянул в окно, но там была темнота. Тут прожектор на броневике повернулся, скользнул лучом, и в его полосе князь отчетливо увидел человека, который, пригнувшись, торопливо отходил от автомобиля. В мгновение Романов распахнул дверь и, нащупывая правой рукой неудобную застежку кобуры нагана, выпрыгнул на улицу.
Человек обернулся, увидел его и бросился по набережной в темноту, князь побежал следом, остановился, поднял руку с револьвером и выстрелил. Но в этот момент осознал, что смерть стоит сзади. Он повернулся к автомобилю: за его запасное колесо был засунут сверток.
– Иван, – что есть мочи крикнул князь шоферу, тщетно надеясь перекричать ветер, – Иван, прочь из авто!
Заржали казацкие лошади. Князь сделал два шага назад и уперся спиной в кованую ограду набережной. Луч прожектора скользнул по нему и равнодушно поплыл дальше, по фронту домов. Кто-то из разъезда закричал. Потом вдруг стало совсем тихо, и в тишине на месте автомобиля возникла вспышка, осветившая весь Екатерининский канал, а следом грохнул взрыв. Взрывная волна ударила Романова, и он, перевалившись через решетку, упал на лед.
Князь попытался вдохнуть – но не мог. Выдыхать было можно, вдыхать – нет, не получалось, как будто он не умел. Такое бывает, когда упадешь на спину. Сначала страшно, что задохнешься, останешься без воздуха, но потом искусство дыхания возвращается.
На набережной началась какая-то суета – вероятно, казаки искали князя.
– Нету его тут, ваше благородие, – слышал Романов их крики.
– Да вот, смотрю, где зад у авто был – нет ничего.
– А вот рука оторвана – может, его?
– Это шоферская – видишь, в крагу одета.
– Да куда ему бежать – некуда. Только если в канал.
– Егорка, поди, погляди – в канале на льду лежит, поди.
– Как же я гляну, когда там темно. Надо с броневика посветить.
– Гляди так, у броневика фонарь не опустить. Брось туды шашку световую.
– Ищи дурака – я брошу, сам освещенным буду, он в меня стрелять станет.
– Гранату бросить, и всего делов.
– Не велено гранатой. Гранатой не похоже на бомбистов будет.
Князь протянул руку к кобуре. Револьвер вылетел при падении, но остался висеть на шнурке. Романов нащупал шнурок, подтянул его и взвел курок. Но казаки, кажется, не хотели рисковать и заглядывать с набережной на лед.
– По коням, – раздалась команда, – Петровичу скажите, чтоб заводился.
Лошади снова заржали, затарахтел мотором броневик.
Олег Константинович сунул револьвер в кобуру и, с трудом ступая на ушибленную ногу, заковылял к гранитному спуску, с которого бабы стирали белье. Он поднялся наверх и вернулся к своему автомобилю. Тело бедного Ивана лежало поодаль – вероятно, его отбросило взрывом – и без руки.
Что было делать? Если идти к дому, то там наверняка ждет еще одна засада. Отстегнув с шинели погоны и сняв портупею, чтобы проще затеряться в Коломне, Олег Константинович сунул в карман револьвер и пошел в сторону ближайшей выходившей на набережную улицы, названия которой он не знал. Надо было где-то провести сегодняшнюю ночь, а завтра, когда на улицах будут люди, возвращаться во дворец.
Холодно было в Коломне. Выкрашенные в желто-коричневой гамме, как и весь Петроград, стены ее домов облупились, и сметенные дворниками сугробы снега, как брустверы перед окопами, лежали вдоль панелей тротуаров, плохо видимые во мраке скупо освещенных улиц. Так и хотелось замереть, приставить к глазам бинокль и подождать пару минут, вглядываясь: не мелькнет ли за этим бруствером выкрашенная грязно-белой камуфляжной краской похожая на котелок немецкая каска и не торчит ли где-нибудь обмотанный белыми тряпками коварный ствол пулемета, как змея, поджидающий неосторожную жертву.
А над самыми высокими из домов, над поржавевшими железными листами их крыш вращались огромные акустические раковины, выслушивающие, не раздается ли в привычном гуле моторов «Руссо-Балт» полицейских цеппелинов рокот какого-нибудь немецкого «Майбаха». Уже четыре года не падали на город немецкие бомбы, и побежденные, залитые газом немцы не осмеливались поднять в воздух ни одного боевого корабля. Но по-прежнему вращались над Петроградом раковины и каждые 6 часов сменялись дежурившие при них в будках усатые унтеры – то ли не дошла туда, на крыши, весть об окончании войны, то ли дошла, да забыли им дать приказ остановиться.
Ни одно окно не светилось в Коломне: все они были изнутри завешены одеялами. Одеяла в окнах петроградских квартир висели с войны: тогда прятались от немецких ночных налетов, установив светомаскировку, а теперь – от холода. Очень дорого стоило в Петрограде этой зимой тепло, и бедные люди не позволяли ему просто так уходить сквозь тонкие стекла.
И от этого мертвыми, как после газовой атаки, казались дома.
На какой-то из таких похожих друг на друга бледных улиц Коломны Романов увидел открытые двери светящегося питейного заведения и спустился туда по семи ведущим вниз ступеням. Внутри было шумно, грязно и многолюдно. Посетители ругались, спорили, горланили песни, половые шныряли между ними, разнося заказанное и принимая деньги. Пиво из кружек спорщиков выплескивалось на пол, образуя одну на все заведение невысыхающую лужу. Музыкальная машина с погнутым, вероятно во время дебоша, никелированным раструбом хрипло играла «Дунайские волны».
Путаясь в ногах кабацких пьяниц, князь прошел к дальней стене. Там стоял незанятый стол – из струганых досок, нечистый, с плохо вытертым пролившимся пивом и изрезанной по краям ножом столешницей. Свет от мутной лампы под потолком в центре комнаты почти не доходил до него, поэтому сюда был поставлен сальный огарок в облупившемся эмалированном подсвечнике-блюдце, где валялись несколько обгоревших спичек. Романов сел за стол и заказал половому пиво.
Пьяницы ругались все громче и, наконец, кажется, решили затеять драку. Инвалид на каталке, который при своем увечье мог довольствоваться только ролью провокатора, а потому исполнял ее мастерски, отъехал чуть-чуть назад, пока не уперся в соседний стол – то ли из опасения быть зашибленным кружкой, то ли для лучшего обзора. Грязную свою папаху с кокардой, в которой до того сидел, не снимая, он стащил и сунул под обрубок ноги. Половой метнулся на улицу – вероятно, за городовым.
– Олег Константинович?
Негромко окликнувший князя человек тоже сидел в тени, один за таким же грязным столом с огарком, в неряшливой темной одежде и пил пиво из большой треснувшей кружки с алюминиевой крышкой. Грязная меховая шапка лежала рядом. Его огненно-рыжие волосы никак не вязались с темной бородой и явно были париком. Парик нарочито бросался в глаза, захватывал все внимание и отвлекал его от лица, известного всей империи по фотографиям в газетах. Так, направляя свое безумие на службу собственным интересам, член Государственной думы, глава «Союза русского народа» Владимир Пуришкевич пил в начале третьего ночи неузнанным пиво в грязном трактире в Коломне.
Они не были представлены, но, конечно, знали друг о друге.
– Это хорошо, хорошо, что вы вернулись, – своими тонкими неврастеничными пальцами Пуришкевич вцепился в рукав князя, как только тот сел к нему за стол, – я вас встретил, и, значит, сегодня, сегодня я найду.
– Кого?
Пуришкевич перевел взгляд на дверь, на только что вошедшего посетителя и замер.
– Тише… вот он. – Пальцы еще сильнее сдавили руку князя.
Романов обернулся, скользнул взглядом по вошедшему и уставился в толпу, будто высматривал там кого-то. Вошедший был внешности обычной, но для Петрограда редкой – судя по всему, крестьянин, коренастый и невысокий, с небольшой русой бородой. Лицо у него было самым простым, русским, и лет на вид около тридцати. Он замер в дверях, потом снял шапку, помял ее в руках и сунул за пазуху, обтрусил с полушубка снег и потопал для того же ногами в валенках.
Пуришкевич, как завороженный, следил за крестьянином. Он даже вытащил, рискуя быть узнанным, пенсне и надел на нос.
– Вот он, вот, – я знал, что сегодня, – лицо Пуришкевича от волнения покрылось пятнами, – посконный мужик, это посконный мужик.
Посконный мужик огляделся и пошел к столу, за которым сидели пьяницы. Каким-то инстинктом он почувствовал, что там должна, но никак не может начаться драка.
– Йех, Господи спаси, – взвизгнул мужик неожиданно высоким голосом и с размаху ударил в ухо ближайшего из сидевших к нему. Драка началась.
В этот самый миг пальцы Пуришкевича, вцепившиеся в руку Романова, ослабли.
– Не он, – выдохнул Пуришкевич и отхлебнул пиво.
– По-моему, очень даже посконно вышло, – хмыкнул князь, через плечо следивший за происходящим.
– Да что вы понимаете в посконных мужиках, вы, вы… – закричал Пуришкевич почти таким же голосом, как только что крестьянин, но потом остановился и перевел дух.
– В посконных мужиках – ровным счетом ничего.
– Послушайте, – Пуришкевич опять вцепился в руку князя и стал говорить быстро, нервно – Послушайте, вы видите, что происходит в империи? Все эти цеппелины с пулеметами, шарящие по улицам. Ведь это вот все – это от страха. Государь боится, государю внушили, что народ, его собственный народ, готовит бунт. А ведь именно в народе русский царь черпает свою силу. Ни англичанину, ни немцу русский царь не нужен – он нужен только русскому человеку, от которого его уводят. Талмудисты и либералы окружили государя плотным кольцом, повернули спиной к народу и ведут его за руку, как слепца, к пропасти.
Пуришкевич остановился, чтобы перевести дыхание. Драка разгоралась. Но крики дерущихся были негромкие и какие-то сдавленные – как будто даже в этот момент они понимали свое подлое невысокое положение и старались не сильно беспокоить криками и стонами спящую столицу.
– Так что же посконный мужик?
– Вот! – От возбуждения Пуришкевича колотило. Говоря, он чуть исподлобья заглядывал в глаза князю, словно пытаясь угадать его мнение. – Простой русский мужик придет к государю и скажет ему: государь, не верь евреям. Народ – за тобой, ты наш отец, мы – твои дети. Как могут дети восстать на отца? Мы не умышляем на тебя зла. Оставь свой страх, ибо правление государя, обуянного страхом, не может принести счастья ни ему, ни его народу. Отврати лицо свое от талмудистов и поверни его к нам! И государь поверит.
– Государь каждый раз, как приезжал на фронт, батальонами таких мужиков видел, – Романов пожал плечами, – и говорили они ему примерно эти же слова – про отцов и детей, только что без талмудистов.
– Да разве ж государь им верит? Что офицер солдатам велит – то они государю и скажут. Тут не простой мужик нужен, а посконный, эпический. Как Илья Муромец, который смело ко Владимирову двору приходит и всю правду говорит. Такой мужик, чтоб государь, увидев его, с первого взгляда понял: вот он, посланец от земли русской, от всего русского народа. Не по еврейскому наущению явился, не Гришка Распутин новый, а сама почва его устами говорит. Придет, передаст государю слова от русского народа и уйдет обратно землю пахать, потому что нечего ему дальше при дворе делать будет.
– А ну как захочет остаться и дальше государю советы давать?
– Нет. Не остался Илья Муромец в Киеве при Владимире, и этот не останется.
– Долго же вы будете искать, кто ко двору придет и оставаться не захочет.
– А уж это как Господь даст. – Пуришкевич внезапно стал спокойным и серьезным. – Мы верим, что Господь не хочет погибели русской земли, а иного пути спастись, кроме как привести к государю посконного мужика, нет. Поэтому, уповая на его милость, ходим и ищем.
– И что же, все по кабакам ищете?
– Так ведь и Иисус не среди фарисеев учеников себе брал.
– А чем этот не подошел?
– Сразу в драку полез, – Пуришкевич поморщился, – с виду-то он похож, тем более вы меня смутили. Я подумал – раз Олега Константиновича в таком месте встретил – верно, добрый знак. Ан нет. Истинно русский человек сам в драку никогда не полезет, он терпелив. Но уж если его разозлят – никому не поздоровится. А у этого, видно, не чисто русская кровь. Мешаная.
Внезапно Пуришкевич прямо, как сидел, упал лицом в стол. Только тут князь понял, что глава «Союза русского народа» был мертвецки пьян. Видимо, в общей атмосфере кабацкого перегара Романов не почувствовал дух, исходящий от Пуришкевича. Со стола начало капать пиво, пролитое из перевернутой кружки. Князь поднялся. Он не знал, сколько стоит пиво, а спрашивать ему не хотелось. В кармане лежал серебряный рубль, и он оставил его на столе. Наверное, этого должно было хватить.
VI
Князь вышел из кабака – хоть и в тепле, но ему не хотелось там больше сидеть. Он пошел дальше, в глубь Коломны, за Офицерскую улицу, где в четырехэтажных доходных домах жили рабочие верфей: в отдельных квартирах – мастера, а в мансардных комнатах, поделенных на углы, все остальные. Он шел, сворачивая то на одну, то на другую улицу. Снежинки как мотыльки роились у редких грязно-желтых фонарей, оставлявших вокруг себя пятна липкого неприятного света. Ни души не было на улицах – только раз городовой, гревшийся у костра, вяло окликнул его, но князь не стал останавливаться, а городовой и не подумал бежать за ним следом.
Он опять свернул. Эта улица отличалась от предыдущей лишь тем, что в ней строился новый дом. Леса, стоявшие вокруг него, занимали всю панель. Электрическая лампа, висевшая на лесах, раскачиваясь под порывами ветра, была единственным источником света на весь квартал.
– Эй, солдат, – окликнул его пьяный голос.
Князь повернулся. Из подворотни недостроенного дома появились трое мужиков, вероятно рабочих. Полушубки их не были застегнуты, как будто они только вышли на улицу, а из открытых ртов валил пар. Все трое немного покачивались, но уверенно шли прямо на Романова – один впереди и двое других чуть отстав.
– Солдат, а солдат, – сказал первый, – не пожалей гривенник трудовому классу. Видишь, дом буржуям строим, а они не платят. Вот, последнюю копейку пришлось пропить.
Говоривший сунул руку за пазуху и вытащил нож. Двое шедших сзади загоготали.
Князь сделал шаг назад, стащил зубами варежку и опустил руку в карман, большим пальцем взводя курок револьвера. В этот момент из-за крыш, неслышный в завываниях ветра, выплыл цеппелин. Его луч остановился на людях, и в амбразуре кабины засверкали вспышки пулемета, а на землю посыпались, остывая на лету, гильзы. Трое грабителей, обливаясь кровью, повалились в снег. Так же бесшумно, как появился, цеппелин, не проявляя никакого интереса к дальнейшему, исчез за домами.
Князь подошел к людям. Все трое лежали ничком, и фонарь на лесах освещал их лица: у одного борода была темная, у двух других – русые. Они, видимо, были приехавшими на заработки крестьянами и вполне могли оказаться теми самыми посконными мужиками, которых искали Пуришкевич и его товарищи. Русые были мертвы, а темный хрипел: его простреленные легкие засасывали холодный воздух улицы и выдыхали кровавую пену. В Маньчжурии князь много раз видел такие безнадежные раны. Он поднял нож и коротким сильным ударом воткнул его в сердце хрипевшего. Лезвие прошло все тело, полушубок, утрамбованный снег мостовой и чиркнуло о булыжник.
Никто не высунулся из окон на звуки стрельбы, и ни в одном не зажегся свет. Впрочем, может, и зажегся, да его не было видно из-за одеял.
Молча стояли желтые дома вокруг князя и мертвых людей на снегу, кровь которых смешивалась с лошадиным навозом. Молча качался фонарь на строительных лесах, и только ветер гудел, несясь вдоль улицы и лохматя волосы мужиков. У одного из кармана торчало что-то вроде чубука трубки. Олег Константинович наклонился и вытащил затейливую глиняную, раскрашенную под хохлому свистульку – купленную, верно, для оставшегося в деревне ребенка, ждущего из города батьку с гостинцами. Из по-прежнему открытых ртов мужиков больше не шел пар. Князь вытащил из кармана револьвер и, придерживая пальцем курок, нажал на спуск, чтобы снять его с боевого взвода.
У крепости съезжего дома, где Екатерининский канал впадал в Фонтанку, Романов перешел мост и вышел к Садовой. Прожектор в сотни тысяч свечей, светивший, вращаясь, с башни полицейской части, полоснул его по спине своим лучом, отбросив длинную тень прямо на летевший по Садовой снег. Острый угол дома-утюга, как нос линкора, выплыл в этом луче из темноты и навалился на князя всей массой своих кирпичей, обветшалой штукатурки и забранных одеялами окон. Олег Константинович, не сбавляя шага, свернул в сторону, избегая столкновения с домом, словно расходясь с идущим встречным курсом цеппелином. Он решил идти к Покровскому собору, на площадь.
Четыре прожектора, установленные по углам площади, на крышах домов, слабо освещали пространство с храмом посредине. У самой церковной ограды дежурил городовой. Весь закутанный, пряча лицо, он не отходил от бочки с горящими внутри дровами, протягивая к ней короткие руки. Ничто не интересовало городового, кроме тепла, но он, однако, не подпускал к бочке бездомного, примостившегося тут же рядом, у ограды. Бездомный подполз к ней на расстояние сажени, но всякий раз, как он пытался пододвинуться ближе, городовой сердито топал ногой и делал вид, что собирается вытащить шашку, шаря рукой по закутанному в шубу боку. Он, наверное, что-то говорил – но за шумом ветра было не слышно. Поодаль, тоже не решаясь приблизиться к бочке, стояла баба. Вот и все население площади.
Только сейчас князь заметил, что замерз. Замерз так, как замерзал лишь однажды, на войне, когда стоял посреди маньчжурской ночи, перед своим первым рейдом за линию фронта. Обслуга подвозила на тележках тяжелые 20-пудовые фугасные бомбы и заряжала лентами снарядов автоматические пушки, инженеры проверяли двигатели, офицеры в штабе играли на бильярде – они всегда играли на бильярде перед вылетами, – а Романов стоял, глядя в черную черноту неба.
Тут князь увидел пьяного – в сдвинутой на затылок шапке он вывернул из-за угла, с Английского, схватился за стену и медленно осел вдоль нее. Попытался встать, но не смог и лишь беспомощно повалился на бок. Среди всех этих неживых, замерзших, предсказуемых в своих действиях людей Романов встретил живого. Он бросился к пьяному и поднял.
– Куда, куда тебе, браток? – закричал он в самое ухо пьяного, стараясь перекричать ветер.
– А вот сюда, за угол, на Прядильный, в дом Северовых, – промямлил пьяный, – 6-й нумер, в 53-ю квартиру.
Князь, взвалив пьяного, как раненого, на плечо, потащил по площади. Баба и бездомный проводили его удивленным взглядом, а городовой смотрел только на бочку.
VII
Черная лестница, сверху побеленная, а на высоту человеческого роста покрашенная масляной краской, чтобы человек не испортил побелки, вела вверх, в дешевые квартиры, и вниз – в подвал. Толстая, закутанная в платки баба – жена старшего дворника – повела вниз маленькую девочку в куцем пальтишке и большой отцовской шапке.
Через весь подвал проходили толстые трубы городской газовой сети, по которым из газовых заводов поступало топливо для печей петроградских квартир. Они протыкали фундамент, как спицы, входили в стальную, крашенную зеленой краской машину, выходили из нее и шли дальше, в другие дома. Машина была цилиндрической формы и напоминала паровоз без колес и кабины. На ее боку четырьмя болтами закреплена была медная табличка «Societe de Vaal Khammons, Quai d'Orsay, 12, Paris, 1920». Она забирала газ из труб и подавала его наверх, в квартиры, где в переделанных с дровяного отопления на газовое печках над горелками в топках колыхались едва живые синие язычки пламени.
Перевод петроградских домов с дровяного отопления на газовое городская управа начала еще в 1918 году, как только закончилась война. Помимо прочих резонов считалось, что масштабные общественные работы позволят снизить послевоенную безработицу и улучшить криминальную обстановку в столице. Владельцы газовых заводов сами стали главными акционерами Петроградского общества газовых сетей, опасаясь, что с окончанием войны спрос на их товар, который они поставляли на воздухоплавательные верфи, упадет. Ведь полученный русскими учеными из Томского университета на основе облегченного водорода универсальный газ, использовавшийся для наполнения баллонов цеппелинов, с небольшими добавками становился горючим и мог применяться для получения тепловой энергии.
Газ грел лучше дров, но главное – пропала необходимость в их заготовке и хранении. Снесены были все дровяные сараи, загромождавшие дворы петроградских домов, и их места заняли автомобили. В подвалы и под подвесные дворы[15], где раньше держали дрова, заселены были жильцы – большие семьи рабочих, которым лучше было в каменном мешке без окон с низкими потолками, чем в деревянных, сырых клопяных бараках. И очистилась Нева: не спускались больше по ней все лето дровяные барки, и не рубили их, вместе с привезенным ими лесом, на берегу топорами бородатые мужики в перетянутых веревками поддевках. Городская Дума громогласно объявила, что теперь Петроград по-настоящему вступил в XX век. Хотя и не были еще построены фильтрозонные станции для очистки канализационных стоков, так прямо и сливавшихся в Неву.
Петроград быстро привык к газу. Но два года назад, когда на казенных военных заводах начали строить воздушный флот для нужд петроградской полиции, городские обыватели стали испытывать перебои с новым топливом. Заводские насосы в сотни лошадиных сил выкачивали газ из труб, удовлетворяя потребности воздухоплавательных верфей и баз снабжения. Следом электронасосы поставили в богатых домах, чтобы те, кто платит за квартиру по нескольку тысяч, не испытывали никаких неудобств. Для получения права поставить у себя в подвале такой насос, домовладелец должен был приобрести патент у городской управы; о наличии патента в объявлениях о сдаче квартир писали в первую очередь, и, кто хотел жить зимой в тепле, должны были за него доплачивать. Остальным же управа дозволяла установить насосы ручные, в расчете на то, что мощность у них невелика, и забирать газ у богатых домов, а уж тем более у заводов они не смогут.
И можно было бы вернуться к дровам – но куда их складывать? Ведь автомобили, занявшие место дровяных сараев, давали домовладельцам гораздо больший доход. Да и управа, с радостью избавившаяся от всего печного хозяйства – запруживающих реки дровяных барок, бесконечных грязных обозов, неуместных сараев и складов на набережных, – отнюдь не хотела к нему возвращаться. А если те, кто замерзал в холодных квартирах, и мечтали бы вернуться, так они не удовлетворяли имущественному цензу, к выборам в городскую думу допущены не были и своих представителей в ней не имели.
Чтобы качать ручными насосами газ, жильцы устанавливали в домах дежурства, по человеку от квартиры. Дежурить приходилось женщинам и детям: мужчины, у кого они остались после войны, с утра до ночи трудились на заводах и, приходя домой, засыпали, иногда даже не успев поужинать пустыми щами и не раздевшись. Впрочем, в ту зиму, когда температура в домах не превышала 10 градусов по Реомюру[16], ложиться в постель одетым стало обычным делом.
Ручные насосы общества «Societe de Vaal Khammons» работали хорошо: механизм особых усилий не требовал, да и заводить его нужно было нечасто. Одна беда – давление в городской газовой сети было неровным: иногда случалось, что заводы останавливали свои машины, и тогда оно резко шло вверх. Не рассчитанные на такое повышение мембраны насосов не выдерживали, и газ с шипением вырывался наружу. И всего-то нужно было: прикрутить входной вентиль на машине да открыть, превозмогая холод, подвальное окно, чтобы проветрить. Но если тот, кто качал газ, вдруг засыпал от монотонной работы – он уже не просыпался.
– Все, Маша, кончилось твое время, иди спать, – сказала толстая дворничиха такой же, как она, толстой тетке, сидевшей на стуле перед газовой машиной и каждые две минуты дергавшей рычаг заводного механизма.
Тетка перестала дергать, повернулась и посмотрела на дворничиху осоловелыми глазами.
– Все, – закричала ей дворничиха, – шабаш, Маша! Спать иди, спать!
Тетка, наконец, поняла, благодарно и немного виновато улыбнулась, засуетилась, наматывая вокруг шеи платок.
– А ты, Сонечка, садись. Не бойся, чуть-чуть совсем: через 3 часика тебя сменят. Ты, главное, деточка, не засыпай, хорошо? Главное, не засыпай. Ты моя умница.
Девочка покорно села на стул и, как только рычаг доехал до своего начального положения, потянула его на себя.
Обе тетки собрались и вышли. Они пошли по лестнице из подвала наверх, в свои квартиры, и каждая шла молча, глядя под ноги, на ступеньки. Это было самое страшное время – предутренние часы, когда сон особенно коварен. Как будто им было стыдно оставлять в ночную, опасную смену эту маленькую девочку с такими золотистыми кудрями. Но что они могли сделать? Отдежурить вместо нее? Так ведь от половины квартир на дежурство дети ходят – что ж теперь, теткам целыми днями в подвале сидеть? К тому же в этой 53-й квартире Сонин отец сейчас не работает – мог бы и сам вместо нее сходить. И уж если родной отец за дочь не встал, то должно ли быть им, чужим, стыдно, что не встали они? Нет, конечно, не должно.
VIII
В квартире 53 по этой самой черной лестнице, в последнем этаже семья рабочего Игната Матвеева снимала комнату в два окна. За занавеской, отгораживавшей угол, спал ребенок. Мутная лампочка горела под потолком, дешевые ходики тикали на стене с выцветшими и местами порванными обоями. Пол был из досок, крашеный, без половика. Посреди стояла табуретка. Две елочные игрушки к Рождеству лежали на этажерке: из блестящего картона плоские птички с вклеенными внутрь грецкими орехами для объема, отчего они казались беременными. Зеленая круглая печь, обшитая гофрированным крашеным железом, стояла вместо елки. В тех местах, где железо прогорело, тонкие подтеки копоти шли вверх. Белая газовая труба выходила из пола и бесцеремонно втыкалась в кирпичное тело печки. Пахло домом: немного печкой, немного едой, немного запахами людей, в этом доме живущих. На самом деле такого запаха почти что нет, но князь так давно не бывал в домах, где живут люди (казармы в Маньчжурии и Мраморный дворец ведь не дома), что сразу его почувствовал.
За столом жена Игната, Марта, ждала мужа. Дверь в квартиру была открыта, и, когда князь, тяжело дыша, тащил рабочего по коридору, не зная, в какую комнату стукнуться, женщина вышла ему навстречу с белым платком на плечах. Надя тоже иногда так носила. Сильными руками Марта взяла тело и поволокла домой. Положила на диван, стащила сапоги и шубу. Олег Константинович стоял в комнате – она не обращала на него внимания.
Пиджак, надетый на голое тело, расстегнулся, открыв живот рабочего, рельефный и обожженный пламенем печи, словно античная кираса. Таких изображали скульпторы нового классицизма, давая им в руки вместо копий и дисков молоты и винтовки. Своими однотонными усатыми лицами они смотрели в серое небо с барельефов дорогих доходных домов Васильевского острова и Петроградской стороны, квартиры в которых никогда не смогли бы себе позволить. Но сейчас, оторванный от своего класса, беспомощный на провалившемся диване холодной петроградской комнаты, в грязном пиджаке, он не имел ничего общего с богами и героями.
Марта укрыла голый живот мужа.
– Вы останетесь? – устало спросила она. – Но я могу только на полу постелить, больше негде. Вот, можно рядом с печкой – от нее тепло.
Князь благодарно улыбнулся. Она была красивой, но очень уставшей, и эта усталость обезображивала ее лицо.
Стараясь не выронить из кармана револьвер, он, не снимая шинели, под которой был офицерский китель, стащил сапоги и лег на пол. Но сон не шел. Когда на колокольне на Покровке пробило 5, у двери на черной лестнице зазвенел звонок. Марта тотчас вскочила с постели, как будто и не спала. Она плотнее закуталась в платок и собралась было идти открывать. Но входная дверь, очевидно, осталась незакрытой: в коридоре раздались приближающиеся шаркающие шаги, требовательный кулак несколько раз ударил в дверь Игнатовой комнаты и, не дожидаясь разрешения, открыл ее. На пороге появилась баба, толстая, неприятная и с мужицким лицом. Поверх грязного тулупа был фартук, как у дворника.
– Ваш черед, – сказала баба.
– Сейчас, сейчас, – засуетилась Марта, – подождите.
Она подошла к храпевшему мужу и без особой надежды разбудить толкнула его. Потом вздохнула и зашла за занавеску.
– Сонечка, Сонечка, – голос Марты был встревоженный, но нежный, – вставай, Сонечка, пора тебе. Пришли.
Девочка лет пяти вышла в центр комнаты. Она отчаянно терла глаза грязными кулачками, но, видимо, понимала, чего от нее хотят взрослые. Натянув с помощью матери шерстяной вязанный свитер, Сонечка подошла к дворничихе:
– Пойдем, тетя Клава.
– Пойдем, милая, пойдем, – неожиданно ласково сказала та и взяла ее за руку.
Они повернулись и вдвоем пошли по коридору к лестнице. Марта смотрела им вслед и, когда их шаги стихли на лестнице, разрыдалась. Князь не понимал, что происходит, и не знал, как ему поступить: вставать ли, чтобы утешить женщину, или не показывать, что он стал невольным свидетелем произошедшего.
Наплакавшись (она старалась делать это негромко, чтобы не разбудить спящих), Марта вдруг стала одеваться, чтобы идти на улицу. Одевшись и намотав на себя множество тряпок, женщина села на стул и застыла. Князь ждал, что будет дальше, но не было ничего. Он начал проваливаться в сон, и, когда уже почти совсем провалился, за окном загудел далекий фабричный гудок. Марта тут же подскочила и вышла из комнаты.
Игнат проснулся около десяти. Стал шарить под кроватью, ища свои сапоги и гремя стоявшими под ней горшками, чем разбудил князя.
– А коли б ты меня не поднял, так я бы и помер вчера уже от обморожения, – говорил Игнат Матвеев, сидя за столом напротив Романова, – городовой-то вон, даже не повернулся в мою сторону. Ему что? Ему главное, чтоб не зарезали никого да порядок не нарушали, а если сам кто помрет – так тут с него спросу нет. Сука.
Своими огромными красными ручищами он теребил лежавшую на столе жухлую луковицу. Князь представился ему студентом, только что вернувшимся из Парижа, в котором проучился три года. А солдатское платье объяснил нежеланием иметь дел с полицией, которая, как известно, подозрительно относится к студентам.
– Прожектора понаставили, цапы по небу так и шныряют, – Игнат начал чистить луковицу, – идешь, бывает, ночью по улице из заведения, а тут покойник в крови лежит. Ну, значит, грабителя какого подстрелили. А к утру, еще до заводских гудков, их санитары собирают и отвозят, так что, когда народ на заводы прет, уже все чисто. Только что снег кровавый.