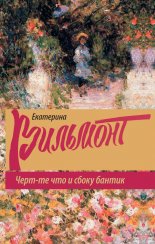Столкновение с бабочкой Арабов Юрий

Троцкий не успел ответить. Дверь отворилась, и на пороге класса снова возник государь император.
– Там… Среди ваших людей… – робко сообщил он. – Бунт!..
4
У ступеней дворца стоял черный автомотор с откидной крышей. В нем сидел господин с изодранным в кровь лицом. Его жилетка с уцелевшей пуговицей была также испачкана и, казалось, сама кровоточила.
Вокруг бушевали кронштадтцы. Один из них, потный, обросший щетиной, снимал с себя штаны. Судя по всему, он был предводителем. Толпа моряков улюлюкала и свистела.
– …Так, – сказал Лев Давидович государю, застыв на ступенях института и сверху оценивая ситуацию. – Ступайте отсюда, гражданин Романов. Здесь не без-опасно.
– Куда? – прошептал царь.
– К товарищу Антонову. Там переждете, когда эта буза кончится.
– А вы?..
– А мне отступать некуда. Это моя работа. Ну идите же, идите!.. – и он почти насильно запихнул государя в прихожую института и прикрыл за ним дверь. Вытащил из кобуры тяжелый маузер и пальнул из него в воздух. Толпа лениво оглянулась, как оглянулось бы многоголовое чудовище на жужжащего комара, который пытается ужалить.
– Это товарищ Троцкий, – догадался кто-то в толпе. – Да здравствует товарищ Троцкий и Петроградский совет! Ура!..
Сначала выстрелил один, потом другой, и скоро вся небольшая площадь перед дворцом задрожала от праздничного салюта.
– Да здравствует большевистский Кронштадт! Слава красным морякам!.. – и Лев Давидович дострелял всю обойму.
– Вы что здесь удумали? – вскричал он, спускаясь со ступеней и отдавая себя человеческому морю. Только опытные пловцы купаются в шторм, остальные лишь сидят на пляже и гадают, выплывет он или нет.
– Революцию делаем, Лев Давидович.
– А зачем штаны расстегнули?
– Чтобы эта министерская падла навсегда меня запомнила, – сказал предводитель.
Изодранный в кровь заложник сидел в машине, согнув плечи и дрожа, как кролик.
– Правильно мыслите, товарищ моряк! – Троцкий поднял кулаки в воздух и потряс ими. – Ваша как фамилия?
– Раскольников.
– Как у героя Достоевского. Хвалю. Это действительно падла. Ничтожный министр земледелия. В стране, где не решен земельный вопрос, есть еще и министр земледелия! Вы слышите этот пасквильный анекдот? Земли для народа нет, а министр земледелия есть! Позор!..
– …Позор! – закричали в толпе. – К черту минист-ров-капиталистов! Долой Временное правительство! Землю – крестьянам, фабрики – рабочим!.. Мир хижинам, война – дворцам!..
Человеческое море заволновалось и понеслось на Троцкого своей пеной.
– Не забудем, не простим! – выкрикнул Лев Давидович свой последний лозунг.
Здесь его схватили десятки рук и попытались вознести над толпой.
– Но я расстреляю всякого, кто убьет буржуазного министра без суда! – рыкнул Лев, уворачиваясь от рук, подобно куску льда. – Я буду стрелять днем и вечером… от заката до рассвета всех, кто презирает революционную законность и попирает ее анархическим кулачным правом!.. Вот вы, гражданин Раскольников… Вы же не юноша! А расстегнули портки, как гимназист… Вы еще и удой своей потрясите, если она у вас есть! Обнажите все шалоболы, чтобы до любого дошло: я – революционер!..
В толпе засмеялись.
– Чем вы хотите нас удивить? Тем, что в штанах есть то, что можно вынуть?
– Но ведь мочи нет терпеть… Когда революция? Чего вы нас гнобите? Революцию давай, революцию! – сорвался на крик матрос.
Толпа примолкла, слушая их разговор.
Троцкий подошел к Раскольникову вплотную и крепко поцеловал в губы.
– Вот тебе революция. Доволен? Все довольны или не все? – грозно спросил он. – Кто не согласен, сделать шаг вперед!
Нить диалога была утеряна. Пламенный оратор смешал карты, покрыв туза десяткой, и вызвал замешательство, которым можно было управлять. Куда его направить? – подумал он. – Во что обратить? В панику или обожание?
– А вы сами виноваты, что революции нет. Нет дисциплины – нет и революции. Есть дисциплина – есть и революция. Знаете, что Господь Бог сказал своему заместителю, когда тот позвал его на заседание реввоенсовета? Скажите им, что меня нет!.. А Галилео Галилей?! Что сказал Галилео Галилей святой инквизиции? Поскольку Земля вертится, приходится вертеться и мне!.. Идти можете? – шепнул он человеку в машине.
Тот всхлипнул.
– Цепляйтесь за меня и идемте!.. Вот этот соглашатель и предатель революционного дела, – возвысил голос Лев, – будет расстрелян мною сейчас же в коридоре Смольного института за все то хорошее, что он уже совершил и может еще совершить. Смерть буржуазным соглашателям! Долой Временное правительство! Да здравствует товарищ Троцкий! Претворим «Апрельские тезисы» Ильича в мае, июне или в августе будущего года… Ура!.. Ура!.. Ура!..
«Ура» на этот раз получилось неслаженным и робким. Еще мгновение – и нить порвется, – подумалось оратору. – Вперед, в институт, и дал бы Бог унести ноги!..
Он быстро поднялся по ступенькам и втолкнул вялого, как мокрый снег, министра в прихожую. Пнул солдата, спящего на полу у пулемета.
– Стреляй, мерзавец! Нас сейчас накроют!..
– Куда? – не понял солдат.
– Туда, – Троцкий показал на дверь и пинками направил солдата к выходу.
Сам же, взяв Чернова за руку, быстро увел его в восьмой кабинет.
– …Что? – нервно спросил у него Антонов-Овсе-енко, бегая по кабинету.
– Ничего, – ответил Лев Давидович, тяжело дыша. – Как обычно. Вулкан разразился ватой.
С улицы раздалась короткая пулеметная очередь. Ей ответили робкие одиночные выстрелы и тут же стихли.
– Вы знаете этого человека? – спросил Троцкий у государя.
Тот сидел за партой, накинув шинель на плечи, и пил слабозаваренный вчерашний чай.
– А ведь это член вашего кабинета, – подчеркнул Лев Давидович. – Министр земледелия Чернов.
– Ваше величество… Какими судьбами? – не поверил своим глазам министр.
– А вы какими? – спросил государь.
– Я по должности.
– Устанавливать контакты с бунтовщиками – это по должности? – осведомился гражданин Романов.
Говорил он в своей обычной манере, неброско и тихо.
– Но вы ведь сами здесь. Значит, тоже устанавливаете контакты, – пролепетал Чернов.
– Да хватит вам спорить, – отрезал Лев Давидович. – Оба хороши. Со своей беззубой политикой. Импотенты. Всё взвалили на большевиков и умываете руки.
– Когда это вы стали большевиком? Вы же меньшевик и «межрайонец»! – возразил Чернов, который начал уже приходить в себя.
– Недавно и стал.
– А гражданин Ульянов? Он же, как мне помнится, сказал публично, что если Троцкий станет большевиком, то я буду монархистом?
– Не знаю. Может, уже и монархист, – устало заметил Лев. – Не все ли равно? Что с Ильичом, что без него… А дело идет кувырком.
Замолчал. Сел за одну парту с государем и отпил из его стакана остывший кипяток.
Он вдруг вспомнил, что на квартире жены Каменева ему сказал один умный еврей: «Окститесь, Лев Давидович! Куда вы собираетесь вступать? Они же форменные бандиты!.. Вам, меньшевику-интеллигенту, нет места в этом вертепе!..» – «Да, – согласился с ним Троцкий. – Мне нигде нету места. Но это единственные бандиты, которые могут взять власть!..» Жена Каменева была его собственной сестрой. Все переплелось и срасталось в новый династический узел. А такие узлы нужно рубить. Мы, большевики, против любого династизма, и на2 тебе… уже ведем себя как привычные феодалы!..
– Не пойму я вас, господа… Что вам всем нужно? – спросил задумчиво государь.
– Нам нужен социализм, – предположил Лев Давидович, прогоняя прочь неприятные мысли.
– Уточните.
– Это им нужен социализм, а мы согласны на буржуазную демократию, – сказал Чернов.
– Но ведь уже демократия. Проезд бесплатный и много ворованного оружия, – возразил государь.
– Это еще не все. Землю вы отдали крестьянам? – спросил Троцкий, хрустя куском сахара.
– Так они сами ее забирают, – опять встрял в разговор министр земледелия.
– Бесплатно? Этого я не понимаю, – вздохнул Николай Александрович.
– Потому что на вас давят сословные предрассудки. Вы не нужны нам со своими предрассудками. Уезжайте. В Англию или куда там!.. Избавьте Россию от себя, гражданин Романов! – нервно вскричал Лев Давидович. – Христом Богом вас прошу, избавьте!..
– Да разве конституционная монархия плоха? При ней вы можете осуществить часть своих взглядов…
– Это каких же?
– Довершить земельную реформу и установить дисциплину. Избирательное право я уже дал. Хотите Учредительное собрание вместо Думы? Пожалуйста. Мы не против.
– Земельная реформа по-столыпински? И не подумаю, – отрезал Лев. – Нам нужен не кулак-лати-фундист, а коллективное хозяйство на социалистической основе.
– А если вас очень попросить?
– Никогда, – сказал Троцкий, но в его голосе государь уловил иное. По-видимому, крупному администратору нравилось, когда его о чем-либо просили.
– Я не тороплю. Вам есть над чем подумать, – и государь встал из-за парты.
– Нам всем есть над чем подумать, – заметил Чернов со значением.
– Вы куда это направились? – поинтересовался Троцкий у царя. – Во дворец или на Гороховую?
– Гороховая еще не обустроена.
– Значит, во дворец… Даже и не думайте. Разорвут, если узнают. Наступят сумерки, тогда и пойдете. Дайте охрану гражданину Романову, – приказал он Антонову-Овсеенко, – чтобы он хотя бы дошел до дворца.
– Понял вас, Лев Давидович.
– Тогда прошу меня извинить. Прощайте, господа-товарищи! Дорого бы дал, чтобы вас больше не видеть.
Решительным шагом Троцкий вышел из класса и громко захлопнул за собою дверь.
Однако в коридоре замедлил свой бег. Замешкался у двери и взглянул на непечатное слово из пяти букв. Его опять написали. Ощутил, что ноги ослабли от перенесенного напряжения. Сердце ныло, во рту была горечь.
В голове пронеслось, что силы могут быстро иссякнуть, если он каждый день будет отбивать какого-нибудь министра у разъяренной толпы. Кто оценит его подвиг и чем наградит? Ильичу на все наплевать. Он чурается грязной работы и пишет очередную брошюру о государстве. Нашел, когда писать. А я? Ничего не пишу, хотя я сам – литератор по призванию, не то что этот хитрый оборотистый Старик. Выдающийся, конечно, теоретик, но практик сомнительный. Создал боевую партию своим занудством. Из бандитов и параноиков. Всех оскорбил – и на2 тебе, он – первый! А я – вечно второй, как Энгельс? Скверно все. Кругом – или юристы, или писатели. С кем дело делать, куда вести?
Стены института были гулкими и разносили даже тихие голоса далеко. Они сливались, набегая друг на друга, как мысли в больной башке. А не плюнуть ли на все и не возвратиться ли обратно в Америку? Там будет свобода, но не будет власти. В тюрьму посадят. И тут же выпустят. Занятно, – сказал Троцкий сам себе. – Нужно будет сообщить Старику о царе. Ведь пришел же, не испугался. В нем осталось что-то от мужчины, в этом подавленном и бледном существе среднего рода. И это был главный итог сегодняшнего, в общем-то, бесполезного дня.
Глава седьмая Шум новой эры
1
Старший лейтенант Эриксон листал Пушкина в своей каюте. «Полтаву» он знал наизусть и просматривал ее тогда, когда шалили нервы: «… прозрачно небо, звезды блещут… Своей дремоты превозмочь не хочет воздух… чуть трепещут сребристых тополей листы…»
Он начал читать ее еще в военном училище, пытаясь разгадать в грациозных, как парфюмерия, строках свою судьбу. Точнее, судьбу пращура-шведа, который остался в России благодаря разгрому воинства Карла Великого. Он, пращур, сражался в его рядах, был ранен и награжден за храбрость русским царем. Петр не испытывал кровожадности по отношению к иностранцам, его бесили только русские, и в каждой бороде он видел для себя угрозу, пугаясь ее, словно малыш темноты. «Дрянь народишко!..» – сказал он однажды за праздничным столом, заглядывая в оловянные глаза Меньшикова. Иностранцев же странный царь одаривал как мог, даже тех, кто сражались против него. «Где брат мой Карл?» – вопрошал Петр после выигранной битвы и потом, по дошедшим из старины рассказам, пьянствовал с пощипанным Карлом в царском шатре. Это были замашки взбалмошного феодала, привыкшего к загранице и понимавшего европейца как самого себя. Во всяком случае, ему так казалось. На корабельных верфях Голландии он чувствовал свободу и силу, но в голландский парламент так и не зашел – не было времени и интереса. О своем же народе царь слышал, что есть такой. И проживает на одной территории с государем императором. Странное соседство!..
Несколько дней назад Николай Адольфович Эриксон был назначен командующим крейсера «Аврора». Судно больше года стояло на капитальном ремонте близ франко-русского завода. Паровые машины и ходовая часть были полностью обновлены. Имя крейсера, благодаря стараниям матроса в специальной люльке, сверкало, как магний у фотографа. Буквы были начищены чистолем и призывали к полной, окончательной победе. Но победы не было ни полной, ни частичной. Более того, машины крейсера еще не проворачивали, так как капитан боевого крейсера старлей Эриксон должен был получить на это согласие судового комитета. А судовой комитет молчал и работать не спешил.
Двоевластие на флоте было удивительным. Если бы государь не подписал бы недавно сепаратного мира с кайзером, то оно бы, двоевластие, разорвало действующую армию на две половинки, которые накинулись бы друг на друга, грызя и терзая. Однако сейчас, в состоянии мира, армия просто бездействовала, как завязнувший в яме тяжелый танк. В Адмиралтействе сказали, что крейсер должен идти к Моонзундскому архипелагу для патрулирования северо-западных рубежей империи. Приказ о выходе должен был поступить со дня на день. Но председатель судового комитета Сашка Белышев рисовал в кубрике кумачи с надписью «Долой…», курил махорку и задумчиво смотрел в иллюминатор, о чем-то тяжело размышляя.
Сама атмосфера в Адмиралтействе была странной. Когда Николай Адольфович входил в него последний раз, то какой-то морской офицер выстрелил в него шутихой и обсыпал мундир старлея праздничным серпантином. Что они праздновали и зачем?
Год начался с холодной и затяжной зимы. Крейсер стоял, вмерзнув в лед, без труб и мачты, напоминая гигантскую корку черного хлеба. Команда работала на заводе, вытачивая новые детали для обновленных машин. Зимою матрос пьет и умирает от недостатка труда внутри жилистых рук. Эта зима была благоприятной, никто не помер, потому что была работа, но предчувствие революции, еще не наступившей, волновало всех, как притаившаяся болезнь, – когда выстрелит и когда затрясет?.. Все сразу негласно договорились между собой, что царь и царица – немецкие шпионы, что страну разворовали до корешка и терять нечего. Позднее Временное правительство при молчаливом попустительстве государя императора создало специальную комиссию по преступлениям последних лет. Одним из редакторов ее отчетов был поэт Александр Блок. Худой и жилистый, как морской канат, с глазами, вылезавшими из лица и жившими самостоятельной жизнью, он записывал многочисленные допросы царских сановников. Общество было готово к раскрытию величайших преступлений, от которых содрогнется матушка Русь. Но ничего не содрогнулось и не открылось. Царь оказался не шпионом даже после подписания сепаратного мира с кайзером. Государственное воровство в империи имело место, но было значительно меньшим, чем бюрократическая глупость. Почва под революцией таяла и осыпалась, будто пыльца с перезревшего цветка. Все были разочарованы, как гимназист, сходивший в первый раз к проститутке и выяснивший, что жить девственником уместней и легче, чем самцом, – нет изнуряющих обязанностей плоти, а управлять любой женщиной, даже и гулящей, почти так же трудно, как государством.
Оставалась инерция. Революционный маузер был заряжен, спусковой механизм обещал громкий выстрел, дрожащий палец уже лежал на курке и только ожидал команды. Но никто не знал, ради чего теперь стрелять. Странное колебание лидеров большевиков вносило в ситуацию неопределенность, граничащую с нервным срывом.
Ремонтирующуюся «Аврору» решили сделать плавучей тюрьмой – в трюме сидели те, кто отказывался работать на армию и Временное правительство. О государе вспоминали всё меньше, он как-то ушел в тень и был невидим, как ветер. Страна никем не управлялась. По городу ходили голые люди, называвшие себя анархистами-максималистами. Они стойко переносили холод, и лидер их Абрамсон обещал народу окончательную свободу, первым шагом к которой будет раздевание догола. В рабочих районах в анархистов бросались камни, но в центре на Невском они чувствовали себя почти в полной безопасности. Мешал только стыд, который выражался в прикрывании причинного места руками, когда дул холодный ветер. Радость свободы исчезала. Наступала прострация, когда не было выхода ни в чем, даже в революции. Тяжелыми матросскими ботинками был забит насмерть капитан «Авроры» Никольский по прозвищу Крокодил. Он давал боцману в зубы, играл на фортепьяно и в феврале выстрелил в толпу, которая пыталась отбить от конвоя арестованных саботажников. От Никольского осталась лишь тяжелая память, и сейчас Эриксон, просматривая «Полтаву», размышлял, как убьют его самого: до выхода ли крейсера в Рижский залив или потом, во время вахты. Или, положим, ночью, в собственной каюте, задушив подушкой. Присяга требовала верности государю, который, по слухам, покинул Зимний дворец. Она же взывала к отечеству, которое, по тем же слухам, приказало долго жить.
«… Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут сребристых тополей листы… луна спокойно с высоты над Белой Церковью сияет…» Странная история его рода. Жили бы в родной Швеции. Там холоднее и еще тоньше солнце, чем здесь. И это удобней. Холод разглаживает воду, превращая ее в ровный лед, и заставляет страсти отступить. А революция – это жгучая общественная страсть.
…Корабль дернулся. Томик Пушкина свалился на пол. Внутри судна началось управляемое землетрясение, но оно было приятным, смазанным маслом. Поршни работали мягко, как на перине. Крейсер готовился к прыжку без приказа из Адмиралтейства. Но куда?..
Старлей поднял томик Пушкина и поставил на полку, на которой находилось два десятка книг. Умывальник блестел ослепительной чистотой. Фотокопии военных судов неподвижно висели на стенах. Одернув китель и ничем не выдавая волнения, Эриксон вышел из своей каюты.
В кают-компании, которая была напротив, артиллерист Винтер подбирал на фортепьяно прелюдию Шопена, но, почувствовав присутствие капитана, остановился.
– Кто дал приказ о проворачивании машин? – спросил Эриксон.
Двое офицеров, согнувшихся над бильярдом, молчали. Винтер взял на фортепьяно нижнее «до», напоминавшее удар грома.
– Понял, – сказал сам себе Николай Адольфович.
Он быстро спустился в машинное отделение. Положение было двусмысленным. Два дня назад он лично отдал распоряжение об испытании машин, но его саботировали. Сейчас же машины включились сами собой. Можно было делать вид, что это и есть выполнение приказа, но предчувствие говорило: нынешнее испытание не имело ничего общего с единоначалием. В нем таился неприятный сюрприз.
В машинном отделении капитан увидел Алексея Титовича Буянова. Старший механик стоял на металлической площадке, вознесенной над машинами, и лицо его было похоже на лицо гурмана, попробовавшего только что изумительное пирожное.
– Кто отдал приказ о проворачивании машин? – сухо спросил Эриксон.
– Приказал Центробалт, – ответил стармех, прислушиваясь к своему шуму.
Капитан поморщился. Грубое, как мозоль, слово «Центробалт» снова напомнило ему о двоевластии. Даже о троевластии, где Адмиралтейство, которому всю жизнь подчинялись, было на последнем месте.
– Почему вы не выполняете указания Адмиралтейства, а слушаете какой-то Центробалт?
– Это не я. Это товарищ Белышев. Пойдите к нему, господин капитан, и выясните, что к чему.
– Вот-вот, – подтвердил Эриксон. – Разделили всю армию на господ и товарищей. И всё запутали окончательно.
– Так точно, господин капитан, – ответил Буянов, не желая спорить.
Все его уши и даже мысли были сейчас внутри машин, Эриксона он почти не замечал.
Буянов был офицером. Но, поскольку в его распоряжении находилась механическая тяга, то он разрывался между рабочей черной костью, сидевшей в трюме, и высшей кастой, пробовавшей Шопена и дорогие французские вина.
Уже несколько дней офицеры ночевали на судне, готовясь к походу в Рижский залив. Обычно было не так. Матросы – на крейсере, а офицеры – в спальнях жен или любовниц. Только война и присяга сплачивали обе касты воедино. Наличие армий порождает войну, а та, в свою очередь, уравнивает господ и рабов – это Алексей Титович знал на собственной шкуре. А революция без войны – это сплошное разделение. До февраля старший механик обращался к капитану по имени и отчеству, а тот иногда звал его просто Титычем, но всегда на «вы». Эта была семья, в которой отец выходит на завтрак при галстуке, а у сыновей на голове причесан волосок к волоску. Но в феврале начался развод. Семье нездоровилось, галстук отца сильно измялся, и волосы детей торчали в разные стороны.
Ну и шут с ними, – подумал Эриксон. – Звук ровный и мощный, как у виолончели. Значит, ремонт проведен на славу. Будем ждать.
В кубрик к Белышеву он идти не захотел.
2
– « …К весне дядья разделились. Яков остался в городе, Михаил уехал на реку. А дед купил себе большой интересный дом », – прочел вслух мичман Осипов по книге, которую держал в руках.
– Еще одно слово о дяде Якове, и я задушу вас, – пообещал артиллерист Винтер. – Вы целый год нам читаете этот бред. Не стыдно?
– Я просто знакомлю вас с современной литературой. Ведь неплохо сказано « интересный дом »… Согласитесь!
– Лучше бы стихи почитали. Блока, что ли…
– Блок выдыхается, – сказал Осипов. – Теперь народились новые поэты, сильнее его.
– В поэзии уже все написано. Апухтин стоит Блока. А Блок пишет не лучше Тютчева. Или вы другого мнения, Николай Адольфович? – обратился Винтер к капитану, стараясь его втянуть в бесконечный и не-обязательный разговор.
У иллюминатора кружилась осенняя муха. Она жила по инерции, сонно и не спеша. Эриксон ударил ее мухобойкой и лишил быстрой жизни.
Наклонился к бренному телу. Открыв иллюминатор, выбросил муху в воду. Вытащил накрахмаленный носовой платок и начал вытирать им руки.
– О вас нельзя сказать, что мухи не обидит, – заметил Осипов. – «… На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ…» Как вам такое, господин Винтер? Это ведь не Апухтин, правда?
Борис Францевич Винтер подошел к бильярду и, не целясь, влепил кием в шар.
– Бред, – сказал артиллерист.
Кий его задел зеленое сукно и пропорол в нем дырку.
– Может быть, мы скоро вспомним о нашем безделии как о величайшем благе, и тогда… – но офицер не докончил своей мысли.
В кают-компанию вошел председатель судового комитета Александр Белышев. Без матроски на голове. Небольшого роста, чуть косолапый, он напоминал колченогий стул.
– …А вот и господин комиссар, – пробормотал Осипов, закрывая книгу.
– Нужно промерить фарватер, – сказал Александр, ни к кому конкретно не обращаясь. – Вашим приказом.
– В темноте?.. – поразился Эриксон. – Промерять фарватер… Вы что, первый день на флоте?!
– Судовой комитет захотел и будет.
– Ничего не будет, – ответил капитан. – Наступит день, завтра и промерим.
– Так и запишем, – согласился Белышев. – Судком не услышан, и произведен саботаж.
– Вот что, товарищ судком, – медленно произнес Николай Адольфович. – Вам известно, что я могу отдать вас под трибунал? Что это даже моя обязанность – избавляться от тех, кто подрывает армейскую дисциплину?
– Ваших намеков не принимаю, – сказал Сашка. – Желаю здравствовать.
Поднял с пола бильярдный шар, бросил его на зеленое сукно и ушел.
– Я вот что хотел сказать… – пробормотал Осипов, стесняясь. – Вы бы действительно посадили его, Николай Адольфович.
– У него есть жена и дети, – сказал капитан.
– А откуда вы знаете, что жене тогда не станет легче?
– А я бы его расстрелял. Саша прав, – согласился Винтер. – Инсценировал бы бузу и расстрелял. А то мы сойдем здесь с ума от двоевластия. Нужно что-то делать.
Под днищем судна раздался отвратительный скрежет. Капитан механически заметил, как шар отлетел в лузу. Расставив руки, Эриксон чуть не упал от начавшегося движения. Равновесие было соблюдено. Винты левой и правой машины, расположенные под углом друг к другу, завращались, толкая крейсер вперед.
– Идиоты! – пробормотал Николай Адольфович. – За год под судном намыло мель… Они нас погубят!..
В кают-компанию вбежал старший механик Буянов. Нос его был разбит.
– Разрешите доложить, господин капитан… На корабле бунт. Они хотят идти к центру города!..
Теперь Титыч по-настоящему испугался, и этот страх возвратил его обратно в офицерскую семью.
…В ходовой рубке у штурвала стоял неумеха Белышев, вокруг него столпилось человек пять матросов, которые мало смыслили в управлении и давали, по-видимому, бестолковые советы. Так, во всяком случае, показалось Эриксону.
– Почему в рубке бардак?! Служить разучились? – спросил капитан ледяным тоном. – Арестовать его!
Матросы лениво переглянулись.
– Кого арестовать, Сашку?
– Сашку, Сашку, – раздраженно подтвердил Николай Адольфович.
Один из матросов надул губы и пустил из них пузыри, как делают дети. Что означало величайшее сомнение в правомерности приказа.
– Я вас всех сейчас порешу, – спокойно произнес Эриксон, вытаскивая револьвер.
– Арестовать капитана! – приказал председатель судового комитета.
Из-под днища опять раздался скрежет, и крейсер начал заваливаться на левый бок.
– Мы тебе не служим, – сказал самый старший из матросов. – И ты, Сашка, здесь не озоруй!
– А что же вы тогда делаете, коли не служите? – спросил Эриксон, бросаясь к штурвалу и пытаясь выправить крен.
– Мы подчиняемся.
– Кому?
– Себе.
– Тогда все по местам! – распорядился Николай Адольфович. – Полный назад! Сбросить скорость до трех узлов! – приказал он в переговорную трубку.
Матросы не спеша, вразвалочку, чтобы сохранить видимость свободы, оставили их одних.
– Прекратите сейчас же свое варварство!.. – почти попросил капитан, выправляя крен.
– Сделан приказ, и я проведу его в жизнь…
Выбора не было. Доверить Белышеву управление означало потерять крейсер еще на год.
– Ладно, – пробормотал Эриксон, чувствуя, что его сломали. – Черт с вами!.. Убирайтесь в машину.
– Давно бы так, – сказал Александр, пытаясь скрыть свою радость.
– Куда идем?
– К Николаевскому мосту.
– Зачем?
– Чтобы обеспечить проход рабочих отрядов.
А ведь это расстрел, – подумал Николай Адольфович. – И не Белышева, а меня!..
– Хорошо. Только после этого я снимаю с себя командование судном, и вы меня арестовываете. Это мое непременное требование.
– Вы же слышали, гражданин хороший, что братки не хотят. Любят они вас. Или ленятся…
– Тогда я сам себя арестую, – сказал капитан.
Сашка пожал плечами. Он не был злым. Он был, скорее, задумчив. Ушедший в Лету февраль, когда показалось, что все идет прахом, приказывал как-то самоопределяться и находить новую опору. Белышев зашел в комитет РСДРП, что расположился близ Калинкина моста, с просьбой о помощи в этом самом самоопределении. Там ему дали брошюру революционного автора и попросили подумать о математической точке русского бонапартизма.
Сашка брошюру прочел. В ней говорилось, что Керенский – новый Наполеон со своей математической точкой. Эту точку необходимо стереть, иначе всем другим математическим точкам не сносить головы. Грядущая возможная диктатура обещала на этот счет не церемониться.
Председателю судкома понравилось. Приученный к дисциплине, но не приученный к ученым словам, он часто повторял про себя, когда ему было плохо: …Математическая точка русского бонапартизма. И облака расступались, и северное солнце готово было погладить его по голове. «Ты знаешь, что такое математическая точка, – спросил он однажды у гулящей девицы, – русского бонапартизма?» Девица не знала и ответить не смогла. С тех пор его карьера пошла вверх. Матросы его не то чтоб зауважали, но начали как-то брезговать. А Центробалт сразу признал за своего.
3
На юте мичман Осипов обнаружил беспорядок: валялись выбранные кормовые концы, и только один стальной трос был заведен за стенку.
– Отдать кормовой!.. – прозвучала команда с мостика.
Машины работали то вперед, то назад, размывая мель, образовавшуюся под днищем.
Через пятнадцать минут крейсер медленно отошел от стенки франко-русского завода. Свет из иллюминаторов освещал вспенившуюся за бортом воду. Намытая мель осталась позади, и днище, судя по всему, повреждено не было. Оставалось двигаться в темноте, как слепцу, без промера фарватера, на ощупь и на авось. Эриксон знал этот путь, как из спальни в гостиную, однако каждый судоходный год не был похож на другой. Вода жила по своим законам и могла подложить любую опухоль, образовавшуюся с зимы.
Петроград должен был спать. Однако с набережной Васильевского острова несколько человек помахали «Авроре» платками. На Английской горело в черном доме одинокое окно.
– Вижу мост!.. – раздался голос сигнальщика.
– Малый назад… полный назад!
– …Стоим здесь! – указал Белышев капитану.
Эриксон просмотрел на часы – было около четырех утра.
Зазвонил машинный телеграф, и в воду полетел тяжелый якорь. Мощный свет прожектора с крейсера осветил овальные быки моста. Несколько юнкеров в шинелях, что находились на мосту, бросились от этого света врассыпную. От них остался один пулемет.
Николай Адольфович заметил, что набережная полна народу. Это не был рабочий люд, усталый и черный, это вышла городская буржуазия, в меру довольная и праздная, которая махала платочками крейсеру и стреляла шутихами. Этому новогоднему шуму отвечали редкие винтовочные выстрелы со стороны Зимнего дворца.
Похоже, что крейсер находился в центре исторического события, которое, возможно, есть разрешение кризиса последних трех лет. Фурункул дулся, пух, наливаясь гноем, и наконец прорвался игристым сухим вином. Нева была заполнена военными кораблями, сюда приплыл чуть ли не весь Кронштадт. Люди на набережной думали, что происходит военно-морской парад. А команды кораблей ничего не думали и не понимали. На каждом из них находился свой белышев, получивший указание идти к центру города. Это были отдельные детали в калейдоскопе, но полную картину мог знать только Мастер. Но где он сидел? В Центробалте? В Смольном? Или близ Калинкина моста?..
– Что теперь? – спросил Эриксон у Сашки.
– Можете идти спать, гражданин капитан.
– Я вам больше не капитан.
Николай Адольфович положил перед Белышевым бинокль и револьвер.