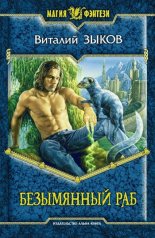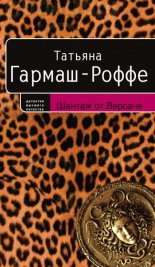Бои местного значения Звягинцев Василий

В центр поступят тысячи одинаково достоверных и в то же время ложных по сути сигналов, и посади на обработку сведений хоть сотню сотрудников, и за две недели не разобраться им в этом деле…
Он не знал точных цифр, но по порядку величины мог представить ситуацию. Если бы ему как инженеру предложили составить сетевой график перемещения нескольких сотен автомобилей в полусотне районов восьми непосредственно прилегающих к Москве областей, а потом исключить все заведомо не подходящие под условия задачи…
Как ловят львов в Африке? Делят пустыню на квадраты, исключают те, где львов заведомо нет, и в оставшихся находят искомое. Очень просто.
– Ох ты и молодец у меня, – с давно забытым искренним чувством сказал он жене.
– Слава Богу! Хоть в таком положении сообразил. Раньше не мог…
– К стыду своему – да, – склонил голову Шестаков.
На душе стало совсем легко. Даже странно – неужели так подействовало на него чувство свободы – впервые за восемнадцать лет, – свободы от всего? От необходимости поступать так, как диктует служебный и партийный «долг», от страха перед вышестоящим начальством, невыполненными квартальными и годовыми планами, внезапным, пусть и давно ожидаемым, арестом. Теперь все – в прошлом. Нечего бояться, кроме смерти в бою, а как раз этого он и на войне не боялся…
Ну разве что заблудиться во все усиливающейся пурге Шестаков опасался, лопнувшей шины, поломки мотора…
Да вот и погода. Метель метелью, но ветер вдруг на мгновение разгонял над головой плотную снеговую завесу, и даже тучи словно бы редели, становился виден мутноватый круг солнца, и Шестакову становилось опять жутковато – ну как раздернется совсем облачно-снежная пелена, засияет нестерпимой синевой зимнее небо, и предстанет черная «эмка» мухой в сметане любому наблюдателю с острова Кличен, Городомли, десятка прибрежных деревень.
Тогда уже не примешь ее за одну из сотен машин на оживленной магистрали. Первая за многие месяцы, а то и годы легковушка на льду озера запомнится каждому.
Только, к счастью, вьюжный полог тут же задергивался, густея, и совсем о другом приходилось думать – позволит ли стихия добраться живыми до места?
Однако и с этим все обошлось. Не прошло и часа, как завиднелся слева темнеющий сквозь густую кисею снегопада лес на берегу острова Хачин, а потом наконец на холме, обращенном к озеру крутым откосом, возник обнесенный оградой из толстых кривоватых слег бревенчатый дом.
Вокруг – несколько овинов, или амбаров, нарком не знал точно, как тут эти хозпостройки называются, а над ними возвышалось подобие сторожевой башни, или караульной вышки на высоких бревенчатых опорах, между которыми виднелись почти отвесные лесенки – трапы в четыре марша.
Шестаков неоднократно видел эту картину, и зимой, и летом, но сейчас вдруг она напомнила ему совсем другое место, с которым связано было в прошлом что-то очень и очень хорошее. Но что, где, когда – он вспомнить не мог. Словно бы в полузабытом сне привиделось. Или – так тоже бывает – попадаешь вдруг в помещение, которое кажется мучительно знакомым, и лишь потом случайно узнаешь, что жил здесь с родителями в младенческом возрасте, о котором помнить ничего не мог, а вот надо же – отпечаталось в каких-то мозговых клетках…
Утомленные долгой монотонной дорогой, мальчишки сразу оживились.
– О, что это такое, папа, куда мы приехали? Вышка зачем?
– Дозорная вышка. Смотреть, что на озере делается, не загорелся ли где лес и вообще…
– А мы туда полезем?
– Метель закончится – полезете…
Последнюю сотню метров преодолеть оказалось едва ли не труднее, чем сорокакилометровый путь через озеро. Мотор надрывно завывал, колеса проваливались в успевший заполнить санные колеи снег, а подъем к воротам оказался вообще почти непреодолимым.
Салон заполнил запах подпаленного сцепления.
Шестакову казалось, что рев мотора слышен и на другом берегу озера, однако в доме он ажиотации не вызвал, на крыльце никто не появлялся.
И внимание хозяина привлек не едва слышный из-за бревенчатых стен, забиваемый воем пурги механический звук, а громкий, возбужденный лай выскочивших из-за амбаров собак.
Последним усилием своих лошадиных сил «эмка» дотянула до ограды, а тут и распахнулась наконец дверь избы.
Нет, не избы, а обширного бревенчатого дома, больше похожего на сельскую школу или обиталище небогатого помещика.
– Добрались, слава Богу, – вслух сказал нарком, поворачивая ключ зажигания.
– Григорий Петрович? Вот уж неожиданность. – Хозяин шел навстречу, протягивая руку, высокий, худой, в пестро-сером свитере домашней вязки, в каких-то ужасных войлочных чунях на босу ногу, без шапки, зато в круглых жестяных очках – читал, наверное.
Увидев его, Шестаков подумал, что все – спасены! Надолго, нет ли, но пока – спасены.
Глава 6
Ветер выл и свистел в кронах сосен, в стояках и подкосах сторожевой вышки, сухой и жесткий снег хлестал по щекам и слепил глаза. Единственное, чего хотелось наркому, чтобы буран крепчал и крепчал, длился неделю или две без перерыва, сделал непроходимыми дороги до самой Москвы, а он бы сидел у горящей печи, покуривал, отводил душу в беседе со старым другом и точно был уверен, что и сегодня, и завтра, и через три дня будет спать совершенно спокойно.
– Да вы никак со всем семейством? Неужто отпуск наконец? Рад, душевно рад. А я, знаете, как чуял, с самого утра какое-то беспокойство испытывал, будто и вправду гостей ждал… Кошка тоже – уж так умывалась. Примета есть – гостей намывает. Да вы проходите, проходите в дом, что ж на ветру стоять, замерзнете совсем. И ребятишки, вижу, притомились. Небось от самой столицы без привалов? И как вы только рискнули в такую-то погоду? И без шофера, без охраны? К вечеру точно бы не проехали. Хорошо, если в Осташкове застряли бы, а упаси Бог – в чащобе…
Он строго прикрикнул на двух кудлатых, страховидных кавказских овчарок, захлебывавшихся злобным лаем.
– В позапрошлом году удостоился от профсоюза путевки в Теберду, оттуда и привез щеночков. В наших краях звери невиданные. Волки, и те приближаться к кордону опасаются, а о людях и не говорю…
Власьев говорил без остановки, как уставший от долгого одиночества человек, и в то же время галантно помогал Зое снять шубку в просторных темноватых сенях.
– А вы, Григорий Петрович, ребят раздевайте, и сами тоже. В горнице-то у меня тепло…
– Сейчас, сейчас. Ты, Зоя, иди с парнями, а мы сейчас…
Когда они остались вдвоем, бывший старший лейтенант сразу посерьезнел.
– Нужно понимать, случилось что, Григорий Петрович? – Несмотря на более чем двадцатилетнюю дружбу, они обращались друг к другу исключительно на «вы» и по имени-отчеству, как принято было в старое время между людьми хотя и одного почти общественного положения, но с восьмилетней разницей в возрасте.
– Можно сказать, что и случилось. Только сначала бы машину загнать в сарай какой-нибудь или на сеновал. Не стоит в такую погоду на улице бросать. Воду из радиатора слить опять же. А потом и поговорим. Тем более я к разговору кое-чего прихватил, и закусочки столичной…
Хозяин предвкушающе потер руки.
– «Столичная» – это хорошо. Я хоть совсем бирюком заделался, а к хорошему застолью вкуса отнюдь не потерял…
Пришлось изрядно поработать лопатами, пока наконец «эмку» не водворили в до половины забитый сеном сарай.
Перенесли в дом багаж наркома.
Власьев повертел в руках «ППД».
– Недурная штучка. Видел в журнале, а вблизи – не приходилось. Это теперь что, высшим чинам для самообороны выдают или на медведя сходить думаете? Нет, на медведя не подойдет, слабовато будет…
– Для самообороны, – криво усмехнулся Шестаков.
Власьев понимающе кивнул и больше ничего не спрашивал.
После простого, но обильного и сытного обеда – грибной суп, жаренная большими кусками свинина (дикая, естественно) с гречневой кашей, многочисленные соленья, – дополненного московской колбасой, икрой и крабами, Зою и детей окончательно разморило.
Власьев отвел им для отдыха угловую комнату в два окна с широкой деревянной кроватью, задернул плотные домотканые занавески.
– Поспите, Зоя Степановна. Спешить теперь некуда, а под такую пургу куда как хорошо спится…
Вышел, аккуратно притворил за собой дверь.
– Ну что, Григорий Петрович? Пойдем дровишек принесем, баньку растопим, к вечеру как раз и нагреется. Да и поговорим…
У буйно разгоревшейся печки-каменки (тяга в трубе была так хороша, что то и дело срывала пламя с березовых дров и уносила его вверх, в буйство стихий, яркими оранжевыми лоскутами) в тесноватом, два на два метра предбаннике Шестаков поставил на лавку недопитую за обедом бутылку водки, Власьев добавил старинный зеленый штоф собственного изготовления самогона, очищенную луковицу и большой ломоть ржаного хлеба.
– Ну вот, теперь и побеседуем, Николай Александрович. Кстати – подарочек вам. – Нарком протянул егерю свой никелированный «ТТ». Сделанный по спецзаказу, номера пистолет не имел. Впрочем, роли это не играло никакой, если потребуется, органам нетрудно будет выяснить, когда и для кого он делался.
– Благодарю, вещица красивая. Застрелиться приятно будет…
– Отчего же именно застрелиться? – Слова егеря Шестакова неприятно удивили.
– А для чего он мне еще? Для служебных надобностей казенный «наган» есть, «драгунка»[10], для охоты – ружей пять штук. А вот если власть до меня доберется, арестовывать придет – тогда непременно из вашего пистолетика и застрелюсь. Последнее, так сказать, «прости» от старого товарища…
– Вы скажете, Николай Александрович… А впрочем… – Не спеша, в коротких, но точных фразах Шестаков изложил Власьеву события последних полусуток.
Словно бы речь шла о рискованной, но в целом удачной охоте на крупного зверя.
Егерь слушал внимательно, но спокойно, дымил слишком хорошей и непомерно дорогой для этих мест папиросой, которые если бы и завозили в осташковское райпо, купить без риска привлечь к себе пристальное и недоброе внимание не мог бы никто, за исключением секретаря райкома, пару раз наполнил граненые стаканчики.
– Удивлены, Николай Александрович? – спросил Шестаков, закончив рассказ.
– Удивлен. Но не тому, что вы имеете в виду. Скорее – себе. Как я в вас ошибался. Последние десять лет, признаюсь честно, считал вас конченым человеком. Предавшимся большевикам. Поддерживал отношения по старой памяти. Ну и из благодарности, конечно. Порвать совсем – сил не было, да и смысла не видел. Все ж таки хоть изредка поговорить с человеком из собственной молодости… А уважать – так почти и не уважал уже…
– Спасибо за откровенность, Николай Александрович.
Обиды нарком не ощутил. Словно бы сказанное к нему совершенно не относилось. А возможно, так оно и было. Себя прошлого, еще позавчерашнего, он воспринимал сейчас очень отстраненно.
– Чего уж. А вы вот каким оказались. Дошли, значит, до точки, а за ней…
– Переход количества в качество. По Марксу – Энгельсу.
Власьев посмотрел на него внимательно.
– Все равно я чего-то здесь не понимаю. Вы должны были или сорваться гораздо раньше, ну, не знаю, после процесса Промпартии, после всех этих кировских дел… Или продолжать принимать и остальное как должное. Включая собственный арест…
Шестаков, продолжая удивляться себе не меньше, чем Власьев только что начал, сухо рассмеялся:
– Я, наверное, вроде монаха Варлаама. «По писаному худо разбираю, но разберу, коль дело до петли-то доходит…»
– Может быть, может быть, – с сомнением в голосе ответил бывший старший лейтенант, хотя и непонятно было, в чем он теперь-то сомневается. Разве что в подлинности самого рассказа.
Шестаков выложил перед ним рядком четыре чекистских удостоверения. Красноармейскую книжку бойца-конвойника он забирать с собой не стал. Никчемная вещь.
– А в саквояже у меня четыре их же «нагана»…
Помолчали, еще подымили папиросами.
Печка разгорелась в полную силу, и в предбаннике становилось уже жарковато.
– Ну-ну, так – значит, так… – Власьев запустил пальцы в бороду. Полуседая, окладистая, она сильно его старила, придавала вид диковатый и одновременно патриархальный. Никто не дал бы егерю его сорока восьми лет, окружающие, кроме кадровика в райкомлесе, считали, что Лексанычу далеко за пятьдесят, и сам он ненавязчиво культивировал такое мнение.
– И что же вы теперь намереваетесь делать?
Шестаков, что странно, о дальнейшем пока не думал. Ближайшая цель – добраться до единственного надежного убежища – заслоняла все остальное.
– Да, пожалуй, вы и правы, – согласился с ним егерь. – Пурга никак не меньше недели продлится, я точно знаю. Кстати, прошу заметить, последнее время зимы все суровее становятся. Я календарь погоды веду. Очевидно, очередной цикл малого оледенения начался. Так что до конца февраля погода будет для нас самая подходящая. Отдохнете, отоспитесь, мысли в порядок приведете, потом можно и планы строить. Я в Осташков съезжу, среди людей покручусь, у меня знакомые везде есть, в том числе и в милиции. Начальник районный тоже большой любитель и охоты, и баньки. Может, что полезное и сболтнет под вторую бутылку… Окорочок копченый ему свезу, сига вяленого, первачу четверть…
– А не удивится, чего это вдруг?
– Как это вдруг? Постоянно вожу. С властями дружить надо. Я ему гостинец, он мне когда патронов к «нагану» и «драгунке» подбросит, когда еще что… За это не беспокойтесь. Ежели розыск на вас объявили – он непременно скажет. Смотри, мол, Лексаныч, не появится ли где чужой человек. Я же следопыт известный, у властей в доверии как бывший герой гражданской войны и беспорочно прослуживший на кордоне аж пятнадцать лет… – Власьев снова рассмеялся, но как-то невесело. Выпитая водка начала себя показывать, навевая печаль по нечувствительно пролетевшей жизни.
А Шестаков оставался совершенно трезв, просто внутреннее напряжение сменилось расслабленным покоем. И, поскольку хмель все-таки действовал, пусть и без внешних проявлений, он стал собою даже гордиться. И хотелось о собственной лихости говорить.
Но заговорил он о другом:
– Давно хотел спросить, Николай Александрович, вот вы обо мне этак пренебрежительно отозвались, а сами-то? Так и решили до конца дней своих в советских отшельниках просуществовать? Крест на себе окончательно поставили? О нормальной человеческой жизни и не тоскуете даже? Так, чтобы выбриться когда-нибудь чисто, рубашку крахмальную надеть, костюм от классного портного, в столицу или в Питер выбраться, в ресторане посидеть (теперь снова довольно приличные появились), ложу в опере взять. Дамам руки в кольцах целовать… Вы ж совсем еще человек не старый, по-прежнему времени даже и молодой, пожалуй. Году в восемнадцатом непременно кавторанга бы получили, в двадцать примерно третьем – каперанга. А то и ранее. Сейчас никак не меньше, чем вице-адмиралом, были бы. Командующим флотом или Генмором[11] заправляли. Да и я с вашей помощью черных орлов[12], наверное, уже получил бы…
– С чего вдруг именно сейчас – и такие мысли? Вам ли жаловаться? По тому же счету вы уже действительный статский, если не тайный… Правда, вот в бегах оказались, так это дело случая. Могло и иначе обернуться.
– Сомневаюсь, – с неожиданной твердостью в голосе сказал Шестаков. – Теперь уже очень сомневаюсь. Очевидно, такая наша судьба, от которой не убежишь, как известно. В восемнадцатом я еще искренне верил, что от большевиков может польза России произойти. Обновление как бы. После Кронштадта впал в сомнение, в чем вы лично могли убедиться…
– Да уж. Тогда вы себя с блеском проявили, – усмехнулся Власьев.
Воспоминание было приятно наркому, хотя в предыдущие годы он часто мучился мыслью – прав ли был тогда, позволено ли во имя так называемой «дружбы» изменять тоже так называемому «революционному долгу»?
Власьев понял его мысль.
– Известно, что первое побуждение, как правило, бывает благородным. И тогда, и сейчас вы ему поддались. Эрго[13]…
– Хотите сказать, что я по-прежнему остаюсь благородным человеком? Невзирая на… убийство?
– На войне мы с вами стреляли торпедами и ставили мины против совершенно ни в чем не виноватых людей. Ремарка «На западном фронте» читали?
– Как же… Суровое осуждение империалистической бойни…
– Вот-вот. Наши с вами исконные враги тевтоны – такие же нормальные люди, с чувствами, с совестью и благородством. Тогда бы нам такое почитать… Зато те, что пришли за вами вчера, – это как раз не люди. Убежденные палачи. Отбросы человечества и сволочь Петра Амьенского. Истинные враги народа. Их не оправдывает даже тезис «Прости их, ибо не ведают, что творят…». Еще как ведают…
– А вдруг и вправду уверены, что я и мне подобные – враги трудового народа? Либо вредили, либо злоумышляли, либо шли поперек линии партии…
– Тогда бы они хоть доказательства собирали, а не выколачивали их. Знакомились с материалами последних процессов? Где там хоть намек на доказательства? При царе и то без четких улик и сравнительно беспристрастного суда не сажали, тем более – не расстреливали и не вешали. Значит, вы все сделали правильно. Теперь главное – не останавливаться.
– Это как понимать? – вскинул голову Шестаков.
– Да в самом буквальном смысле. Как вы себе отныне свое будущее представляете? У меня отсидеться думаете? Я вам в гостеприимстве не отказываю, но рано или поздно… Здесь ближайшая деревня в трех верстах. В конце концов вас заметят, на первый раз я сумею выдать вас за приезжего гостя, скажем, даже брата, но через неделю или месяц слух дойдет до участкового, он явится проверить документы. Ну а дальнейшее понятно…
– Я могу уехать…
– При нынешней паспортной системе? Куда? Не смешите. Если только правда где-то в Сибири скит построить и жить там, как беглому раскольнику петровских времен. С женой и детьми? Сначала затоскуете, потом и одичаете. Робинзон из вас вряд ли получится…
– Тогда что же остается? С повинной идти или застрелиться? – произнес это Шестаков с отчетливо слышимой иронией.
– Зачем же так? Даже в шутку таких слов не произносите. А то застрянет невзначай мыслишка и начнет точить. Я всяких людей знал, всякого насмотрелся. Из-за таких пустяков иногда себе пулю в голову пускали, что даже оторопь берет…
В предбаннике становилось все жарче, оба собеседника незаметно за разговором разделись до исподнего.
Небольшая керосиновая лампа, почти коптилка, еле освещала тесное, с низким потолком помещение, из-под двери слегка сквозило, и мохнатые тени прыгали по стенам, изломанные и страшные.
За крошечным, в две ладони шириной, окошком выла и свистела теперь уже окончательно разгулявшаяся до полярных масштабов вьюга, скорее даже – полноценный буран, при котором застигнутый в пути ямщик не имел шансов на спасение, каким бы опытным он ни был.
– К утру, наверное, откапываться придется, – заметил Власьев. – У меня на этот случай специальный ход через крышу есть и лопаты на чердаке.
Шестаков второй раз за сутки вспомнил героя ледовой зимовки капитана Бадигина. Вчера только ему завидовал, а сейчас и сам в том же положении. Только полярник спокоен за свою участь до лета как минимум, а он – до… Да кто может знать, кто из них сейчас в лучшем положении? Сожмет пароход «Седов» льдами чуть покрепче – и конец капитану, не видать ему своей геройской звездочки.
– Так банька-то согрелась, пойдем, однако, – сказал Власьев.
– Мне и не хочется вроде, – с сомнением ответил нарком. – Разморило меня что-то. Да и выпили порядочно.
– Ништо, – перешел вдруг на местный диалект егерь. – Не повредит. Мы слишком-то усердствовать и не будем. Так, косточки распарим слегка да ополоснемся. Спаться будет лучше.
Жар в парилке был сухой, пронзительный, в нем даже лампа продолжала гореть как ни в чем не бывало.
На верхнем полке Шестаков почувствовал себя словно бы и легче, только в ушах гудела кровь и в виски чуть тюкало, а так ничего.
– Вы, Григорий Петрович, знаете, я ведь до вашего появления ощущал себя совершенно умиротворенным, едва ли не счастливым человеком, вот только вы меня снова слегка смутили…
– Счастливым? В такое время?
– Именно, милейший, именно. А чего же? Тюрьмы полны коммунистами, изничтожают они друг друга так, что никакому Врангелю с Деникиным не снилось, все, почитай, герои гражданской войны сведены под корень, самые глупые пока уцелели, и то, полагаю, до времени, «ленинская гвардия» тоже целиком «в штабе Духонина[14]»… Я тут газетки выписываю, детекторный приемник собрал, полностью в курсе, хоть в город не чаще, чем три раза в год, выбираюсь. Отчего же мне не радоваться? Я-то вот живу, пребывая в полной гармонии с собственной душой и природой. Про троцкистов в «Правде» почитаю, потом по лесу пойду, на живность всякую полюбуюсь, птичек послушаю…
Дневник наблюдений за природой еще веду, чучела набиваю, про повадки муравьев очерк составляю, словно бы новый Фабр… И так иной раз сладко на душе делается…
Крыленко с Дыбенкой, помните, очень против офицеров зверствовали, а теперь обоих – тоже к стенке. И еще многих, Викторова, Кожанова, Муклевича, Зофа, Зеленого! Это я только бывших моряков-предателей, советских комфлотов сейчас вспомнил. У меня, знаете, такой как бы синодик заведен, так, поверите, не успеваю кресты ставить.
Из кронштадтских карателей никто не уцелел, поверите ли?! Кто в катастрофе погиб, как Фабрициус, кто-то своей смертью умер, но в молодом, заметьте, возрасте, а большинство все же к стенке своей, советской, отправились. Чудо ведь, никак иначе!
Да со всенародным гневом и проклятиями в печати! А я, как новый крестик нарисую, по этому случаю глухаря в русской печке зажарю, да под глухаря и чарочку – чтоб ни дна ни покрышки очередной поганой душе…
Шестаков подивился столь, в общем-то, неожиданному, но в принципе, как он, немного подумав, решил, – естественному взгляду на вещи.
Это он никак не может отрешиться от ставших почти второй натурой советских стереотипов, а его бывший командир своих убеждений никогда не менял. Так французский аристократ в каком-нибудь 1793 году не мог не радоваться казни Робеспьера и его присных, а на двадцать лет позже – падению Наполеона.
– А чем же мое появление так уж ваш покой смутило? Ну, перекантуюсь я недельку-другую, да и отбуду куда подальше, а вы живите себе. Глядишь, еще и реставрации монархии дождетесь…
– Пожалуй, что и такое может случиться. Зачем бы иначе Сталин кровушку своим подельникам рекой пускает? Чтоб ни одного не осталось, кто возразить сможет, когда час придет. Историю французской революции почитывали? Очень большевики любили ее к своей примерять. А чем та кончилась? Вот то-то! С течением времени погоны вернет, как офицерские звания вернул, и адмиральские-генеральские чины тоже. А потом и императором себя объявит подобно Бонапарту…
Но это когда еще будет? Через два года или через пять… А нам-то сейчас жить предстоит. И я вас на произвол судьбы оставить не могу. Раз такая планида выпала. Что-то нам серьезное, а главное – неожиданное делать придется…
– Интересно – что же именно? – выпив еще стопку и чувствуя, что наконец и его начинает забирать, спросил Шестаков.
– Ответить окончательно и в деталях – не готов. Так и время на размышление у нас пока есть. Отоспитесь как следует, окончательно в себя придете, тогда и обсудим. Ежели же в двух словах, то можно так сказать – пора бы и нам Советской власти войну объявить.
Они нам – в семнадцатом. Мы ей – хотя бы сейчас. Думается – пришло время. Если уж даже и вы решились… Партизанскую войну начнем, а в нужный момент… – Власьев вдруг отстраняюще взмахнул рукой, потянулся к деревянному ковшику, зачерпнул ледяной воды из ведра. – Да что это мы, право, все о делах да о политике? Забудьте пока все, Григорий Петрович, жизни радуйтесь. Словно вы из опасного похода вернулись, как тогда, после боя на Кассарском плесе, а другой поход то ли будет, то ли нет.
По крайней мере – не сегодня и не завтра.
А сегодня мы с вами, как встарь, напьемся по-черному! Я в одиночку-то почти не пью, во избежание, а вдвоем со старым товарищем – сам Бог велел. Очень может славно получиться…
Он распахнул дверь парной и издали плеснул из ковша на раскаленную до малинового отсвета каменку. Ударивший со свистом пар окутал тесное помещение.
Власьев захлопнул дверь.
– Пусть пар осядет чуток…
Шестаков удивился, что в устах лейтенанта слово «товарищ» звучало отнюдь не по-советски, а так, как его произносили и век, и пять веков назад.
– Ну и напьемся, я разве против? Помните, как в Гельсингфорсе, в ресторане «Берс»?
Сам-то Шестаков по своему полуофицерскому-полуматросскому званию при старом режиме рестораны посещать права не имел, только после Февральской революции наступило уравнение в правах, но как гуляли там офицеры – помнил хорошо.
Уже после полуночи он кое-как добрался до отведенной ему Власьевым комнаты. Опьянение навалилось на него неожиданно, и проявилось оно довольно странно.
Последними мыслями, которые он успел зафиксировать, были такие: «А интересно все же, что сейчас творится на Лубянке?» и «Не понимаю, когда я успел так безобразно упиться? Ох!».
И тут же нарком провалился в гудящую, раскачивающуюся, тошнотворную пучину черного беспамятства.
Глава 7
А на Лубянке действительно с самого утра происходили интересные вещи.
Как и рассчитывал Шестаков, до начала рабочего дня, то есть до десяти утра, никто не заинтересовался, вернулась ли с задания группа и доставлен ли арестованный нарком куда следует.
Да и потом в третьем спецотделе (специализация – обыски и аресты), в отделении, где служил лейтенант Сляднев, спохватились не сразу. У всех свои дела, не один нарком Шестаков числился этой ночью в проскрипционных списках.
Размещался отдел в двух десятках кабинетов вдоль длиннейшего коридора, кто там упомнит, кого из коллег видел уже сегодня, а кого еще вчера, после развода, или ночью.
А если и нет товарища на месте, так мог, например, сдав арестованного, поехать домой законно отдыхать, такое постоянно практиковалось.
Лишь около полудня начальник отделения, тот, что велел лейтенанту доставить Шестакова не на Лубянку, а в Сухановскую тюрьму, начал, без особой сначала тревоги, накручивать диск телефона.
Выяснив, что ни лейтенант, ни его сержанты не объявлялись нигде, тюрьма арестованного не принимала, да и, наконец, не вернулась в гараж обслуживавшая группу дежурная машина, старший лейтенант ГБ Чмуров поднял тревогу.
Посланные на квартиру наркома оперативники взломали прочную дверь, сначала услышали глухой стук в дверь ванной, где и обнаружили мающегося тяжелым похмельем электрика и почти невменяемую от страха лифтершу. А потом нашлись и прикрытые ковром тела сотрудников.
Беглый осмотр тел и опрос понятых дал не слишком много. Ничего дельного сказать они не могли. Электрик непослушным языком буровил что-то несусветное, женщина твердила о напавших на товарища наркома троцкистах, приехавших ему на помощь настоящих чекистах, которые и увезли его в Кремль к товарищу Сталину.
Для проведения процессуально оформленного допроса свидетелей (на соучастников они явно не тянули даже по тогдашним меркам) обстановка в квартире была неподходящая, и их отправили сначала к себе в отдел, чтобы привести в чувство и получить более вразумительную информацию.
Тела погибших повезли в судмедэкспертизу, но свободного прозектора сейчас не оказалось, и пришлось в ожидании своей очереди запереть тела в отдельной секции морга с приставлением часового.
Лишь в четвертом часу судмедэксперт объявил, что причина смерти лейтенанта – раздробление шейных позвонков и полный обрыв спинного мозга, одного сержанта и конвойного бойца – кровоизлияние в мозг, возможно, от удара тупым тяжелым предметом, второй сержант умер от внезапной остановки сердца.
Несколько позже найденный труп водителя ясности не прибавил. Он, судя по всему, скончался вообще беспричинно. Вот жил-жил, а потом спустился зачем-то в подвал, где вдруг взял и умер. Бывает, но не в такой ситуации.
Время же шло и шло, причем, как часто бывает в подобных случаях, с чрезмерной скоростью.
Было уже почти шесть часов вечера, стемнело, и начальнику отделения стало ясно – хочешь не хочешь, а пора докладывать по начальству. А что докладывать? Предназначенный к аресту очередной «враг народа» (да не рядовой враг, член правительства, ЦК и Верховного Совета) уничтожил хорошо подготовленную, имевшую немалый опыт работы оперативную группу без единого выстрела и бесследно исчез вместе с семьей?
Мало того – в квартире не осталось практически ни одного предмета или документа, могущего представлять интерес для следствия.
А еще беглец захватил служебную машину, оружие и документы сотрудников.
Такого в Главном управлении госбезопасности Наркомата внутренних дел СССР не случалось, похоже, с момента его создания. Сотрудники иногда погибали при исполнении, только во времена бытности не НКВД, а ВЧК – ОГПУ, когда враг был реален, вооружен и отнюдь не склонен поднимать руки или закладывать их за спину при виде какого-то там ордера на обыск. Да тогда ордера и не предъявляли. Разве что дряхлым старикам или беспомощным женщинам, предназначенным на роль заложников.
Остальных принимали всерьез, отчего вели себя при задержаниях и арестах с должной осторожностью.
И вот так все и докладывать?
Тем более что слухи вот-вот поползут и, несмотря на крайне узкий круг осведомленных о ЧП лиц, по обычному закону их распространения, то есть – быстрее звука.
С минуты на минуту может последовать звонок от начальника спецотдела, а то и выше…
С выступившими на голубовато-сером коверкоте гимнастерки темными пятнами горячего и липкого пота, кое-как подавляя нервную тошноту, промокая платком лоб (вот удивительно – под мышками пот горячий, а на лбу – ледяной), чекист судорожно искал выход, затравленно поглядывая то на дверь кабинета, то на телефон.
Использовать, что ли, бестолковый бред лифтерши? Что действительно появились какие-то вооруженные люди (или они заранее прятались в квартире?), уничтожили наших людей и похитили наркома? Действительно троцкисты-террористы?
Старший лейтенант ни разу в жизни не видел настоящих троцкистов, если не считать, конечно, тех времен, когда сам Троцкий был еще у власти, выступал на съездах, печатал свои статьи в газетах. Кое-какие даже изучались в школе, но это же совсем не то.
Нынешние троцкисты, в существование которых он не слишком верил, – это свирепые и беспринципные убийцы, отравившие Горького и Куйбышева, подсыпающие толченое стекло в котлы с пищей в рабочих столовых, казармах и детских садах. Такие ему не попадались. Попадались другие – вчера еще совершенно обычные люди, нередко – заслуженные и известные, но сегодня оказавшиеся ненужными. Вот верховная власть решила, что требуется их при аресте и суде как-то по-особенному назвать.
Чтобы отличать от других, еще не арестованных. Пусть так, троцкисты – значит, троцкисты.
Любимая бабка Чмурова, например, никогда не поминала черта, тоже подбирала ему условные обозначения: «серенький», «рогатый» или «аггел».
Да черт с ними, с троцкистами. Придумать, поскорее придумать хоть сколько-нибудь связную версию, а там, может, и удастся перебросить это дело по принадлежности. А его… Ну, может, не арестуют все-таки, может, просто уволят по несоответствию или понизят до рядового опера…
Не в силах унять дрожь в руках, чекист выпил полный стакан воды.
Отчаяние овладевало им все сильнее. Слишком отчетливы были прошлогодние воспоминания. Как исчезали после снятия Ягоды и прихода Ежова люди целыми отделами и управлениями. Люди не ему чета: комиссары с четырьмя и тремя ромбами, старшие майоры – десятками, более мелкая сошка вообще без счета.
Сам же он их и арестовывал, с непонятным, но острым наслаждением сдирал петлицы, с мясом вырывал ордена, при малейшем намеке на протест без азарта, но с удовольствием бил в морду. Да кого – самого Агранова, самого Паукера, самих Артузова, Бокия, Благонравова, Молчанова…
В не лишенной оснований надежде, что как раз за нерассуждающую старательность и помилуют.
А теперь и его так же? Не анекдотчика мелкого упустил, не польского шпиона, каковым считался хоть бы и родившийся в каком-нибудь глухом уезде под Белостоком дворник, наркома упустил, матерого, заслуженного. Не зря его в Сухановку велели, туда не каждого возят, большинство сюда, во внутреннюю…
По сложившемуся в советское время порядку, руководитель отвечает за все и полной мерой, пусть даже чрезвычайное происшествие вызвано падением Тунгусского метеорита. Но с метеорита ведь не спросишь, а виноватые и, соответственно, должным образом наказанные должны быть всегда.
Начальник отделения был человек опытный, знал, насколько бессмысленны надежды оправдаться и что-то объяснить, если уж решат повесить это дело на него. За пару часов превратят в дико воющую и стонущую отбивную котлету. И признаешься сам, а куда деваться?
Если только не удастся «перекинуть стрелку». А на кого?
На своего непосредственного начальника или – вместе с ним – на «соседей»? Кто оформлял бумаги на арест, кто не обеспечил оперативную разработку, кто прозевал, не предусмотрел или даже… подставил ничего не подозревавших сотрудников?
Поздно, ой поздно он спохватился!
Сразу бы, там же, в квартире, как только увидел трупы, написать рапорт на имя начальника отдела или сразу ГУГБ и бегом, и лично доложить, и виноватых назвать! Такие вещи не раз срабатывали…
А тут и телефон наконец зазвонил, громко, нагло и злобно. Чмуров вырвал из розетки провод, подскочил к двери, дважды повернул ключ.
Боком присел на стул, торопясь, разбрызгивая чернила, не слишком выбирая слова, нацарапал докладную прямо Ежову, вообще не упоминая о себе, а только обвиняя во вредительстве всех, от своего непосредственного начальника и вверх по должностной лестнице, кого сумел вспомнить, потом написал короткое прощальное письмо жене (хорошо хоть детей нет). Ступая на цыпочках, выглянул в коридор.
За ним пока не шли.
Спустился вниз, вышел на улицу и протолкнул конверты в щель почтового ящика на углу Кузнецкого моста. Это уж точно от полной потери ориентировки. Докладную Ежову можно было и в секретариат забросить, все равно мимо проходил.
Старший лейтенант постоял у перекрестка, ловя губами густо летящие вдоль улицы снежные хлопья и не обращая внимания на удивленно-испуганные взгляды прохожих.
Неторопливо вернулся в свой кабинет, с неожиданно наступившим спокойствием и даже некоторым злорадством выкурил папиросу у открытого окна и совсем не дрожащей рукой выстрелил из «нагана» себе в сердце, не в висок.
Чтобы не портить лицо для гроба. Рассчитывал все-таки на нормальные похороны, а не на яму для «невостребованных прахов» возле Донского крематория.
Однако, по недостатку образования, направить ствол куда нужно не сумел и был доставлен со слабыми признаками жизни в ведомственный госпиталь.
Так что, возможно, выход он нашел не самый худший. Если не умрет на операционном столе, то пару месяцев перекантуется на больничной койке, а к тому времени много чего может случиться. По крайней мере от допросов с пристрастием, да еще «по горячим следам», он на ближайшее время избавился.
А дальнейшие решения принимать пришлось уже начальнику 3-го спецотдела 1-го управления ГУГБ, старшему майору госбезопасности, то есть, по-армейски считая, комдиву, Шадрину. Опытный чекист и неплохой дипломат, он просчитал ситуацию куда быстрее своего незадачливого подчиненного.
Ежову, хотя распоряжение об аресте наркома и было подписано им лично, докладывать нельзя ни в коем случае.
Во-первых – не по уставу, а кроме того, Николай Иванович агрессивен и глуп. Сначала тебя же и сделает крайним, а потом то ли будет разбираться дальше, то ли нет – непредсказуемо. К своему прямому начальнику, комиссару 3-го ранга Дагину, обращаться вообще бессмысленно. Назначен на должность недавно, труслив, безынициативен, сдаст, не разбираясь, спасет это его самого или нет.
Курирующий замнаркома тоже не подходит. Но есть человек, один из «последних могикан ВЧК», который и поймет, и посоветует…
Но добиться приема у первого замнаркома не так просто даже и старшему майору. Только утром Шадрин смог попасть в кабинет комиссара госбезопасности 1-го ранга (а это уже почти маршал) Л. М. Заковского, человека авантюрного склада, но чрезвычайно умного, более того – по-своему порядочного.
Несколько позже Алексей Толстой изобразил его в «Хождении по мукам» под именем Левы Задова. Нарочито карикатурно, ну а как же еще можно было в то время писать начальника махновской контрразведки, не раскрывая его истинной сущности?
А Заковский тогда работал у Махно по заданию ВЧК. Впрочем, возможно, все было наоборот, начальник контрразведки – сначала, а переход на службу в ВЧК – уже потом. Но и ту, и все другие роли он исполнял вполне успешно. За ним числились многие и многие, очень непростые операции.
– И что же, по-твоему, Матвей Павлович, произошло на самом деле? – спросил, насупившись, Заковский, опираясь тяжелым подбородком на сжатые кулаки. – Только давай сначала обойдемся без казенной риторики. И – без эмоций. Отложим на потом. Сейчас – только факты. Иначе – сам понимаешь…
– Если бы я мог… Картинка на самом деле странная. Шестаков этот… Что за личность, ты же его знал, Леонид Михайлович?
– Знал, но не так чтобы очень. Встречались пару раз, разговаривали о… Впрочем, это неважно. Обыкновенный человек. Насколько помню, к оппозициям не примыкал. Связи… Ну какие у наркома могут быть связи? С Орджоникидзе вроде был близок… Да это все в наблюдательном деле есть. Не смотрел?
– Где бы я смотрел, это не по нашему ведомству. Поступила команда на обыск и арест, ну и… Почему, зачем – не наше дело…
– Угу, угу, конечно. Как в опере поется: «Сегодня ты, а завтра я…» И что же, никаких следов?