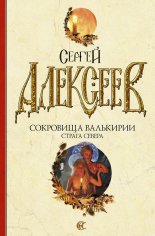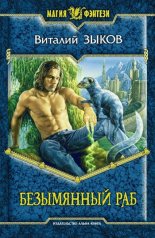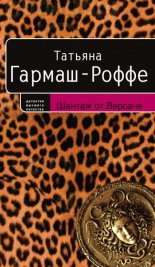«Додж» по имени Аризона Уланов Андрей

Аулей плечами пожал.
– Без дна, – отвечает.
Я уж было открыл рот спросить: «Сколько это «бездна»?», а потом одумался. Черт, думаю, их знает, может, она и в самом деле без дна. У них все может быть.
А дорога неплохая, широкая. И мостик этот, пожалуй, тяжелый танк выдержит.
Вышел я на этот мостик, осмотрелся и вдруг сообразил, что мне вся эта местность напоминает. На траншею она похожа. Пропасть – окоп, а горы точь-в-точь как бруствер по сторонам. Ну не бывает в природе таких гор, под линейку сделанных.
– Интересно, – говорю, – сами такой противотанковый ров выкопали или помог кто?
Кара на меня опять косо взглянула. Ох, до чего мне эти их взгляды надоели, словно не они тут свихнулись, а я.
– Пропасть, – отвечает, – это граница между Светом и Тьмой. Ее провели боги.
Хорошая граница, думаю. Нам бы такую в 41-м. Это вам не обмелевший Буг форсировать.
– И давно она тут?
– С последней битвы, – отвечает Арчет. – До нее граница была в тридцати лигах западнее.
– Вот дела! – говорю. – Выходит, она, как линия фронта, двигаться может?
Кивает.
– Граница, – говорит, – живая.
Ничего себе. Стояли себе две горные цепи с пропастью между ними, а потом взяли да передвинулись от старой границы к новой. Кейтен зи, ви функционирт дизэс агрегат?[5]
– Интересно, а у темных этих, на той стороне, тоже застава есть?
– Да.
– Рыжая, – поворачиваюсь, – а как же ты тогда вчера на ту сторону попала и меня обратно протащить умудрилась?
– Я, – заявляет рыжая, – путешествовала Тайными Тропами. И не спрашивай меня о них – знать это тебе не положено. И рыжей меня тоже не называй.
– Хорошо, – говорю. – Но только слугой я тебя звать тоже не намерен. Не было у меня никогда слуг и не будет. На рядовую будешь откликаться?
– Я – не рядовая.
Это уж точно.
– Ладно, – говорю, – Карален так Карален. Пошли, на вашу линию обороны поглядим.
Оборона у них, конечно, хлипкая. Двенадцать винтовок – шесть «трехлинеек», две «СВТ», четыре немецкие. И» максим». Трофим на него, как на икону, уставился.
– Первая, – говорит, – вещь против орков.
– Орки, – спрашиваю, – это такие зеленые, с клыками?
– Они самые.
– Ну, по ним из «максима» самое то. Хотя мне лично немецкий «МГ» больше нравится.
Гляжу – веревка какая-то по земле протянута, за камень уходит. Заглянул – ни черта себе. Веревка к гранате противотанковой примотана, а граната – к авиабомбе. Немецкая фугаска, 250-килограммовая.
– Это еще что?
– А это, – Трофим отвечает, – на крайний случай. Если уж совсем зажмут – дернем, благословясь, и будет и нам, и им.
– Дернуть, – говорю, – это, конечно, здорово. А почему б не взять эту дуру и не рвануть ею мостик прямо сейчас, не дожидаясь, пока зажмут? А то ведь в последний момент еще неизвестно, как обернется. Оборону вашу хилую смести – даже «фердинанд» не нужно подтягивать. Полковушку приволокли – и вышибли вашу баррикаду, как фигуру в городках. А если с миномета долбануть – одной мины на этот мешок каменный хватит и еще лавиной накроет так, что и могилу братскую копать не надо.
– Так ведь, – отвечает, – пробовали уже. Ничего это не даст. Переход в другом месте объявляется. А там-то уж замка нет.
– Все равно, – говорю, – хреновая у вас оборона. Совсем хилая.
– Да уж какая есть.
– Вот за такой ответ, – говорю, – и под трибунал можно. Оборона должна быть ни какая есть, а какая надо и еще лучше. Только для этого о ней думать постоянно надо. И работать над ее совершенствованием.
– И как же ее, по-твоему, – Трофим интересуется, – усовершенствовать?
– Да много как, – отвечаю. – Вот, например, я вчера у Аулея тарелки из дюраля видел. Где вы его взяли?
– Там же, где и бомбу, – говорит. – С самолета.
– А что за самолет?
– Немецкий.
– Немецкий, а дальше? Тип какой?
– Не знаю, – отвечает. – Они его без меня разобрали. Я только крыло видел, его целиком в замок приволокли.
– Я, – Кара встревает, – видела.
Начал я ее расспрашивать – тот еще источник информации. Словно венгра какого-нибудь по-немецки допрашиваешь, а он слов знает еще меньше тебя, да и то не те. Кое-как разобрался.
– Эх, – говорю, – олухи. Это ведь «Хейнкель-111» был. На нем одних огневых точек не меньше пяти штук. Вот и представь себе, Трофим, вместо одного твоего «максима» – пять авиапулеметов. Такой шквал свинца – кого хочешь смести можно. И потом бомба эта ваша – хорошо, если сдетонирует от гранаты, а вдруг нет?
– А ты что предлагаешь?
– Взять, – говорю, – и разобрать ее. Нормальную мину соорудить. Даже тол не надо вытапливать – просто дыру в корпусе проделать и взрыватель по-человечески приспособить.
Да и вообще. Сейчас линия фронта опять в эти места вернулась и добра к вам должно сыпаться – только успевай карманы подставлять.
Эх, старшину бы нашего сюда, Раткевича. Он бы тут через неделю колхозы учредил, а за месяц и вовсе полный коммунизм построил.
– Об этом, – говорит Трофим, – ты лучше с отцом Иллирием поговори. Он у нас и духовный наставник, и магии обучен.
– Он что, – спрашиваю, – две должности совмещает?
– Он больше совмещает. У нас тут церковь воинствующая.
Ну, думаю, вот только попов с пулеметом мне и не хватало.
Глава 4
Попа мы обнаружили в комнатушке при часовне. Сидит он себе, вроде бы и не делает ничего, только шарик стеклянный по столу катает.
– Да пошлют тебе боги добрый день, – говорит, – Сергей. С чем пожаловал?
– И вам доброе утро, – говорю. – Вопросы у меня тут возникли.
– Раз вопросы, а не вопрос, – говорит Иллирий, – тогда садись за стол. Кара, а ты, будь так добра, принеси нам из кухни что-нибудь, хвалу богам воздать.
Рыжая пару секунд потопталась – очень уж ей, видно, услышать хотелось, о чем я попа допрашивать собрался, – и умчалась.
Как она в дверях скрылась – я аж дух перевел. Умотала она меня за утро.
Иллирий за моим взглядом проследил и тоже усмехнулся.
– Кара, – говорит, – девушка хорошая. Даже очень хорошая. Только… как бы это точнее сказать… Слишком много ее иногда бывает.
– Не то слово, – говорю. – Окружает со всех сторон и многократным численным превосходством давит.
– Кстати, – священник вдруг серьезным стал, – ты случайно не помнишь точное время, когда ты в наш мир попал?
– Ну, – говорю, – если считать, что я сразу после взрыва провалился, то часов в одиннадцать. В полдевятого мы на болотце наткнулись, полтора часа по нему хлюпали, на островке обсохнуть успели… Да, скорее всего, ровно в одиннадцать, меня ведь вторым залпом накрыло, а немцы народ пунктуальный – если есть возможность ровно в ноль-ноль пальнуть, в ноль-ноль и пальнут. Так что ровно в эльф.
– Хм, одиннадцать, – поп вроде о чем-то своем глубоко задумался. – Видишь ли, – говорит, – я с вашим измерением времени не очень знаком, но вчера весь день сочетание звезд очень интересное было. Ты, Сергей, свой гороскоп когда-нибудь видел?
– Я, – говорю, – даже в свое личное дело ни разу не заглядывал. А уж в хиромантию всю эту и вовсе никогда не верил.
А поп куда-то сквозь меня смотрит.
– Все верно, – говорит, – все совпадает. Ты из другого мира, наши боги над тобой не властны, а в Судьбу свою ты не веришь – и поэтому сам ее творишь. Все совпадает.
– Понимаешь, – говорит, – Сергей. Я астролог, конечно, слабый, но вчера после нашего разговора пошел на звезды посмотреть. Посчитал, что раз ты в нашем мире только вчера объявился, то это и есть день твоего рождения. И попытался твой гороскоп составить.
Тут я наконец чего-то вспоминать начал. Читал в одном трофейном журнале – фюрер бесноватый тоже вроде в эту муть верит.
– Ну, – интересуюсь, – и чего там ваши звезды мне напророчили?
– Знаешь, Сергей, – отвечает Иллирий, – ты уж меня прости, но то, что я в эту ночь увидел, я ни тебе, ни Каре не скажу. И даже Аулею с Матикой тоже. Я тебя только об одном попрошу – когда будешь выбор делать – не ошибись! А лучше – не делай его вовсе!
Ну и чушь же он несет. Причем на полном серьезе. Я-то вижу – он во все это верит, как в оперативную сводку.
– Все сразу выбрать нельзя? – спрашиваю.
Тут он на меня так глянул. Даже не дико, а с восхищением каким-то и ужасом, словно я ему конец света после дождичка в четверг напророчил.
– Можно, – шепчет. – Все можно. Ах я, старый дурак. Все ведь возможно.
Тут рыжая объявилась. Полную корзинку фруктов приволокла. Некоторые знакомые, а часть – первый раз вижу. Даже брать их боязно – вдруг это какие-нибудь ананасы местные и с них кожуру прежде счищать нужно. Прямо, думаю, как рыжей наши консервы.
Выбрал одно яблоко-переросток, откусил – земляника. Что за черт, думаю, уж землянику-то я от яблока на вкус отличить еще могу. Еще раз вгрызся – точно, земляника. Гебен зи мир, битте, айн кило фон ден апфельн[6].
Интересно, яблочки эти у них сами по себе на елке выросли или местные селекционеры расстарались? Ну, показать бы такую елочку товарищу Мичурину – он бы на ней и повесился с тоски. Только, думаю, чего ж у них при таких выдающихся достижениях хлеб-то такой дрянной? Одними ананасами народ не прокормишь, надо бы и пшеницу с картошечкой.
– Так о чем, – спрашивает Иллирий, – ты со мной поговорить хотел?
– Посмотрел я тут, – говорю, – на ваш передний край.
– Ну и…
– Ну и хилая же у вас тут оборона, – говорю. – Удивительно, как вас еще до сих пор не смели.
– А ты, Сергей, – спрашивает, – знаешь, как ее укрепить?
– Мне сказали, что вы, как святой маг, в курсе, где, когда и что из моего мира в ваш валится. Вот и наладьте сбор и переработку. Только на серьезной основе, а не так, как сейчас, – только то, что непосредственно на голову свалилось.
– С этим, – отвечает, – у нас большие проблемы. Людей в замке не так уж много, а отрезок границы, который мы собой закрываем – без малого десять лиг в обе стороны. А кроме как в замке, людей в округе почти не осталось. Ушли. Боятся Тьмы, боятся нового вторжения.
– К тому же, – рыжая встряла, – простолюдины к вещам из твоего мира близко не подойдут. Они их проклятыми считают.
Понять-то их можно. Там, наверное, такие подарочки попадаются – не то что костей, пыли не соберешь.
– Хорошо, – говорю, – допустим, один доброволец у вас нашелся. Я да машина во дворе – и обернуться быстро можно, и загрузиться неплохо. И что за какой конец брать, тоже знаю. Но хоть примерные координаты указать можете?
– Места, – священник говорит, – показать могу. Это несложно.
Полез куда-то под стол, залязгал чем-то. Наконец вылез с рулоном полотна. Расстелил его по столу и пальцем тычет.
– За последние дни, – начал, – вот…
А я на эту, с позволения сказать, «карту» гляжу – та еще карта. Ребенку, который ее рисовал, лет десять было, а то и меньше. Факт наличия основных местных достопримечательностей показан, но дальше этого дело не идет. По пачке «Беломора» и то легче ориентироваться.
– Стоп, – говорю, – а другой карты у вас нет? Более приближенной к рельефу местности? Типа двухверстки.
– Эта карта, – поп говорит, – самая лучшая во всем замке.
Да, думаю, топография у них тут явно не на высоте.
– Ладно. Но тогда мне к этой карте еще и проводника нужно. Переводчика. Чтобы он всю эту живопись к местности привязывал. А то ведь у вас, наверно, не один холмик с тремя кустиками. Их бин хир ляйдэр нихт бэкант[7].
Сказал и тут же язык прикусил. Только вот поздно уже было.
– Все, что надо, я могу показать лучше любого в замке.
Я на Иллирия кошусь – дочь хозяина как-никак, а он кивает.
– Да, – говорит, – лучше Кары окрестности замка мало кто знает.
Посмотрел я на нее тоскливо, вздохнул. А что тут сделаешь? Назвался шампиньоном…
– Ладно, – говорю, – не-рядовая Карален. Слушай приказ. Выяснить у священника координаты, переодеться в полевую форму и через пять минут быть у машины? Ясно?
– Нет, – отвечает. – Мне не ясно, что такое «коордаты», «полевая форма» и сколько это – «пять минут»?
– Отвечаю по порядку: координаты – расположение нужных нам мест на карте, полевая форма – одежда, которую не жалко изорвать в бою, а пять минут – как можно быстрее. Ферштейн?
– Теперь да, – отвечает. – А что такое верштайн?
– А вот немецким, – говорю, – мы как-нибудь в другой раз займемся, – и чуть ли не бегом за дверь.
Добежал до «Доджа», сел, дух наконец перевел. Ну, думаю, ох и влип же ты, Малахов, с этой рыжей штучкой. Познакомился, называется, с аристократкой. Навязалась в напарники, то есть, тьфу, в напарницы. Тоже мне – стрелок-радистка.
Ладно. Вылез, походил вокруг, протекторы попинал. Только обернулся, а рыжая уже тут как тут. Вырядилась в свою вчерашнюю кожанку и сетку проволочную натянуть не забыла. Смотрю я на нее и сатанею потихоньку.
– Это, – спрашиваю, – форма полевая?
Рыжая носик гордо вздернула, и от этого еще смешнее стала выглядеть.
– Это, – отвечает, – моя боевая форма.
– Что боевая, это я вижу. Дыр, как будто с трех убитых уже сдирали. В общем так, – говорю, – феодалочка, хочешь на себе блох разводить – дело твое, но металлолом этот сними и спрячь подальше и поглубже. А еще лучше – в керосин окуни, пусть хоть ржавчина отстанет.
Кара снова вспыхнула, но промолчала. Стянула кольчужку, бросила в кузов и сама через борт махнула.
Я сел, мотор завел.
– Садись рядом на сиденье, – говорю, – чего трястись-то.
– А мне, – отвечает – отсюда лучше видно.
– Ну, как хочешь. Хоть уцепись за что-то.
– Я, – заявляет рыжая, – с трех лет в седле.
– Так то в седле, – говорю. – А ты в кузове.
Стоит. Как хочешь, думаю, не говори, что не предупреждал. Выжал сцепление, газанул – «Додж» с места рванул, только земля из-под колес брызнула. Ну и, само собой, грохот в кузове. Проехал мост, оглянулся назад – рыжая из-под брезента выбирается, за плечо держится и шипит сквозь зубы.
– Ну как, – спрашиваю, – может, все-таки сядешь на сиденье?
Рыжая меня взглядом ожгла, словно кипяток плеснула. Перебралась на сиденье, устроилась и молчит.
– Ау. А дорогу кто будет показывать, Пушкин или Сусанин?
– Прямо, – говорит, – а затем направо.
– Ну вот, так бы сразу и сказала. Гэрадаус унд дан нах рехтс.
Нет, надо с этими немецкими словечками заканчивать. А то сыплются они из меня к месту и не к месту. Вон как рыжая на меня возмущенно косится глазищами своими желтыми. Глаза у нее, как два прожектора, так и прожигают насквозь. Дымиться, наверно, скоро начну от этих взглядов.
Помню, у нас в разведроте один парень в медсанбат на пару дней угодил с касательным ранением, а на столе письмо недописанное осталось. Адрес он нацарапал, а само письмо так и не начал – два дня думал, чего б такое написать, и додумался – пулю плечом поймал. Ну а мы после поиска гурьбой ввалились, красные от мороза и наркомовских – и давай за него дописывать. Еще края на коптилке обуглили и начали: «Дорогая Катя. Пишу я тебе из горящего танка».
И пошло-поехало. Каждый норовит свое вставить.
«Глаза ваши горят в ночи, как две осветительные ракеты. Вы прекрасней, чем залп «катюш». Каждый раз, когда я сжимаю пальцами горло очередного фашистского гада, я думаю только о вас…» и так далее. Всю страницу подобной чушью измарали. Вспоминать стыдно.
И вдруг капитан заходит. Сел, начал читать, а мы стоим вокруг и трезвеем потихоньку. Ну, думаем, ой, что сейчас будет. Во-оздух! Хоть под нары ныряй!
Дочитал до конца, усмехнулся, взял ручку и дописал пару строк. А потом вышел. Ну, мы к столу, а там:
«Дорогая Екатерина. Это письмо написали бойцы той роты, где служит ваш Виктор. С ним все в порядке, просто они его очень любят и решили ему помочь. Вас они тоже любят, так что не обращайте на все эти шутки внимания». И подпись.
Так-то вот.
Ладно. Проехали мы километров двадцать, гляжу – самолет. Наш, истребитель, «яковлев». Лежит – в землю мотором ткнулся.
Я к кабине – а в ней летчик. Сорвал фонарь, сунулся – да где уж там. Он тут уже не меньше суток сидит. И главное – дыр от пуль нет, только лицо кровью залито.
Отстегнул его кое-как, вытащил на траву, документы из кармана достал, «ТТ» из кобуры, вместе с обоймой запасной. Начал смотреть – а он меня на год младше! Лейтенант. Только-только двадцать исполнилось. Сижу рядом и думаю – ну что же ты натворил, лейтенант! Прыгать надо было, прыгать! А ты ее сажать поволок. Ну и посадил, называется.
Кроме документов, у него еще только бумажник нашелся. А там – одна сторублевка, сиреневая, мятая, и фотокарточка. Девчонка с косичками улыбается. А подписи на обороте нет.
Обошел самолет вокруг – ну да, только в мотор и попало. Двигатель, пушка, пулеметы – все всмятку, перекорежило так, что только в металлолом. Эх, лейтенант.
Принес лопату из «Доджа», начал копать. Земля еще хорошая попалась, мягкая. Да и место тут неплохое. Тихое.
Выкопал где-то на метр. Вытащил парашют из кабины, раскрыл и отхватил кусок. Не обеднеют, думаю, местные с трех метров. Завернул тело в шелк…
Надо, думаю, фанеру, что ли, какую-то приспособить, да где ж ее тут возьмешь. Потом придумал. Отодрал от хвоста кусок обшивки со звездой, прут какой-то железный из кабины выломал и выцарапал на обшивке все, что в таких случаях положено. Постоял, ну и из «ТТ» выстрелил напоследок. А потом сел в «Додж» и поехал.
Рыжая как все время в машине просидела притихшая, так и сидит. Только когда километра на три отъехали, пошевелилась и тихонько так спрашивает:
– А зачем ты стрелял?
– Ну, – говорю, – это прощальный салют. Вроде как последняя дань погибшим. А потом уже и тишина.
– А мы над могилами клянемся отомстить.
– Это тоже. Только я лично всегда хотел, чтобы над мой могилой, если уж суждено будет в нее лечь, батарея салют дала. И не холостыми, а боевыми, по целям. Мной разведанным. Вот это был бы салют.
А вообще – не было бы у меня никакой могилы. У нас, разведки, и судьба иная, и счеты со смертью тоже свои.
Обычно, просто был – и словно не был. Вроде вчера только ходил по землянке и песенки под нос бормотал, вот ведь привычка до чего дурацкая, хочешь отдохнуть спокойно, так нет же, жужжит. И в бритве моей трофейной, «золинген», клепку в рукоятке разболтал, ладно бы хоть брился, так ведь не бреется, нечего ему еще брить, что он с ней только делал, – а вот остальные все вернулись, а его нет. Стоишь, и одна мысль в голове вертится – что ж он этой бритвой чертовой строгал, так и не узнаю теперь. А было ему всего-то двадцать с двумя копейками, совсем как лейтенанту этому.
Еще бы документы его как-то передать. А то не вернувшегося из вылета, так и запишут пропавшим без вести.
Ладно, думаю, зато хоть здесь он пропавшим не будет. И» ТТ» его еще у меня постреляет.
Неплохо вообще, что пистолетом удалось разжиться. Сразу себя по-другому чувствуешь. С ножом что – даже против местных железяк не выйдешь. А теперь – семь в обойме, да еще восемь в запасной – и фиг ко мне кто подойдет, прежде чем я их все расстреляю.
Еще бы автоматом обзавестись – и можно не просто жить, а нормально воевать.
С кем воевать – пока особых вопросов не возникает. Конечно, вся эта феодально-поповская компания – та еще лавочка, и менять тут надо много, но с теми, кто людей собаками травит и деревни сожженные оставляет, мне не просто не по пути, а даже наоборот. Я их самих огнеметами выжигать буду. И лысый этот, и вся их компания – они еще о старшем сержанте Малахове услышат. И скоро услышат. А может, даже и услышать не успеют. Это уж как получится. Но показать я им покажу. С полным на то правом.
И тут выезжаем на вторую точку – снова разбитый самолет. И снова наш. «Пешка» «вторая».
Да что же это, думаю, за день у наших выдался.
Подкатил поближе, гляжу – фонарь у кабины сорванный. И тел внутри вроде не видать. Сразу на сердце полегчало – выбросились, значит.
Обошел вокруг – следов нет. И тел в самолете тоже нет. Значит, точно еще там выбросились. Вот и отлично, думаю, воюйте дальше, ребята, а мы тут пока с вашим подарком разберемся.
А подарок богатый. Два пулемета в новой части закреплены, один у штурмана, один у радиста и еще один переносной, для стрельбы с бортов. Почти все крупнокалиберные, «березины». Только бортовой – «ШКАС», винтовочного калибра, но тоже нехилый – 1500 в минуту. И ленты у всех почти полные, только у штурмана треть выстреляна. Зажгли их, наверно, на первом же заходе, вот и не успели расстрелять.
Бомбоотсек, жаль, пустой. Выходит, отбомбились, пошли домой, тут их и догнали. Очень может быть, что уже и над нашей территорией, а то бы на одном движке попытались тянуть. А лейтенант тот, скорее всего, из прикрытия был. По времени похоже, тот сутки и этот сутки.
Ладно. Черт с ними, с бомбами, зато пять пулеметов – это просто роскошь. Надо будет, думаю, один обязательно в кузове установить, на треноге. А еще два, те, что носовые, было бы неплохо также по бортам закрепить и провода от электроспуска на клаксон вывести. Вот сигнал будет из двух стволов – попробуй, не уступи дорогу! Живо в решето превратим.
Выволок штурманский – ну и тяжелая же дура. Навел на хвост, попробовал на спуск нажать – куда там. Чуть с ног отдачей не сбило, ствол в небо, а кусок киля, в который целился, напрочь снесло. Только лохмотья торчат. Вот это вещь. Двенадцать запятая семь миллиметров, никому мало не покажется.
– Ух ты, – рыжая аж от восторга прыгает. – А можно я?
– Обойдешься.
– А Трофим мне разрешал.
– Так то, – говорю, – из «максима» да со станка. Вот установлю на треногу, тогда, так и быть, позволю, скрепя сердце. А пока – не трожь!
Обиделась, но виду не подала. Ждет, что еще интересного добуду.
Бортовой пулемет я без особых проблем вытащил. А вот с хвостовым пришлось повозиться. Еле-еле его выдрал из турели. А к носовым в этот раз и подступаться не стал. Ну их, думаю, никуда они не денутся. Потом еще раз приеду. Все равно еще одну точку осмотреть надо.
Поехали дальше. Кара все время назад оглядывается, на пулеметы насмотреться не может. Другим куклы в платьицах, а этой – крупнокалиберный.
Ну а третья точка – это был просто блеск.
Выруливаю на поляну, гляжу – ежкин кот, две машины стоят. Та, что поближе, – «студер» крытый, и хорошо, видать, загружен, глубоко завяз, а подальше – полуторка, «ГАЗ-АА», и тоже ящиками какими-то доверху забита. Картина – глаз не оторвать.
Я сначала к «студеру» подрулил. Заглянул в кузов – ой, ребята, чего здесь только нет! Прямо хоть военторг открывай, не вылезая из машины. Формы – завались! Ну, думаю, Малахов, в ближайшие двадцать лет к Панкратову на склад можно не заглядывать. Даже сапоги хромовые и тех пар тридцать, не меньше. Я аж обалдел маленько от такого богатства.
Одумался маленько, вылез. Все это, конечно, здорово, соображаю, да вот только еще лучше было бы, если б этот грузовик автоматами под завязку набили да патронов к ним не забыли. А сапоги на войне вещь нужная, не спорю, да ведь только много из них не настреляешь, даже из хромовых.
Сунулся в кабину, поглядеть, может, от шофера чего осталось. Нет, пусто, только на сиденье соседнем зеркальце валяется и расческа. Наверное, тоже девчонка-регулировщица какая-нибудь ехала и выскочить успела. Интересно, думаю, неужели обе машины прямыми попаданиями накрыло? Хорошо немец серию положил.
И тут меня идея осенила. Додумался, называется. Залез обратно в кузов, поворошил, гляжу – точно, комплекты женской формы, юбки с беретками. Прикинул на глаз размер, сапожки прихватил и выбрался.
– Эй, рыжая, – говорю, – не хочешь обновку примерить?
А эта губки надула и отвернулась.
– Нет.
– А ну, – голос повысил, – не-рядовая Карален. Живо в кузов. Расческой пользоваться умеешь?
– Умею.
Выхватила у меня охапку и умчалась.
А я пока пошел «полуторку» осматривать. Подхожу – дверца кабины распахнута, а в кабине – винтовка. Стоит себе, к приборной доске прислонена.
Ну, прыгать от радости я при виде ее не стал. Трехлинейка, вещь, конечно, в хозяйстве полезная, но уж больно нерасторопна в современном ближнем бою. Хотя в умелых руках – оружие что надо. Когда я еще в пехоте был, помню, у нас во взводе дед один, сибиряк, с этой винтовкой роту немцев на землю положил. Положил не в смысле на тот свет, а залечь заставил. Всего две обоймы истратил, а цепь залегла. Как перед пулеметом. А снайпер – так это и вовсе верная смерть для любого, кто из окопа на вершок высунется.
Но автомат мне бы сейчас куда больше пригодился.
Обыскал кабину, еще пять обойм нашел. Ну и мелочи там всякие – кисет с махоркой, инструменты – я их даже трогать не стал – в «Додже» лучше лежат. Лопатку только саперную прихватил, а то большая есть, а маленькой нету.
Полез в кузов, подковырнул лопаткой верх с одного ящика – снаряды. 76-миллиметровые, осколочные. А в других ящиках бронебойные, фугасы – я уж по маркировке различил.
Черт, думаю, пушку бы еще к этим снарядам. Не из пулемета же ими стрелять. Мне б патронов или гранат.
Хотя, стоп. Чем, думаю, черт не шутит. Вдруг кроме снарядов они ее еще чем-нибудь загрузили. Перелез к кабине, в щель между ящиками просунулся – есть! В самом низу, на днище, два ящика – гранаты, я их сразу узнал, в роту в такой же таре поступали, и еще минимум один ящик с патронами. Насчет него я точно уверен не был, но, похоже, к автоматам.
Я чуть было не взялся эти ящики доставать на радостях. Даже приподнял верхний и опомнился. Ты что, думаю, Малахов, совсем от счастья очумел? Тут взводу на пару часов работы – ящики эти перекидать. И потом, куда ты их сгружать будешь? На землю? Никто, кроме тебя, на эти ящики не позарится, как стояли, так и будут стоять. А я завтра у местных пару подвод мобилизую и народец – на разгрузку.
Походил вокруг полуторки, пооблизывался. Прикинул, нельзя ли ее «Доджем» выволочь, но раздумал. Тут ведь до дороги – километров семь, да и дорога местная еще та – только что танками не разбита.
Возвратился обратно к «студеру», смотрю – что такое, нигде рыжей не видно. В» Додже» нет, в кабине тоже, в кузов заглянул – и там нет.
– Ау, – зову ее, – прекрасное виденье. Ты куда спряталось?
– Мне идет?
Повернулся – и вот тут-то точно за борт «студера» уцепился. Чтобы не упасть.
И даже не в том дело, что она в форму переоделась – а просто взяла и гриву свою рыжую на одну сторону зачесала. А я смотрю и только глазами хлопаю. А она улыбается.
И видно мне теперь, что ростом она не ниже и не выше, а как раз с меня, только стройная очень. И лет ей… черт, да она же совсем девчонка еще, хорошо, если семнадцать есть, а скорее всего шестнадцать. Но красивая – слов нет. Смотрит на меня, сапожками хромовыми переступает.
– Ну как? – спрашивает. – Хорошо?
– Просто замечательно, – отвечаю. – Любая танковая колонна остановится поглядеть на такое. И даже флажка не надо – одних волос хватит.