Избранное Ремизов Алексей
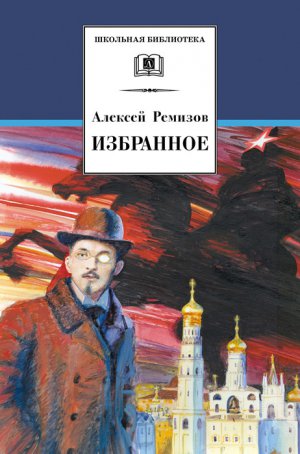
Побежали гуси с поля. А волк тут как тут. Перенял все стадо, потащил гусей под горку. Ему, серому, только того и надо.
– Готовьтесь, – объявил волк гусям, – я сейчас вас есть буду.
Взмолились гуси:
– Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной!
– Ничего не могу поделать, я – волк серый.
Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется.
Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками.
А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в поле. Полетела по полю, покликала, видит – перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке.
Стала она думать, как ей своих найти, – у волка были там и другие гуси, – думала, думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее, – матернин, а который закукурекает, не ее, – волков.
Так всех своих и нашла.
Ужи обрадовались гуси, содом подняли.
Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело.
Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на горку, разложили под рай-деревом да такую баню задали, не приведи Бог.
– Вы мне хвост-то не оторвите! – унимал гусей волк, отбрыкивался.
Пощипали-таки его изрядно, уморились да опять на озеро: пора и спать ложиться.
Поднялся волк, несолоно хлебавши, пошел в лес.
Возныла темная туча, покрыла небо.
А во тьме белые томновали по лугу девки-пусто-волоски да бабы-самокрутки, поливали о д о лень-траву.
Вылезли на берег водяники, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.
Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал о Иване-царевиче.
На озере гуси во сне гоготали.
Лето красное
Черный петух
От недели до недели подоспело лето.
Последняя отлётная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила прямым снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное жито раскинулись и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и потонули в жужжанье и сыти дожатвенной жажды.
С цветка на цветок, с травки на травку день до вечера перелетает пчелка, несет праздники.
И не упасть первой росе, а уж щелкает, звонко хлопает в воздухе кнут, звякают коровьи колокольчики – гонят стада.
А за стадом высоко, как дым, подымается пыль вдоль по улице.
И они чахлые и заморенные – Коровья смерть да Веснянка-Подосенница с сорока сестрами пробегают по селу, старухой в белом саване, кличут на голос.
Много они натворили бед – съешь их волк! – то под тыном прикинется – Подтынница, то на дворе пристягнет – Навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряху – Веретенница, то выскочит с болотной кочки – Болотница: им бы портить скотину, вынимать румянец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясьмя трясти тело.
И не гулянье от них ребятишкам: не век же голопузым носить на себе змеиного выползка.
Но и нечисть знает черед.
Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку Пахому, – Пахома изба на краю села: там ей попить, там ей поесть.
В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места как шальной, кричит по селу. Кричит петух целые ночи, несет змеиные спорыши, напевает, проклятый, на голову от недели до четверга. Сам Пахом-ведьмак о эту пору в печурке возится, стряпает из ребячьего сала свечу, – той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на всякую Божию тварь. Джурка, Пахомова дочка, не смыкая глаз, летает перепелкой, собирает золотой гриб.
Так от недели до четверга.
В четверг в полночь на пятницу подымается на ноги все село.
С шумом врываются в Пахомов курник, чадят зажженными метлами, ловят черного петуха.
Изловили черного петуха и с петухом идут на другой край села.
Алена верхом на рябиновой палке с мутовкой на плече, нагая, впереди с горящим угольком, за Аленой двенадцать девок с распущенными волосами в белых рубахах с серпами и кочергами в руках, и другие двенадцать с распущенными волосами в черных юбках держат черного петуха.
А за ними ватагой и стар и мал.
Шумя и качаясь, вышли девки за село, запалили угольком сложенный в кучу назем, трижды обнесли петуха вокруг кучи.
Тут выхватила Алена от девок петуха и, высоко держа над головой черноперого, пустилась с петухом по селу, забегая к каждой избе, мимо всех клетей с края на край.
С пронзительным криком, с гиканьем погнались за ней и белые и черные девки.
– А, ай, ату, сгинь, пропади, черная немочь!
Рвется черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце.
Обежав все село, бросила Алена петуха в тлеющий назем.
Кинули за ним девки хвороста, сухих листьев, – и вспыхнул костер, с треском взвились листья и неслись, жужжа, как красные жучки, – неслись красные перья, завивались в косицы, и красная голова пела зимовые песни.
– Сгинь, сгинь, пропади, черная немочь! – скачут вкруг костра хороводом и черные и белые девки, притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет красная голова, не зашипит уж больше ни одно красное перышко.
Сонной сохой по селу протянулась дорога белая от высокого месяца. На месяце все по-прежнему подымал на вилы Каин Авеля.
Шатаясь, шел по вымершему селу ведьмак Пахом, хватался за верею, дыхал гарным петушьим духом.
У Аленина двора со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередь живота, сел на него, подкатил, как месяц, к окну, глазом надел на Алену хомут, шептал в ее след:
– Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка и брюшенько красным опухом окинулись и с зудом.
Притрепался ведьмак, поманул зарю, иссяк, как дым, – волю снимать, неволю накладывать.
Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинав, обернулась в галочку, полетела за речку росицу пить.
Занялась заря.
Богомолье
Петька, мальчонка дотошный, шаландать куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье.
То-то дорога была. Для Петьки вольготно: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит.
И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, – пострел, того и гляди, шею свернет либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряханула на старости лет старыми костями. Умора давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.
– Нет, – говорит, – сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!
«Вот тебе и богомолье, – полпути еще не пройдено, Господи!»
А Петька поморочил, поморочил бабушку, да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники – все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.
Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька Господи помилуй пел.
Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.
Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к бабушке, а бабушка говорит:
– Нельзя: грех!
Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну, помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались.
Петька, как колокольчик, заливается, гудит, – колокол представляет. Да что – ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах оттащил, а то долго ли до греха.
Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один, странник, житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать.
А как свалила жара, снова в путь тронулись.
Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться – в монастырь уйти.
«В монастыре хорошо, – мечтал Петька, – ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».
Бабушка охала, творила молитву.
1905 г.
Осень темная
Бабье лето
Унес жаворонок теплое время.
У студились озера.
Цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарей.
Сорвана бурей верхушка елки. Завитая с корня, опустила верба вялые листья. Высохла белая береза против солнца, сухая, небелая, пожелтела.
Дует ветер, надувает непогоду.
Дождь на дворе, в поле – туман.
Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыстнуты плеткой.
Скоро минует гулянье.
Стукнул последний красный денек.
Богатая осень.
Встало из-за леса солнце – не нажить такого на свете – приобсушило лужи, сгладило скучную расторопицу.
По полесью мимо избы бежит дорожка, – мхи, шурша сырым серебром среди золота, кажут дорожку.
Лес в пожаре горит и горит.
В белом на белом коне в венке из зеленой озими едет по полю Егорий и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг.
Изунизана жемчугом озимь.
И дальше по лесу вмиг загорается красный – солнце во лбу, огненный конь, – раздает Егорий зверям наказы.
Лес в пожаре горит и горит.
И птицы не знают, не домекнуться певуньям – лететь им за море или вить новые гнезда, и водные – лебеди – падают грудью о воду, плывут:
– Вылынь, выплывь, весна! – вьют волну и плывут.
Богатая осень.
Летит паутина.
Катит пенье косолапый медведь, воротит колоды – строит мохнатый на зимовье берлогу: морозами всласть пососет он до самого горлышка медовую лапу.
Собирается зайчик линять и трясется, как листик, – боится лисицы.
Померкло.
Занывает полное сердце:
«Пойти постоять за ворота!»
Тихая речка тихо гонит воды.
По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетает в чужую сторонку.
– Счастлива дорожка!
Далеко на селе песня и гомон: свадьбу играют.
Хороша угода, хорош хмель зародился – золотой венец.
Богатая осень.
Шум, гам, – наступают грудью один на другого, топают, машут руками, вон сама по себе отчаянно вертится сорвиголова молодуха – разгарчиво лицо, кровь с молоком, вон дед под хмельком с печи сорвался…
Кипит разгонщица каша.
Валит дым столбом.
Шум, гам, песня.
А где-то за темною топью конь колотит копытом.
Скрипят ворота, грекают дверью – запирает Егорий вплоть до весны небесные ворота.
Там катается по сеням последнее времячко, последний часок, там не свое житье-бытье испроведовают, там плачут по русой косе, там воля, такой не дадут, там не можно думы раздумать…
«Ей, глаза, почему же вы, ясные, тихие, ненаглядные, не источаете огненных слез?»
Мать по-темному не поступит, вернет теплое время…
Сотлело сердце чернее земли.
– Вернитесь!
И звезды вбиваются в небо, как гвозди, падают звезды.
Змей
Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж закатится непоседа, день-деньской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать, – свернется сурком, только посапывает.
Помогал Петька бабушке капусту рубить.
– Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, – твердит таратора да рубить, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.
А кочерыжки, как ни любил лакома, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и невдомек: знай похваливает, думает себе, – корове носит.
Какой там корове! Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку, туфли без пяток, саван, рукописание да венчик, – собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки-пещерника благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.
«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно…»
Случилось на Воздвиженье, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то, открыла бабушка крышку, да так тут же на месте от страха и села.
А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропилась святою водой, да силен, верно, окаянный – змей треклятый.
Стали они, нечистые, эти Петькины кочерыжки, представляться бабушке в сонном видении: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни м о н а ш к о й, ни скипидаром.
А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются, и нет-нет да и подложит.
«Пускай себе ест, корове и сена по горло».
Думал пострел, съедает их бабушка тайком на сон грядущий.
Бабушка на нечистого все валила.
И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.
Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка:
«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха – все от крыла, а почему змей летает?»
И отбился от рук мальчонка, ходит, как тень, не ест, не пьет ничего.
Уж бабушка и то и другое, – ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!
«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» – решает наконец Петька и, не долго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками.
Варила бабушка к празднику калиновое тесто – удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва, да и только. Вот Петька этим самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке.
– Я, – говорит, – бабушка, змей, на тебе, бери клубок, да пойдем подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит.
А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует: наущение тут бесовское, да так, как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, – взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.
Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, – и запекаются от страха губы, отшибает всю память.
Влез Петька на бузину.
– Разматывай! – кричит бабушке, а сам как сиганет и – полетел, только хвост зачиклечился.
Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.
– Пала я тогда замертво, – рассказывала после бабушка, – и потоптал меня Змий лютый о семи голов ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно тестом, липким чем-то, а вкус – мед липовый.
На Покров бабушка приобщалась Святых Тайн и Петьку с собой в церковь водила: прихрамывал мальчонка, коленку летавши отшиб, – хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул.
«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу, либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь…» – Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.
Бабушка плакала, отгоняла искушения.
1906 г.
Зима лютая
Корочун
Дунуло много, – буйны ветры.
Все цветы привозблекли, свернулись.
Вдарило много, – люты морозы.
Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб, как белый цветок.
Катят и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет: ни входу, ни выходу.
И ветер Ветреник, вставая вихорем, играет по полю, врывается клубами в теплую избу: не отворяй дверь на мороз!
Царствует дед Корочун.
В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой большой бородой, Корочун ударяет дубиною в пень, – и звенят злющие зюзи, скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается.
Царствует дед Корочун.
Коротит дни Корочун, дней не видать, только вечер и ночь.
Звонкие крепкие ночи.
Звездные ночи, яркие, все видно в поле.
Щелкают зубом голодные волки. Ходит по лесу злой Корочун и ревет, – не попадайся!
А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери без попяту, без завороту.
Непокорного – палкой, так что секнет надвое кожа.
На изменника – семихвостая плетка, семь подхвостников: раз хлестнет – семь рубцов, другой хлестнет – четырнадцать.
И сыплет, и сыплет снег.
Люты морозы, – глубоки снеги.
С вечера петухи кричат, с полудня метелица, к белому свету люты морозы.
Люты морозы, – глубоки снеги.
Не скоро Свету – солнцу родиться, далек солноворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок.
А дни все темней и короче.
На голодную кутью ты не забудь бросить Деду первую ложку, – Корочун кутью любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медведем, – Корочун медведя не съест.
И разворчался, топает, месяц катает по небу, стучит неугомонный, – Корочун неугомонный.
Старый кот Котофей Котофеич, сладко курлыкая, коротает Корочуново долгое время, – рассказывает сказки.
Медведюшка
Среди ночи проснулась Аленушка.
В детской душно. Нянька Власьевна храпит и задыхается. Красная лампадка нагорела: красное пламя то вспыхнет, то погаснет.
И никак не может заснуть Аленушка: страшно ей и жарко ей.
«Папа поздно пришел, – вспоминается Аленушке, – я собиралась спать, папа и говорит: „Смотри, Аленушка, на небо, звезды упадут!“ И мы с мамой долго стояли, в окно глядели. Звезды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холодно у окна, долго нельзя стоять. Когда идешь с папой к ранней обедне, тоже холодно: колокол звонит, как к покойнику. Власьевна вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой во сне ее ловит… А звезд много на небе, звезды разговаривают, только не слыхать. Дядя Федор Иваныч говорит, будто летает он к звездам и ночью слушает, как звезды поют тонко-тонко. Днем их нет, днем они спят. Тоже и я полечу, только бы достать золотые крылья… А папа подошел и говорит: „Аленушка, звезда падает!“ И золотая ленточка долго горела на небе и потом пропала. Холодно звездочке, где-нибудь лежит она, плачет, – моя звездочка!»
Аленушке так страшно и так жалко звездочки, заныла Аленушка:
– Попить, няня, по-пить!
И когда Власьевна-нянька подает Аленушке кружку, Аленушка жадно пьет, вытягивая губки.
Теперь Аленушка свернулась калачиком и заснула.
И кажется ей, летит она куда-то к звездам, как летает дядя Федор Иваныч, попадаются ей навстречу звездочки, протягивают свои золотые лапки, сажают ее к себе на плечи и кружатся с ней, а месяц гладит ее по головке и тихо шепчет на самое ушко: «Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Аленушка!»
Аленушка щурит глазыньки, а все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя Федор Иваныч.
– Что тебя не добудишься, вставай скорее! – Это мама, мама наклонилась над кроваткой, щекочет Аленушку.
Аленушкина звездочка долго летала и упала наконец в лес, в самую чащу, где старые ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят.
Проснулся густой сизый дым, пополз по небу, и кончилась зимняя ночь.
Вышло и солнце из своего хрустального терема нарядное, в красной шубке, в парчовой шапочке.
Прозрачная, с синими грустными глазками, лежит Аленушкина звездочка неподалеку от заячьей норки на мягких иглах: вдыхает мороз.
А солнышко походило-походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем.
Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться.
Дребезжащим голосом затянул ветер-ворчун свою старую зимнюю песню.
Глухая метель прискакала, глухая кричит.
Снег заплясал.






