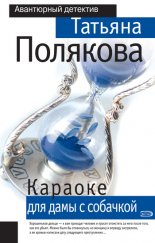Графиня де Монсоро Дюма Александр
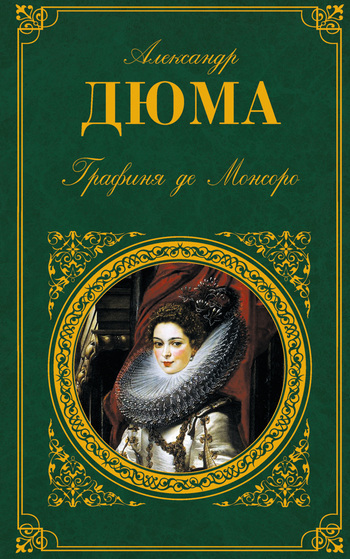
– Для чего это?
– Уважение…
– Ну, какие пустяки.
– Государь, через пять минут я буду у вашего величества.
– Через пять минут, согласен. Но не более пяти минут, ты слышишь, а за эти пять минут припомни для меня какие-нибудь забавные истории, и мы постараемся посмеяться.
С этими словами король, получивший половину того, что он хотел получить, вышел, удовлетворенный тоже наполовину.
Дверь еще не успела закрыться за ним, как паж внезапно встрепенулся и одним прыжком очутился у портьеры.
– Ах, Сен-Люк, – сказал он, когда шум королевских шагов затих, – вы меня снова покидаете. Боже мой! Какое мучение! Я умираю от страха. А что, если меня обнаружат?
– Милая моя Жанна, – ответил Сен-Люк, – Гаспар, который перед вами, защитит вас от любой нескромности. – И он показал ей на старого слугу.
– Может быть, мне лучше уйти отсюда? – краснея, предложила молодая женщина.
– Если таково ваше непременное желание, Жанна, – печально проговорил Сен-Люк, – я прикажу проводить вас во дворец Монморанси, ибо только мне одному воспрещается покидать Лувр. Но если вы будете столь же добры, сколь вы прекрасны, если вы отыщете в своем сердце хоть какие-то чувства к несчастному Сен-Люку, пусть хотя бы простое расположение, вы подождете здесь несколько минут. У меня невыносимо разболятся голова, нервы, внутренности, королю надоест видеть перед собой такую жалкую фигуру, и он отошлет меня в постель.
Жанна опустила глаза.
– Ну хорошо, – сказала она, – я подожду, но скажу вам, как король: не задерживайтесь.
– Жанна, моя ненаглядная Жанна, вы восхитительны. Положитесь на меня, я вернусь к вам, как только предоставится малейшая возможность. И, знаете, мне пришла в голову одна мысль, я ее хорошенько обдумаю и, когда вернусь, расскажу вам.
– О том, как выбраться отсюда?
– Надеюсь.
– Тогда идите.
– Гаспар, – сказал Сен-Люк, – не пускайте сюда никого. Через четверть часа заприте дверь на ключ и ключ принесите мне в опочивальню короля. Потом отправляйтесь во дворец Монморанси и скажите, чтобы там не беспокоились о госпоже графине, а сюда возвращайтесь только завтра утром.
Эти распоряжения, которые Гаспар выслушал с понимающей улыбкой, пообещав выполнить все в точности, вызвали на щеках Жанны новую волну яркого румянца.
Сен-Люк взял руку своей жены и запечатлел на ней нежный поцелуй, затем решительными шагами направился в комнату Генриха, который начинал уже выказывать беспокойство.
Оставшись одна, Жанна, вся дрожа от нервного напряжения, укрылась за пышными складками балдахина кровати, притаившись в уголке постели. Мечтая, волнуясь, сердясь, новобрачная машинально вертела в руках сарбакан[15] и тщетно пыталась найти выход из нелепого положения, в которое она попала.
При входе в королевскую опочивальню Сен-Люка оглушил терпкий, сладострастный аромат, пропитавший все помещение. Ноги Генриха утопали в ворохах цветов, которым срезали стебли из боязни, как бы они – не приведи бог! – не побеспокоили нежную кожу его величества: розы, жасмин, фиалки, левкои, несмотря на холодное время года, покрывали пол, образуя мягкий, благоухающий ковер.
В комнате с низким, красиво расписанным потолком, как мы уже говорили, стояли две кровати, одна из них – особенно широкая, хотя и была плотно придвинута изголовьем к стене, занимала собой чуть ли не третью часть помещения.
На шелковом покрывале этой кровати красовались шитые золотом мифологические персонажи, они изображали историю Кенея,[16] или Кениды, превращавшегося то в мужчину, то в женщину, и, как можно себе представить, для изображения этой метаморфозы художнику приходилось до предела напрягать свою фантазию. Балдахин из посеребренного полотна оживляли различные фигуры, вышитые шелком и золотом; ту его часть, которая, примыкая к стене, образовывала изголовье постели, украшали королевские гербы, вышитые разноцветными шелками и золотой канителью.
Окна были плотно закрыты занавесями из того же шелка, что и покрывало постели, этой же материей были обиты все кресла и диваны. С потолка, посредине комнаты, на золотой цепи свисал светильник из позолоченного серебра, в котором пылало масло, источавшее тонкий аромат. Справа у постели золотой сатир держал в руке канделябр с четырьмя зажженными свечками из розового воска. Эти ароматические свечи, по толщине не уступавшие церковным, вместе со светильником довольно хорошо освещали комнату.
Король восседал на стуле из черного дерева с золотыми инкрустациями, поставив босые ноги на цветочный ковер. Он держал на коленях семь или восемь маленьких щенят-спаньелей, их влажные мордочки нежно щекотали королевские ладони. Двое слуг почтительно разбирали на пряди и завивали подобранные сзади, как у женщины, волосы короля, его закрученные кверху усы, его редкую клочковатую бородку. Третий слуга осторожно накладывал на лицо его величества слой жирной розовой помады, приятной на вкус и источающей невероятно соблазнительный запах.
Генрих сидел, закрыв глаза, и с величественным и глубокомысленным видом индийского божества позволял производить над своей особой все эти манипуляции.
– Сен-Люк, – бормотал он, – где же Сен-Люк?
Сен-Люк вошел. Шико взял его за руку и подвел к королю.
– Держи, – сказал он Генриху III, – вот он, твой дружок Сен-Люк. Прикажи ему помазаться или, правильнее сказать, вымазаться твоей помадой, ибо, если ты не примешь этой необходимой предосторожности, случится беда: либо тебе, пахнущему так хорошо, будет казаться, что он дурно пахнет, либо ему, который ничем не пахнет, будет казаться, что ты слишком уж благоухаешь. Ну-ка, подайте сюда гребенки и притирания, – добавил Шико, располагаясь в большом кресле напротив короля, – я тоже хочу помазаться.
– Шико! Шико! – воскликнул Генрих. – У вас очень сухая кожа, она потребует изрядного количества помады, а ее и для меня-то едва хватает; ваши волосы так жестки, что мои гребешки поломают о них все зубья.
– Моя кожа высохла в непрестанных битвах за тебя, неблагодарный король! И кудри мои жестки только потому, что ты меня постоянно огорчаешь, и от этого они все время стоят дыбом. Однако если ты отказываешь мне в помаде для щек, то есть для моей внешней оболочки, пусть будет так, сын мой, вот все, что я могу сказать.
Генрих пожал плечами с видом человека, не расположенного развлекаться шуточками столь низкого пошиба.
– Оставьте меня в покое, – сказал он, – вы несете вздор.
Затем повернулся к Сен-Люку:
– Ну как, сын мой, прошла твоя голова?
Сен-Люк поднес руку ко лбу и испустил жалобный вздох.
– Вообрази, – продолжал Генрих, – я видел Бюсси д’Амбуаза. Ай! Сударь, – воскликнул он, обращаясь к куаферу, – вы меня обожгли.
Куафер бросился на колени.
– Вы видели Бюсси д’Амбуаза? – переспросил Сен-Люк, внутренне трепеща.
– Да, – ответил король, – можешь ты понять, как эти растяпы, которые на него впятером набросились, ухитрились упустить его из рук? Я прикажу колесовать их. Ну а если бы ты был с ними, как ты думаешь, Сен-Люк?
– Государь, вероятно, и мне посчастливилось бы не больше, чем моим товарищам.
– Полно! Зачем ты так говоришь? Ставлю тысячу золотых экю, что на каждые шесть попаданий Бюсси у тебя было бы десять. Черт возьми! Надо посмотреть, как это у тебя получается. Ты все еще дерешься на шпагах, малыш?
– Ну конечно, государь.
– Я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в фехтовании.
– Почти ежедневно, когда здоров, но, когда болею, я ни на что не гожусь.
– Сколько раз тебе удавалось задеть меня?
– Мы фехтовали примерно наравне, государь.
– Да, но я фехтую лучше Бюсси. Клянусь смертью Христовой, сударь, – сказал Генрих брадобрею, – вы мне оторвете ус.
Брадобрей упал на колени.
– Государь, – попросил Сен-Люк, – укажите мне лекарство от болей в сердце.
– Ешь побольше, – ответил король.
– О государь, мне кажется, вы ошибаетесь.
– Нет, уверяю тебя.
– Ты прав, Валуа, – вмешался Шико, – я и сам испытываю сильные боли не то в сердце, не то в желудке, не знаю точно где, и потому выполняю твое предписание.
Тут раздались странные звуки, словно часто-часто защелкала зубами обезьяна.
Король обернулся и взглянул на шута.
Шико, в одиночку проглотив обильный ужин, заказанный им на двоих от имени короля, весело лязгая зубами, что-то поглощал из чашки японского фарфора.
– Вот как! – воскликнул Генрих. – Черт возьми, что вы там делаете, господин Шико?
– Я принимаю помаду внутрь, – ответил Шико, – раз уж наружное употребление мне запрещено.
– Ах, предатель! – возмутился король и так резко дернул головой, что намазанный помадой палец камердинера угодил ему прямо в рот.
– Ешь, сын мой, – с важностью проговорил Шико. – Я не такой деспот, как ты; наружное или внутреннее – все равно, оба употребления я тебе разрешаю.
– Сударь, вы меня задушите, – сказал Генрих камердинеру.
Камердинер упал на колени, как это проделали до него куафер и брадобрей.
– Пусть позовут капитана гвардейцев! – закричал Генрих. – Пусть немедленно позовут капитана.
– А зачем он тебе понадобился, твой капитан? – осведомился Шико. Он обмакнул палец в содержимое фарфоровой чашки и хладнокровно обсасывал его.
– Пусть он нанижет Шико на шпагу и приготовит из его тела, каким бы оно ни было костлявым, жаркое для моих псов.
Шико вскочил на ноги и нахлобучил шляпу задом наперед.
– Клянусь смертью Христовой! – завопил он. – Бросить Шико собакам, скормить дворянина четвероногим скотам! Добро, сын мой, пусть он только появится, твой капитан, и мы увидим.
С этими словами шут выхватил из ножен свою длинную шпагу и так потешно принялся размахивать ею перед куафером, брадобреем и камердинером, что король не мог удержаться от смеха.
– Но я голоден, – жалобно сказал он, – а этот плут один съел весь ужин.
– Ты привередник, Генрих, – ответил Шико. – Я приглашал тебя за стол, но ты не пожелал. На худой конец, тебе остался бульон. Что до меня, то я уже утолил свой голод и иду спать.
Пока шла эта словесная перепалка, появился старик Гаспар и вручил своему господину ключ от комнаты.
– И я тоже иду, – сказал Сен-Люк. – Я чувствую, что больше не могу держаться на ногах, еще немного – и я нарушу всякий этикет и в присутствии короля свалюсь в нервном припадке. Меня всего трясет.
– Держи, Сен-Люк, – сказал король, протягивая молодому человеку двух своих щенков, – возьми их с собой, непременно возьми.
– А что прикажете с ними делать?
– Положи их с собой в постель, болезнь оставит тебя и перейдет на них.
– Благодарствую, государь, – сказал Сен-Люк, водворяя щенков обратно в корзину. – Я не доверяю вашим предписаниям.
– Ночью я навещу тебя, Сен-Люк, – пообещал король.
– О, ради бога, не утруждайте себя, государь, – взмолился Сен-Люк. – Вы можете меня разбудить внезапно, и говорят, от этого случается эпилепсия.
С этими словами Сен-Люк отвесил королю поклон в вышел из комнаты. Пока дверь не закрылась, король в знак дружеского расположения усердно махал вслед ему рукой.
Шико исчез еще раньше.
Двое или трое придворных, присутствовавших при вечернем туалете короля, в свою очередь покинули опочивальню.
Возле короля остались только слуги. Они наложили на его лицо маску из тончайшего полотна, пропитанную благовонными маслами. В маске были прорезаны отверстия для носа, глаз и рта. На лоб и уши короля почтительно натянули шелковый колпак, украшенный серебряным шитьем.
Затем короля облекли в ночную кофту из розового атласа, стеганного на вате и подбитого шелком, на руки натянули перчатки из кожи, такой мягкой, что на ощупь ее можно было принять за шерсть. Перчатки доходили до локтей, изнутри они были покрыты слоем ароматного масла, придававшего им особую эластичность, секрет которой нельзя было разгадать, не вывернув перчатки наизнанку.
Когда таинство королевского туалета было завершено, Генриху вручили золотую чашу с крепким бульоном, но, прежде чем поднести этот сосуд ко рту, он отлил половину бульона в другую чашу, точную копию той, что держал в руках, и приказал отнести ее Сен-Люку и пожелать ему доброй ночи.
Затем настала очередь бога, с которым в тот вечер Генрих, несомненно в силу своей чрезмерной занятости, обошелся довольно небрежно. Он ограничился тем, что наскоро пробормотал одну-единственную молитву и даже не прикоснулся к освященным четкам. Затем он велел раскрыть постель, окропленную кориандром, ладаном и корицей, и улегся.
Умостившись на многочисленных подушках, Генрих приказал убрать цветочный настил, от которого в комнате стало душно. Чтобы проветрить помещение, на несколько секунд распахнули окна. Затем в мраморном камине запылали сухие виноградные лозы, пышный и яркий огонь мгновенно вспыхнул и тут же угас, но по всей опочивальне разлилось приятное тепло.
Тогда слуги задернули все занавески и портьеры и впустили в комнату огромного пса, королевского любимца, которого звали Нарцисс. Одним прыжком Нарцисс вскочил на королевское ложе, потоптался на нем, повертелся и улегся поперек постели в ногах у своего хозяина.
Последний слуга, оставшийся в комнате, задул свечи из розового воска в руках золотого сатира, притушив свет ночника, сменив фитиль на более узкий, и, в свою очередь, на цыпочках вышел из опочивальни.
И вот уже король Франции, став спокойнее, беспечнее, беспамятнее праздных монахов своего королевства, засевших в тучных монастырях, забыл о том, что на свете есть Франция.
Он уснул.
Полчаса спустя бодрствовавшие в галереях часовые, которым с их постов были видны занавешенные окна королевской опочивальни, заметили, что светильник в ней погас и серебристое сияние луны заменило на стеклах окрашивавший их изнутри нежный розоватый свет. Часовые подумали, что его величество крепко спит.
И тогда умолкли все шумы внутри и снаружи Лувра, и в его сумрачных коридорах можно было услышать полет даже самой осторожной летучей мыши.
Глава VII
О том, как король Генрих III на следующий день оказался обращенным, хотя причины обращения остались неизвестны
Два часа прошли спокойно.
Вдруг тишину разорвал леденящий душу вопль. Он исходил из опочивальни его величества. Однако ночник там по-прежнему был потушен, во дворце стояла все та же глубокая тишина и не раздавалось ни одного звука, кроме этого страшного крика короля.
Ибо кричал король.
А потом послышался стук падающей мебели, звон фарфора, разлетающегося на мелкие осколки, и торопливые, тревожные шаги человека, который, обезумев, мечется из угла в угол, и новый вопль, сопровождаемый собачьим лаем. Тогда повсюду вспыхнули огни, в галереях заблестели шпаги, и мраморные колонны задрожали от тяжелой поступи заспанной стражи.
– К оружию! – гремело со всех сторон. – К оружию! Король зовет! На помощь королю! Скорей!
И в одно мгновение капитан гвардейцев, полковник швейцарцев, придворные, дежурные аркебузиры ворвались в королевскую опочивальню, и два десятка факелов разом осветили темную комнату.
Кресло опрокинуто, на полу осколки фарфора, постель смята, простыни и одеяла разбросаны по всему полу, а возле кровати – Генрих, нелепый и жуткий в своем ночном одеянии, волосы – дыбом, выпученные глаза вперились в одну точку.
Правая рука короля протянута вперед и трепещет, как лист на ветру.
Левая рука судорожно вцепилась в рукоятку бессознательно схваченной шпаги.
Пес, взбудораженный не меньше своего хозяина, смотрит на короля, широко расставив лапы, и жалобно завывает.
Казалось, Генрих окаменел от ужаса; люди, вбежавшие в опочивальню, не смели нарушить это оцепенение и только переглядывались и ждали, охваченные страшной тревогой.
И тут в комнату влетела полуодетая, закутанная в широкий плащ юная королева Луиза Лотарингская; отчаянные вопли супруга разбудили это белокурое и нежное создание, которое вело на грешной земле беспорочную жизнь святой.
– Государь, – обратилась она к королю, вся трясясь от страха, – что случилось? Боже мой! До меня донеслись ваши крики, и вот я прибежала.
– Ни… ни… ничего… – пробормотал король, все еще уставившись в одну точку; казалось, он различает в воздухе какой-то призрак, видимый только ему одному.
– Но ваше величество кричали, – настаивала королева. – Значит, ваше величество страдает.
Ужас был так отчетливо выражен на лице короля, что постепенно сообщился всем собравшимся в опочивальне. Одни отступили к стене, другие придвинулись к королю и пожирали его глазами, пытаясь удостовериться, не ранен ли он, не поразила ли его молния, не укусил ли какой-нибудь ядовитый гад.
– О государь! – воскликнула королева. – Небом вас заклинаю, не держите нас в таком страхе. Может быть, позвать вам лекаря?
– Лекаря? – мрачно переспросил Генрих. – Нет, тело мое здорово, это душа, это дух мой страждет… Нет, не лекаря… исповедника.
Придворные переглянулись, обшарили глазами двери, занавески, паркет, потолок…
Но нигде не осталось ни малейшего следа от невидимого призрака, который так напугал короля.
После того как тщетность поисков стала очевидной, любопытство удвоилось: мрак тайны сгустился – король потребовал исповедника.
Тотчас же гонец вскочил на коня, и тысячи искр рассыпались по мощеному двору Лувра. За каких-нибудь пять минут Жозефа Фулона, аббата монастыря Святой Женевьевы, разбудили, вытащили из постели и доставили к королю.
С появлением духовника сумятица улеглась и восстановилась тишина. Все задавали друг другу вопросы, строили догадки, находили объяснения, но главным образом дрожали от страха… Король исповедуется!
Наутро после ночного переполоха король поднялся первым и распорядился запереть все входы и выходы и никого не впускать во дворец, кроме его духовника.
Затем он приказал позвать к нему казначея, продавца воска, церемониймейстера, взял свой молитвенник в черном переплете и принялся читать молитвы, потом прервал чтение, занялся было вырезыванием фигурок святых, но вдруг и это занятие бросил и приказал созвать всех миньонов.
Выполнять этот приказ начали с Сен-Люка, но Сен-Люк мучился сильнее, чем когда-либо. Он изнывал, он был раздавлен смертельной усталостью. Болезнь довела его до полного изнеможения, вызвала сонливость; прошлой ночью он впал в глубокий сон, похожий на летаргию, и единственный во всем дворце ничего не слыхал, хотя от королевской опочивальни его отделяла только тонкая стенка. Поэтому он испросил дозволения остаться в постели, пообещав прочитать столько молитв, сколько будет угодно королю.
Когда Генриху рассказали, какие муки испытывает несчастный Сен-Люк, он перекрестился и приказал послать к бедному страдальцу королевского аптекаря.
Затем король распорядился доставить в Лувр из монастыря Святой Женевьевы все дисциплины, служащие для бичевания. Одетый во все черное, он прошел перед строем своих миньонов – перед хромающим Шомбергом, перед д’Эперноном с рукой на перевязи, перед Келюсом, который все еще не пришел в себя, перед дрожащими от страха д’О и Можироном, прошел, раздавая им плети и наставляя своих любимчиков безжалостно бичевать самих себя и друг друга.
Д’Эпернон попросил освободить его от бичевания, ссылаясь на раненую руку, которая не позволит ему достойно отвечать на полученные удары, что, несомненно, внесет разлад в общую гармонию.
Но Генрих ответил, что такое покаяние будет еще угоднее богу.
Он пожелал сам подать пример благочестивого рвения. Снял камзол, колет, рубашку и принялся хлестать себя по плечам с усердием святого великомученика. Шико хотел было, по своей обычной привычке, посмеяться и отделаться шуточками, но, перехватив свирепый взгляд короля, уразумел, что время не для шуток. Тогда он, как и все остальные, взял дисциплину и принялся за дело с той лишь разницей, что бичевал не себя, а своих соседей, а если поблизости не оказывалось ничьей спины, то сбивал отшелушившуюся краску с колонн и со стен.
В этой суматохе лицо короля понемногу приняло более спокойное выражение, однако на нем все еще отражалась какая-то гнетущая тайная дума.
Неожиданно Генрих бросился вон из опочивальни, приказав миньонам не прекращать бичевания в его отсутствие. Но стоило двери за ним захлопнуться, и все дисциплины опустились, как по мановению волшебной палочки. Только Шико продолжал хлестать д’О, которого он недолюбливал. Д’О старательно отвечал шуту той же монетой. Это был настоящий поединок на плетках.
Генрих устремился в покои королевы. Он преподнес в дар своей супруге жемчужное ожерелье стоимостью в двадцать пять тысяч экю, обаял ее и расцеловал в обе щеки – обряд, который ему не случалось проделывать уже более года, – а потом попросил Луизу снять с себя все драгоценности и надеть власяницу.
Луиза Лотарингская, всегда кроткая и покладистая, тотчас же согласилась. Она лишь спросила, почему ее возлюбленный супруг подарил ей жемчужное ожерелье, раз он желает, чтобы она нарядилась в рубище.
– Во искупление моих грехов, – ответил Генрих.
Такой ответ удовлетворил королеву, так как она лучше всех остальных знала, какое великое множество грехов должен искупить ее муж. Луиза выполнила желание Генриха, и он покинул покои королевы, назначив ей встречу в своей опочивальне.
При появлении короля бичевание возобновилось. Д’О и Шико, не прекращавшие обмениваться ударами, были покрыты кровью. Король похвалил их за усердие и назвал своими единственными настоящими друзьями.
Спустя десять минут вошла королева, одетая во власяницу. Тут же всему двору были розданы свечи, и придворные щеголи и щеголихи, а также добрые парижане, благоговейно преданные своему королю и святой деве, невзирая на непогоду, направились на Монмартр, ступая босыми ногами по льду и снегу. Поначалу все они дружно дрожали от холода, но вскоре многих согрели яростные удары, которые Шико щедро раздавал тем, кто имел несчастье оказаться в пределах досягаемости его плетки.
Д’О признал себя побежденным и держался на расстоянии доброй полусотни шагов от Шико.
К четырем часам дня мрачное шествие закончилось, монастыри получили богатые пожертвования, у всего двора распухли ноги, со спин куртизанов была содрана кожа, королева появилась на всеобщее обозрение в одной рубашке из небеленого холста, король – с четками в виде черепов. И слез, и воплей, и молитв, и ладана, и песнопений – всего было вдоволь.
Как видите, денек выдался просто на славу.
Действительно, чтобы угодить королю, все покорно терпели холод и удары плетей, и никто не мог угадать, почему их повелитель, еще позавчера весело носившийся в танце, нынче с таким самозабвением предался унылому делу покаяния и умерщвления плоти.
Гугеноты, лигисты и вольнодумцы, смеясь, глазели, как движется покаянное шествие, и, будучи по природе своей гнусными злопыхателями, осмеливались отпускать ядовитые замечания – дескать, прошлый раз процессия была куда внушительней, да и к бичеванию кающиеся относились с большей ответственностью, – хотя эти утверждения совершенно не соответствовали истине.
Генрих вернулся в Лувр голодный, с плечами, исполосованными синими и багровыми рубцами. Во время шествия он ни на шаг не отходил от королевы и, пользуясь каждой передышкой, каждой остановкой процессии возле какой-нибудь часовни, сулил ей новые и новые подарки или строил планы совместного паломничества к святыням.
Что касается Шико, то, устав размахивать плеткой и проголодавшись от этого непривычного физического упражнения, на которое его подвигнул король, он после Монмартрских ворот незаметно отделился от процессии и вместе со своим дружком, братом Горанфло, тем самым монахом из монастыря Святой Женевьевы, который собирался исповедовать Бюсси, завернул в садик одной харчевни, пользовавшейся отменной репутацией. Там приятели распили изрядное количество бутылок пряного вина и полакомились чирком, убитым в болотах Гранж-Бательер. Затем, когда процессия возвращалась обратно, Шико снова занял свое место в рядах кающихся и вернулся в Лувр, с превеликим усердием бичуя без разбора всех, кто попадется под руку, – и кавалеров и дам; на его языке это называлось: «Раздавать полное отпущение грехов».
Когда стемнело, король почувствовал себя усталым от поста, от ходьбы босыми ногами по снегу, от неистовых ударов плети. Он приказал сервировать постный ужин, положить на плечи припарки, развести в камине большой огонь и отправился навестить Сен-Люка. Сен-Люк выглядел совсем здоровым и веселым.
Со вчерашнего дня король сильно переменился. Теперь он думал только о бренности всего земного, о покаянии и смерти.
– Ах! – вздохнул он с выражением человека, глубоко разочарованного. – Господь прав, делая наше существование столь горьким и тягостным.
– Но почему, государь? – спросил Сен-Люк.
– Потому что человек, устав от тягот мира сего, не страшится смерти, а, напротив, жаждет ее прихода.
– Прошу прощения, государь, – возразил Сен-Люк, – говорите только за себя самого, я вовсе не жажду смерти. Отнюдь.
– Слушай, Сен-Люк, – произнес король, сокрушенно покачивая головой, – ты поступишь правильно, ежели последуешь моему совету, более того, моему примеру.
– С превеликим удовольствием, государь, коли ваш пример мне понравится.
– Хочешь, я оставлю корону, а ты – жену, и мы вместе затворимся в какой-нибудь обители? У меня есть разрешение нашего святейшего отца. Завтра мы уже примем постриг, я буду зваться брат Генрих…
– Простите, государь, простите, но вы не дорожите своей короной, она вам уже изрядно поднадоела, иное дело моя жена – она мне очень дорога, ведь я ее совсем еще не знаю. Поэтому я не могу принять ваше предложение.
– Ох, ох, – завздыхал Генрих, – по-видимому, ты не так уж болен, как это кажется.
– Правда ваша, государь, мне весьма полегчало. Дух мой спокоен, а сердце исполнено радости. И я испытываю безумную тягу к счастью и к наслаждениям.
– Бедный Сен-Люк! – вздохнул король, складывая ладони, как на молитву.
– Это вчера, государь, нужно было ко мне обращаться с вашими предложениями, вчера. О, вчера я был капризным и угрюмым страдальцем. Из-за пустяка мог бы утопиться в колодце. Но нынче вечером все по-другому, я прекрасно провел ночь и отлично – день. Клянусь смертью Христовой! Да здравствует жизнь со всеми ее утехами!
– Ты всуе поминаешь Христа, богохульник!
– Разве я поклялся Христом, государь? Возможно. Но ведь было время – и вы им клялись, если только память мне не изменяет.
– Я клялся, Сен-Люк, но отныне я не клянусь.
– Ну, про себя я так не скажу. Я буду поминать спасителя по возможности меньше, только это я и могу вам пообещать. К тому же господь бог добр и милостив к нам, грешникам, когда грехи наши происходят от человеческих слабостей.
– Ты думаешь, бог дарует мне прощение?
– О, за вас, государь, я не поручусь, я говорю только за себя, за вашего смиренного слугу. Чума меня возьми! Вы, вы греховодничали по-королевски, ну а я грешил, как жалкий любитель, как частное лицо. Надеюсь, в Судный день у господа в руках будут разные весы и разные гири на них.
Король глубоко вздохнул и забормотал «Confiteor»,[17] ударяя себя в грудь при словах «mea culpa».[18]
– Сен-Люк, – спросил он, – скажи наконец, не хочешь ли ты провести ночь в моей опочивальне?
– Это зависит от того, – ответил Сен-Люк, – чем мы будем заниматься в опочивальне вашего величества.
– Мы зажжем все свечи, я лягу, а ты почитаешь молитвы святым.
– Благодарствую, государь.
– Ты отказываешься?
– Такое времяпрепровождение меня не соблазняет.
– Ты меня покидаешь в беде, Сен-Люк, ты меня покидаешь!
– Нет. Я вас не покидаю. Отнюдь!
– Неужели?
– Коли вам так угодно.
– Конечно, мне угодно.
– Но при одном условии sine qua non.[19]
– Каком?
– Пусть ваше величество повелит накрыть столы, созвать придворных, и, ей-богу, мы славно потанцуем.
– Сен-Люк! Сен-Люк! – вскричал король, охваченный ужасом.
– В чем дело? – сказал Сен-Люк. – Я хочу подурачиться сегодня вечером, лично я. А у вас, государь, нет желания выпить и поплясать?
Но Генрих не отвечал. Его дух, порой столь жизнерадостный и бодрый, все больше и больше омрачался; казалось, он борется с какой-то тяготившей его тайной мыслью, так птица, к лапке которой привязан кусок свинца, не может взлететь и тщетно хлопает крыльями.
– Сен-Люк, – наконец произнес король замогильным голосом, – видишь ли ты сны?
– Да, государь, и очень часто.
– Ты веришь в сны?
– Из благоразумия.
– Как так?
– Очень просто. Сны успокаивают, утешают в житейских горестях. К примеру сказать, прошлой ночью мне снился превосходный сон.
– А именно, расскажи…
– Мне снилось, что моя жена…
– Ты все еще думаешь о своей жене, Сен-Люк?
– Более чем когда-либо.
– Ах! – сокрушенно произнес король и возвел глаза к потолку.
– Мне снилось, – продолжал Сен-Люк, – что моя жена, сохранив свое прекрасное лицо, ибо, государь, жена у меня красавица…
– Увы, да, – сказал король. – Ева тоже была красавицей, нечестивый грешник, а Ева погубила нас всех.
– Ах, вот почему вы настроены против моей жены. Но вернемся к моему сну, государь.
– Я тоже, – сказал король, – и я видел сон…
– Итак, моя жена, сохранив свое прекрасное лицо, обрела крылья и тело птицы, и вот она, пренебрегая всеми решетками и запорами, перелетает через стены Лувра и с нежным, коротким криком прижимается головкой к стеклам моего окна, и я понимаю, что этим криком она хочет сказать: «Открой мне, Сен-Люк, раствори окно, мой дорогой муженек!»
– И ты открыл? – спросил король, находившийся на грани полного отчаяния.
– А как же иначе? – воскликнул Сен-Люк. – Я со всех ног бросился открывать.
– Суетный ты человек.
– Суетный, если вам так угодно, государь.