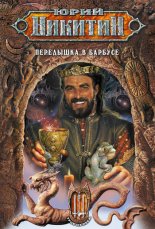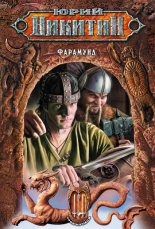Частный визит в Париж Гармаш-Роффе Татьяна
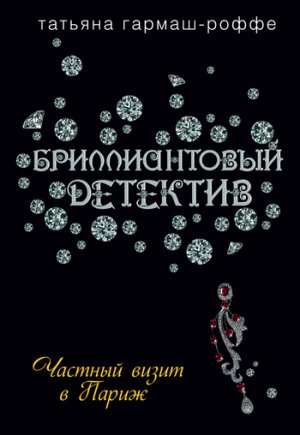
* * *
– …Реми, уже шесть. По делу Арно Дора все собрались. Я их запускаю? – прозвучал голос секретарши в селекторе.
Реми Деллье с трудом оторвал взгляд от окна, служившего ему рамой для портрета Ксюши[1] Московская поездка, так круто перевернувшая его судьбу и его душу, казалась сном. Счастье, что это не сон…
– Пусть заходят, – ответил он селектору. «…Это не сон, это – счастье», – еще успел подумать он, как дверь его кабинета распахнулась.
Они вошли все вместе и остановились у порога.
– Проходите. – Реми встал и протянул руку.
– Пьер Мишле, – ответил на рукопожатие высокий худой мужчина лет сорока восьми в дорогом костюме.
«Зять, значит, – крупный финансист и любитель антиквариата», – подумал Реми.
– Моя жена Соня, – сказал Пьер, и хрупкое, изящное создание с темными выразительными глазами томно протянуло ему узкую ладошку, которую Реми взял осторожно и невесомо. «Манерна, но очаровательна», – определил Реми.
Вслед за ней небрежно подержал его руку забавный круглолицый человечек за пятьдесят в свитере и мятых брюках:
– Вадим Арсен.
«Ага, знаменитый режиссер, – приклеил очередной ярлычок детектив. Он не числил себя в поклонниках его творчества, но и без его поклонения Вадим Арсен имел прочную славу одного из ведущих режиссеров французского кино. – А последний, стало быть, русский. Тоже, кажется, знаменитость». О фильмах русского он ничего сказать не мог: он их просто не видел.
Последний – статный, красивый мужчина с нахальными пушистыми усами и не менее нахальными зеленоватыми глазами – не замедлил энергично и коротко тряхнуть его руку:
– Максим Дорин.
Реми подождал, пока посетители рассаживались вокруг стола. В кресла сели Соня и ее муж: она была печальна, он – серьезен и сосредоточен, с сухим и строгим выражением лица. На софе устроились два режиссера – Реми уже привык к знаменитостям и не чувствовал трепета перед людьми искусства, который охватывал его при его первых делах в этой среде. Обе знаменитости были заняты собственными мыслями; лицо Вадима выражало крайнюю степень озабоченности и удрученности, а русский… Нет, пожалуй, только русский с любопытством разглядывал бюро детектива.
– Надо понимать, что вы его не нашли? – произнес Реми.
– Мы обзвонили, как вы посоветовали, все возможные телефоны, – ответил Пьер. – Господина Арно Дора нигде нет, никто его не видел.
– Я не ошибусь, если скажу, что Арно Дор – мастер розыгрышей?
– Не ошибетесь, – удрученно вздохнул Вадим.
– Бывало такое, что он исчезал на период запоя?
– Папа всегда прячется от меня в таких случаях… – тихо проговорила Соня.
– Ну что ж, рассказывайте. По порядку и подробно. Сегодня у нас понедельник, последний раз его видели, как я понял из нашего телефонного разговора, в субботу? Вы, господин Арсен, снимали сцену вашего нового фильма на натуре, и Арно Дор был занят в этой сцене… Что было до съемок?
– Перед съемками я заехал в аэропорт – встретить Максима…
– С этого и начнем. Прошу вас.
Глава 1
…Казалось бы, что такого? Ну, заехать в аэропорт, ну, встретить русского, и потом – прямиком на съемки… Но необходимость этого заезда раздражала Вадима. Сбивала с творческого настроя, с нужного ритма сбивала. Некстати этот русский, черт бы его побрал, – и нужно было ему прилетать именно в эту субботу, когда Вадиму снимать одну из важнейших сцен фильма!
Шоссе было относительно свободно, электронные табло извещали, что пробок впереди нет. День сиял, омытый трехнедельными дождями, машины мчались, гоняя солнечные блики по скоростной автотрассе. Париж открывался справа в легкой розоватой дымке, увенчанный парящим над городом белым собором Сакре Кёр на Монмартре.
Вадим давно ждал – три дождливые недели ждал! – такого дня для съемок на натуре: с низким осенним солнцем, желтоватым и неярким, как старая жемчужина, и с синеющим леском в дымке раннего тумана… Натуру он нашел великолепную. Недостроенный, брошенный и уже развалившийся дом, бог знает кем и за какой надобностью возведенный у кромки леса. Сегодняшняя сцена должна была задать интонацию всему фильму, его графику, стиль, ритм – все! Это был, если хотите, камертон, ключ ко всему фильму! И теперь – этот русский.
Впрочем, винить некого. Сам вызвался. Когда из Ассоциации кинематографистов хотели послать представителя, заказать отель и обеспечить прочий сервис и почет, причитающийся лауреату Каннского фестиваля (они там уже лапки потирали в предвкушении пары-тройки рекламных мероприятий с участием Максима), они с Арно в один голос завопили: «Сами встретим! Это частная поездка, это родственный визит, общественности на растерзание не отдадим!» А Арно добавил: «Никаких гостиниц, мой племянник будет жить у меня».
«Племянник. Скажите на милость! Пятая вода на киселе, и слова-то не сыщешь, чтобы определить степень их родства. Впрочем, Максим обещал привезти генеалогическое древо. Теперь вроде бы в России можно добраться до архивов, разобраться, что к чему. Тогда и посмотрим, племянник он или кто».
Досадно, что Арно не мог поехать с Вадимом в аэропорт – ему гримироваться, одеваться. Досадно. Арно бы переключил русского на себя – он обладал даром быть центром в любом обществе, общаться непринужденно со всеми и «одомашнивать», по его собственному выражению, самых чужих и чопорных гостей. Теперь вот Вадиму одному… О чем-то болтать, развлекать, спрашивать, как дела. И везти к себе на съемки – вот что хуже всего.
Он вдруг понял, что стал бояться присутствия Максима на съемочной площадке, вот так сразу, с самолета. Хотя в Каннах они расстались близкими друзьями, Вадим приглашал к себе русского на съемки, но с тех пор прошло уже больше года, и теперь Вадим ощущал, что это чужеродное присутствие будет стеснять, будет мешать – мешать в тот день, когда снимается важнейшая сцена!
Чуть было не пропустив поворот на аэропорт Шарль де Голль, Вадим взглянул на часы. Самолет должен как раз сейчас приземлиться…
«Хитришь, с кем хитришь! С собой? – подумал он вдруг. – Ни русский, ни аэропорт тут ни при чем. Просто боишься не сделать фильм. Боишься, что выдохся».
Поставив машину в паркинге аэропорта, Вадим встал у беспрестанно открывающихся и закрывающихся дверей, заглядывая в их мигающий просвет, из которого возникали пассажиры Аэрофлота. Вокруг слышалась мягкая, певучая русская речь, и это было необычно и занятно, будто он оказался за границей. Встречались разлученные родители и дети, супруги и любовники, обнимались, плакали и смеялись – мир людей, живущих не в своей стране, мир виз, таможенных контролей, расставаний, телефонных звонков. Вадим поддался общему чувству волнения и радости, тревоги и ожидания – это будоражило, давало даже прилив сил, как бывает, когда сталкиваешься с теми, кто живет простыми и наиважнейшими ценностями…
«Что же, старею? – вернулся к своим мыслям Вадим. – Комплекс возраста? – Двери открылись, выплюнув очередную порцию усталых и помятых людей в руки счастливых встречающих. – Нет, нечего на себя страху нагонять. Возраст дает понимание. Меняется как бы сама структура знания: вечные истины становятся понятнее и дороже, но в них начинаешь различать столько нюансов, что боишься не вместить все в фильм. – Двери закрылись. – И в то же время боишься вместить слишком, чересчур много, боишься избыточности… – Двери открылись, и ему показалось, что в глубине коридора мелькнула высокая фигура Максима. – Необходима мера, и эту меру я должен найти, почувствовать сегодня. Все будет хорошо. Арно в отличной форме и…» – И он уже улыбался Максиму.
– …Мы едем прямо на съемки, так получилось, снимаем сегодня…
– Погода?
– Погода.
– Дядя у тебя занят сегодня?
– Конечно. Но даю тебе две минуты на родственные поцелуи, и все. Встретишься с ним вечером, наговоришься.
Они поднялись на лифте в паркинг и погрузили нетяжелый чемодан Максима в машину.
– Почему вечером?
– Сразу после своей сцены он должен уехать к дочери, у него «родительский день». А потом он вернется – ради тебя, заметь, обычно он ночевать остается у дочери.
Они выбрались из спирали паркинга и выехали на шоссе.
– После съемок я отвезу тебя к Арно, примешь душ, отдохнешь. Я не буду вам мешать сегодня, вам есть о чем поговорить. Только, Максим, предупреждаю: ему нельзя пить. Ни капли. Ты небось водку привез?
– Угу.
– Арно даже не говори! Кстати, ты выяснил вашу степень родства?
– Да. Представь себе, он таки мой дядя. Пятиюродный. Я тебе покажу наше генеалогическое древо, я привез.
– А план сценария привез?
Максим кивнул.
– У нас леса уже облетели, – сказал он, глядя на расписную кромку леса, летевшую вдоль скоростной дороги. – Любопытно, у вас почти нет красного цвета в листьях, только желтая гамма. У нас осенью леса яркие, пурпурные…
Он замолчал, поглядывая на опрятные, ухоженные, полосатые ван-гоговские поля, взбегавшие по холмам. Многие были уже убраны, и желтые круглые рулоны плотно упакованного сена вздымались на оголившейся земле нелепыми гигантскими колесами, будто соскочившими с телеги Гаргантюа, недавно тут проезжавшего. На других полях что-то еще росло, зеленело вовсю, словно не осень стояла на дворе и будто не зима была впереди. Ничего от российской осенней печали, от раскисших дорог, от зябнущих жалких глин с мокрыми бесцветными стогами, от улетающих крикливых стай и уходящего тепла – ничего от прощания с жизнью и предсмертной тоски русской осени…
– Денек как подарок, а?
– То, что мне нужно, – отозвался Вадим.
Он покосился на русского. Веселые серые глаза, всегда с каким-то неуловимым выражением: смешливо-нахальные и простодушно-ласковые одновременно. Рыжеватые усы топорщатся в улыбке. От него веяло энергией и беспечностью. Молодостью… «Ему все как подарок, – думал Вадим. – Склад характера? Или уверенное сознание своего таланта, дающее вкус к жизни?» То, что Вадим утратил… Максим и в фильмах своих такой – камера словно ласкает, лелеет, нежит каждую деталь. И все, до сих пор пустячное и банальное, становится событием искусства: солнечный зайчик, уместившийся в ямочку на нежном женском подбородке; бисерная россыпь капелек пота над налитым, как спелое яблоко, ртом; просвечивающее дорогим фарфором маленькое ушко; блик янтарного чая в тонкостенной фарфоровой чашке… Кадр, напоенный воздухом и светом, вобравший в себя бесконечность пространства и в то же время законченный, как картины мастеров… Он был, несомненно, романтиком, русский режиссер, и его созерцательный и чувственный романтизм самым неожиданным образом сочетался с задиристой полемичностью идей. Его публицистический пафос был Вадиму чужд и совершенно несвойствен как режиссеру; напротив, он высоко ценил в фильмах Максима то, к чему было устремлено его собственное искусство, – красоту. Ни смысл, ни мораль, ни философию – они все умещаются в понятие «красота». Такие вещи либо понимаешь, либо нет…
Поэтому-то они так быстро сблизились в Каннах, где год назад соперничали за «Пальму». Фильмы Максима вызывали в нем восхищение, прилив вдохновения и энтузиазм соперничества. «Я тебя обойду, – грозился Вадим, – увидишь…»
…Тогда, год назад, в Каннах, они сидели в ресторанчике вдвоем, далеко за полночь, сбежав от шумной фестивальной толпы, подальше от суеты Круазетт[2] от роскоши «Карлтона» и «Мажестика»[3] Город задыхался и плавился от жары, и даже ночью плыло и потело все: актрисы в дорогих туалетах, полицейские в тесной униформе, охранявшие их от мощного натиска по-пляжному полуголых поклонников, словно слипшихся от жары в одну необъятную влажную массу, испарявшую запахи моря, пота и дезодорантов. Потела на столе холодная бутылка водки, которую заказал русский и от которой никак было невозможно уклониться. Водка к ужину? Такого с Вадимом еще не было, водка должна употребляться перед едой, на аперитив, рюмочку! За ужином вино пьют, вино! Знает ли русский, сколько здесь водка стоит?..
От жары и от водки уши Вадима сделались ярко-красными.
– Ты профессионал, – говорил он, чокаясь на русский манер уже неведомо которой рюмкой.
– Ты тоже профессионал, – отвечал Максим.
– И актеры у тебя профессионалы. Классные профессионалы, – продолжал Вадим. – Ты правильно делаешь, что работаешь с профессионалами, вы еще это не растеряли. А мы почти растеряли, школы нет, профессионализм не в цене. Мы снимаем «видовое» кино, мы подбираем смазливых девочек на улицах и крутим их мордашки перед камерой, пытаясь придать хоть сколько-нибудь смысла их пухлым губкам и распутным глазкам… У нас играют не актеры, а камеры! Не так уж много осталось настоящих профессионалов, а новых нет и о старых забываем, – каялся он. – В Японии таким актерам дают звание «Национальное достояние», а мы… И я в том числе… Я тоже виноват, лично виноват… Есть у нас такой актер, старый друг моих родителей, я его с детства знаю и ему обязан своей профессией и даже своим именем: это он предложил назвать меня Вадимом… А как тебе нравится – имя ведь это русское? Он говорил – русское… Ну и вот, запил он. Давно уже запил, много лет назад, и никто его не снимает больше, и я тоже не снимаю, а ведь какой актер! Какой актер, знал бы ты, таких теперь нет…
Максим согласно кивал. Количество выпитой водки никак не отражалось на его лице, только глаза блестели.
– Я, значит, снимаю кино, а он, сокровище национальное, спивается, никому не нужный… Не-хо-ро-шо! – помотал головой Вадим. – Знаешь что? Я его в следующий фильм позову! Это грандиозная идея! Позову, непременно позову, у меня и сценарий есть – прямо для него! А я – я ведь и не подумал о нем. Забыл. Вычеркнул, скотина…
– За мной тоже такие грехи водятся, – вторил ему Максим, – тоже есть актеры, старая гвардия, и мы в долгу перед ними… Но, сказать по правде, – он поднял указательный палец, – работать с ними удовольствие относительное, весьма-а относительное: они тебя учат на съемочной площадке, как тебе твой фильм снимать… Не ты ставишь фильм, понимаешь, а они! Молод, говорят, чтобы нас учить…
– Ты увидишь, сам увидишь, что это такое! Если удастся его из запоя вывести, тогда ты увидишь… Да, собственно, ты должен его знать, ты же знаешь наше кино: Арно Доран. Знаешь?
– Что-то не соображу…
– Ну правильно, и не сообразишь. Доран – это его настоящее имя, в кино он был известен как Арно Дор. Он снимался…
– Конечно, знаю, я видел фильмы с ним…
– «Бессловесная осень»?..
– А как же!
– Помнишь его в этой сцене, где его жена…
– Классика.
– То-то и оно, классика… А я ему даже не звоню. Мог бы позвонить, хотя бы как старому другу семьи… Я его обязательно сниму в следующем фильме…
– Правильно, – кивнул Максим. – Хороший актер, с настоящей театральной школой, таких уже и у нас мало осталось… Правильно говоришь, свинья ты.
– Я разве говорил, что я свинья?
– Говорил. Только что.
– Я такого не говорил.
– Ну, скотина. Ты сказал, что ты скотина.
– Скотина – говорил. А свинья – нет.
– А что, есть разница?
Вадим задумался. Максим тоже.
– Повтори-ка мне: ты сказал – Доран? – вдруг проговорил Максим. – Настоящая фамилия Арно Дора – Доран?
– Да, но известен под именем Дор…
– Я знаю… Странно, что я об этом раньше не задумался…
– О чем? – не мог понять Вадим.
– И это он предложил назвать тебя Вадимом?
– Ну да! Что ты так заинтересовался вдруг?
– Почему он предложил назвать тебя русским именем? Это имя редкое в России, нетипичное, почему?
– Странный ты какой-то. Он находит это имя красивым. К тому же у него был какой-то в роду предок, аристократ… Он ведь аристократ у нас, Арно.
– Где?
– Что где?
– О черт, где предок был? Во Франции?
– Нет, в России. Он там на русской принцессе женился или графине, не знаю я… Ты что, знаком с кем-то из этой семьи?
– Кажется…
– Да что ты? Вот Арно будет рад! Он ведь столько времени искал своих русских родственников, но безуспешно… И кто это?
– Вадим!
– Что?
– Ну пошевели мозгами!
– Пошевелил.
– И что?
– Не знаю.
– Напиши мою фамилию по-французски.
– Ты хочешь сказать… – глаза у Вадима сделались круглыми. – Слушай, ты что, хочешь сказать, что… А ведь правда, действительно! Я не сообразил, твою фамилию все произносят «Дорин», а его «Доран»[4] но это действительно может быть одна и та же фамилия… Вот это да! Что же получается?..
– Получается кое-что интересное…
– То есть ты – его родственник?
– Вполне возможно… У меня тоже был предок француз, в русской транскрипции Дорин, который женился на русской княгине. В 1841 году. Их первый сын уехал во Францию, где женился, другой – по имени Вадим, заметь! – остался в России, тоже женился, у обоих были дети, внуки, правнуки – одни в России, другие во Франции…
– Подожди, не тараторь так! – помотал головой Вадим. – Ничего не понял.
– Два. Сына.
– Два, значит, сына, – напрягал растекающиеся мозги Вадим, – один остался в России, другой вернулся во Францию?
– Да. Была еще дочь, но она вышла замуж за разночинца и стала революционеркой. Умерла в тюрьме и детей после себя не оставила…
– Значит, получилось два сына, – туго усваивал Вадим. – И две семьи: одна в России, другая во Франции… Да?
– Да. – Глаза Максима блестели. – Связи семей разорвались в революцию. Мои бабушка с дедушкой не успели эмигрировать…
– Какая жалость… – прошлепал непослушными пьяными губами Вадим.
– Дедушку расстреляли красные, бабушку сослали в Сибирь в начале тридцатых…
– Это ужасно…
– Их сына – моего отца – отдали в детдом, где ему дали фамилию Ковалев. Я тоже вырос под этой фамилией… Мой отец с трудом по крохам восстанавливал правду о нашей семье.
Максим разлил по рюмкам остатки потеплевшей водки. Вадим прикрыл свою рукой:
– Все-все, кончай, я больше не могу пить.
– Я взял себе свое настоящее имя как творческий псевдоним, и только два года назад нам разрешили восстановить нашу фамилию…
– Ну точно! Это точно та же самая история, которую Арно мне рассказывал! Твою бабушку звали Наташа, если не ошибаюсь, и… Не помню, как имя твоего дедушки?
– Дмитрий. Дмитрий Ильич и Наталья Алексеевна.
– Арно рассказывал мне… Они не успели эмигрировать. Отец Арно должен был встречать их пароход в Марселе… А встретил только багаж.
– Да, у Натальи Алексеевны начались роды…
– Вот-вот, роды. Ну, все сходится. Я тебя поздравляю! Ты подумай, какое совпадение! Какая история! Уж Арно-то как будет рад! Теперь я понимаю, почему он вас не смог найти – а он пытался неоднократно, через Красный Крест. А отцу твоему, значит, фамилию сменили… Кто же мог такое предположить? – медленно трезвел Вадим. – Кто же мог подумать, что вам фамилию сменили! Арно постоянно твердил: найду наследников! Он даже себя называл Хранителем «русского наследства».
– Наследства? – Максим вальяжно откинулся на спинку стула и вытянул ноги.
– Ты не знаешь? Вот это да! – округлил покрасневшие глаза Вадим. – Впрочем, откуда же тебе знать… Ты не знаешь, мой дорогой, интереснейшую часть вашей истории!
– А ты знаешь?
– А вот тут я тебе скажу, что ты не знаешь своего родственника. События личной жизни Арно являются достоянием общественности. Он оповещает о них с такой важностью и подробностью, как будто речь идет о королевской персоне: сегодня мы, Арно Дор, встречались с нашей дочерью, завтра мы, Арно Дор, репетируем сцену такую-то, там-то и с тем-то. Ты увидишь, это актер, он играет свою славу и легендарность с тем же безупречным профессионализмом в жизни, что и на сцене. И надо же, он актер, ты режиссер, и оба – не последние имена в искусстве…
– Гены, – скромно опустил глаза Максим.
– Да уж, ничего не скажешь. Неплохая наследственность в вашей семье. Так вот, к вопросу о наследстве. Отец Арно поехал встречать твоих бабушку и дедушку. Они прибывали на пароходе из Одессы. Но их не оказалось среди пассажиров. Не дождавшись на пристани, отец Арно поднялся к судовому врачу – они должны были ехать в его каюте…
– Да-да, мой дед был главным инженером пароходства, и этот врач был старый друг деда…
– И врач объяснил ему, что у Наташи, Натальи… как ты сказал? Алекс…
– Алексеевны, это не важно, продолжай.
– …начались роды по дороге на пристань, они были вынуждены повернуть обратно и ехать в больницу…
– Не по дороге на пристань, а прямо на пристани. К городу приближались красные. Царила жуткая паника, люди пытались пролезть на пароход, с билетами и без, капитан был вынужден отказывать. Стояла давка, все наседали друг на друга, женщины плакали, умоляя взять их на переполненное судно, толпа продолжала стекаться на пристань. Дмитрий нес чемоданы, а беременная Наталья держала впереди себя дорожную сумку, охраняя ею живот. Толпа стиснула сумку, Наталья пыталась ее вырвать. Она стала звать мужа, которого уносило все дальше от нее, он что-то кричал ей в ответ. Охваченная паникой, она дернула сумку изо всех сил и упала. Прямо под ноги обезумевших людей. Когда Дмитрий вытащил ее из-под груды тел и чемоданов, у нее уже были родовые схватки…
Вадим внимательно взглянул на Максима.
– Скажи мне, – спросил он, – ты уже видишь кино?
– Догадался? – усмехнулся Максим.
– Нетрудно. Сценарий есть?
– Пока только в голове.
– Будешь делать фильм?
– Есть такая мысль.
– Совместный пойдет?
– Отличная идея, только какой твой интерес?
– У нас любят экзотику… К тому же здесь замешаны французы, русско-французские отношения…
Они расплатились и вышли в душную ночь. Море было беззвучно и черно, отражая лишь огни разукрашенной к фестивалю набережной, которая продолжала жить своей праздной и светской жизнью даже ночью.
– Погоди, – остановился вдруг Вадим, – ты сказал, что твоего отца отдали в детдом в начале тридцатых. Так?
– Да.
– Ему должно было быть больше десяти лет! Разве могло случиться, чтобы он забыл свою фамилию?
– Отцу было четыре года, когда бабушку сослали. Тот ребенок, который чуть было не родился на пристани, умер вскоре от тифа…
– Бог мой! Как это все ужасно… Хорошо, что у вас теперь демократия. – Максим усмехнулся. – Мы наконец узнали правду о вашей стране. О вашей великой и страшной стране. Знаешь, многие были абсолютно очарованы Советским Союзом, они всерьез верили, что там строится новое общество… Мой брат вступил в коммунистическую партию! Мы с ним ругались, несколько лет не разговаривали даже… Это было, правда, лет пятнадцать назад, он потом из нее вышел… Это замечательно, что теперь у вас свобода слова.
– Угу, – сдержанно ответил Максим.
– Я ошибаюсь?
– Нет. Просто палка о двух концах.
– Мафия, то-се? Понимаю… Я, собственно, к тому, что вот уже хорошо то, что ты смог восстановить правду о своей семье… Если бы еще о столике раскопать что-нибудь историческое! Это было бы неплохим украшением сценария, – увлеченно продолжал Вадим, стряхивая с себя остатки тяжелой оцепенелости от жары и алкоголя. – Я теперь даже знаю, как Арно из запоя вытащить: теперь у меня есть ты как средство пропаганды здорового образа жизни – не захочет же он, чтобы его долгожданный русский родственник увидел пьяницу…
– Столик?
– Ну да, ты же ничего не знаешь. – Вадим покачал головой. – Вместо твоих родственников отец Арно встретил только столик.
– Отец мне говорил, кто-то ему рассказывал, что его родители погрузили мебель на пароход… Только я не поверил. Какая, к черту, мебель, когда такое творилось!
– Это трудно назвать мебелью. Это маленький туалетный столик великолепной работы, подарок русской императрицы одной из твоих прапрабабушек.
– Вот как?
– Да… Как странно устроена жизнь. Отец Арно хранил его для вас, надеясь, что его русские родственники сумеют вырваться из большевистской России. А теперь сам Арно хранит его для вас, надеясь вас разыскать. И, ты знаешь, его много раз уговаривали продать этот антиквариат – о нем все знают; Арно, как я тебе говорил, всех широко информирует о своих делах, – а он ни в какую. «Вы, дорогуша, подбиваете меня на воровство. Как я могу продать вещь, мне не принадлежащую!» – вот как он сказал, я свидетель… Представляю, как он обрадуется! Ты можешь заехать в Париж хоть на пару дней?
– Нет. У меня съемки, группа ждет.
– Обидно. Ну ничего, мы с тобой созвонимся, спишемся, организуем твой приезд. К Рождеству управишься, может?..
Глава 2
Они и созвонились, и списались, Максим заочно познакомился со своим дядей и затеял с ним оживленную переписку, но его приезд удалось организовать только через год с лишним – Вадим болел, Максим разводился, оба заканчивали картины.
И вот наконец русский здесь. Сидит рядом в машине, любуется осенним пейзажем.
Почувствовав на себе взгляд, Максим повернулся. Вадим смигнул и отвел глаза. У него была такая привычка – смигивать, Максим это еще в Каннах подметил, и это придавало Вадиму сходство с совой. К тому же у него были круглые зеленовато-серые глаза, нечеткое, как на детском рисунке, пятно рта и округлое мягкое лицо, на котором неожиданно крепко и крючковато сидел нос. Максим слегка улыбнулся в усы.
– Как дядя снимается?
– Он в отличной форме. Когда я предложил ему роль, то поставил условие: выход из запоя. Шантажировал грядущей встречей с тобой. Сам не ожидал: Арно не только согласился, он буквально на следующий день помчался к врачам, лег в больницу. Я его ждал, отодвинул начало съемок. А сам, честно признаюсь, все время боялся – вдруг на съемках сорвется? Вдруг снова запьет? Все насмарку тогда! Тем более что сценарий такой… В некотором смысле из его жизни, из драматических моментов его жизни, точнее. Увидишь, сегодня у меня сцена с девочкой, я тебе говорил о ней, кажется… Они неплохо сработались.
– Актриса?
– Лицеистка… Разница, конечно, есть, Арно ее переигрывает, но в этом есть своя прелесть, оттеняет ее свежесть, непосредственность…
Максим в ответ неопределенно кивнул, выражая вежливое, но неуверенное согласие.
– Ну и как, дядя держится?
– Держится, молодец. Я его страшно уважаю за это. Сам знаешь, сколько разбитых актерских судеб из-за слабоволия…
– У нас как-то все ухитряются и пить, и работать.
– Ну вы, русские, – нация специфическая…
– Должно быть, – усмехнулся Максим. – А что за «драматические моменты его жизни»? Если не секрет?
– Как-нибудь расскажу… Мы приехали.
Они съехали со скоростной трассы на местное шоссе, вскоре свернули на проселочную дорогу между лесом и полем. Тянувшийся слева лес вдруг отступил, открыв обширную поляну, посредине которой старый разваленный дом торчал, как одинокий сгнивший зуб. «Последний зуб во рту у дряхлого старика», – подумал Максим. Странно было видеть эту потерявшуюся во времени и пространстве развалину, неожиданно возникшую перед ними всего в паре сотен метров от шоссе, отделенного лишь неширокой полоской леса. Эта натура была менее правдоподобна, чем декорация, – казалось, что только изощренная фантазия художника способна создать такое архитектурное чудовище.
Вокруг дома суетились люди, налаживая технику, проверяя приборы, подтягивая провода и кабели, перекрикиваясь и оживляя эту угрюмую сценическую площадку. «Не приведи бог попасть сюда ночью, одному – со страху умрешь на месте, – подумал Максим, – тут бы фильмы ужасов снимать».
Вдруг вспомнился сон, приснившийся в самолете: похороны, бесконечная серая молчаливая процессия – неизвестно чьи похороны, может, даже и собственные? Было чувство горя, страшного и всеобъемлющего, – после такого не живется; был ужас, пробирающий до пальцев ног; а вот отчего все это было и кого хоронили – он не знал или не помнил.
Передернув плечами, Максим заставил себя отключиться от неприятных воспоминаний. Сон и сон, подумаешь! Максим их часто видел, всегда цветные и яркие, всегда неожиданные: и по разным странам путешествовал, и на других планетах бывал, и с богами беседовал – не перескажешь и не опишешь, разве что показать… Поэтому, может, и пошел в кино?..
На импровизированной стоянке стояло несколько студийных и частных машин съемочной группы, погруженных колесами в грязь. Остальные, чистюли, припарковались на обочине шоссе, которое просматривалось за редевшим позади развалины леском. Поколебавшись, Вадим завел свой сверкающий «Рено Сафран» в жирное глинистое месиво, выключил мотор и с опаской выпустил ногу из машины. Максим выбрался с другой стороны и потянулся, оглядываясь.
– Дорогуша, – зарокотал поодаль сочный бас, – дорогуша! Ну вот наконец и свиделись! А? Вот она, рука судьбы!
К Максиму направлялся, раскинув руки для объятий, невысокий плотный человек лет шестидесяти, с седой, но густой волнистой гривой волос. Максим раскрыл руки в ответ. Дядя смачно расцеловал его четыре раза в обе щеки и обернулся к группе.
– Я вам всегда говорил, – провозгласил он, – найдутся мои русские родственники, объявятся в один прекрасный день! И я был прав! История – мудрый судья, она всегда все расставит по местам, рано или поздно, но расставит!
Дядя обнимал, похлопывал и потряхивал, вертя в разные стороны послушного смеющегося Максима. Какие-то люди обступили их, разглядывая Максима с любопытством и улыбаясь от души этой сцене долгожданной встречи. Максим не успевал пожимать чьи-то руки, подставлять щеки для многократных поцелуев и повторять «бонжур».
– Нет, ну вы посмотрите на него! Какой красивый мальчик! Наша порода. Улавливаете фамильное сходство? – гудел бас Арно. – Ну как же, как же, смотрите внимательнее! Повернись, племянник, повернись им в профиль – пусть увидят! Нос, подбородок, что же, у вас глаз нету?
– Вы же в гриме, дядя. И наши с вами носы сравнить никак невозможно, – улыбался Максим.
– Вы? Какое такое «вы»? Ты – племянничек мой нашедшийся, ты – часть нашей семьи, часть нашего рода. И я с тобой буду на «ты». А ты хоть и маленький, но с дядей родным (Максим не смог сдержать улыбки на «родного») будешь тоже на «ты». Но посмотрите только, как он по-французски говорит! Сразу видно, язык Вольтера в крови у этого мальчика! А нос мой, не волнуйся, они хорошо знают. Я, слава богу, сорок лет кино и театру отдал и помещен вместе с моим носом во все учебники и энциклопедии, правда же, голубчики мои? Ну дай мне тебя обнять еще раз! Какое великое событие – наш род воссоединился! Знаете, вы, – он снова повернулся к съемочной группе, – в чем одно из немногих достоинств аристократии? Сам-то я убежденный демократ, дорогуша, – сообщил он Максиму через плечо, – так знаете или нет? Нет, не знаете! А я вам скажу: в том, что для нас род, корни – это святое. Так-то, детки мои.
Ты, голубчик мой, – вновь обратился он к Максиму, – считай, счастливым родился. С самолета прямо на съемки к классику нашему. Это тебе честь особая, немногие удостаиваются права на съемках у Вадима Арсена присутствовать!
Дядя говорил громко, широко улыбаясь Вадиму, обходившему тем временем дозором съемочную площадку. Трудно было понять, он ему льстит или над ним подтрунивает. Вадим нахмурился.
– Да и на дядю своего посмотришь, – продолжал Арно, – не стыдно будет за родственника!
– Арно, грим заканчивать пора! – вмешался Вадим.
– Иду-иду, Вадимчик! Вадим у нас строгий, – громогласно сообщил дядя, увлекая Максима за собой в автобус, где находилась гримерная. – Но мы с тобой еще можем поговорить, пока я буду догримировываться.
– Вечером наговоритесь, – буркнул Вадим, недовольный тем, что Арно отвлекается перед съемками.
– Конечно, вечером, – заверил его Арно, подпихивая Максима в автобус.
В кресле, стараясь не слишком шевелить губами под руками гримерши, он продолжал:
– Уж вечером мы с тобой наговоримся, да. Нам есть о чем, правда? Жизни целые надо друг другу рассказать… Вадим сказал тебе наши планы? Ты будешь жить у меня. Не возражай!