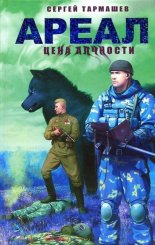Вино из одуванчиков Брэдбери Рэй

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую, как мир, опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.
И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.
Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озёра. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще…
Дуглас зажмурился.
Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город врастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, лощиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.
— Эй! Ау!
Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.
— Эй!
Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи — как живет человек и как живет природа, надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, — всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — детище корабля, смытое неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и, наконец, рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие уголья костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.
Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа — тайная война человека с природой; из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными, ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек, и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.
Город. Чаща. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда…
Он опустил глаза.
Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.
— Дуг! Пошли, Дуг!
Голоса затихли вдалеке.
— Я живой, — сказал Дуглас. — Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?
Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места — и наконец понял.
* * *
В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрей, быстрей! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался… Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.
— Хорошая была картина, — сказала мама.
— Ага, — буркнул Дуглас.
Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.
— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли…
Отец даже не обернулся.
— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?
— Ну-у…
Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки… В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так…
— Пап, — сказал Дуглас, — это очень трудно объяснить.
Люди, которые мастерят теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыханье легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны, тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.
Дуглас попытался объяснить все отцу.
— Допустим, — сказал отец. — Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.
Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. А если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.
— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу. — Прошлогодние никак не годятся.
Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.
Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.
— Копи деньги, — посоветовал отец. — Месяца через полтора…
— Да ведь тогда лето кончится!
Погасили огонь, Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные, наконец, от тяжеленных башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.
— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.
Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах за городом полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрей всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. ИЩИ ДРУЗЕЙ, РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. МИР БЕЖИТ СЛИШКОМ БЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРОВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ, ЛЕГКИЕ, КАК ПУХ!
Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.
Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, подумал он. Ночью постараемся найти ту, заветную тропку…
Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы и пошел с нею…
Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.
Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород; и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул.
Вдалеке, нарастая, загремел гром.
Миг — и в дверях появился Дуглас Спеллинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаянья.
— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон.
Дуглас замер.
— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие, как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.
— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — выдохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?
Старик помрачнел.
— Ну, лет десять назад, или двадцать, может быть, даже тридцать… Почему это тебя интересует?
— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю…
— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.
— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?
Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок.
— Н-да-а, пожалуй…
— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас. — Вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.
— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?
— Это было бы очень хорошо, сэр!
Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.
— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.
— Как я себя чувствую? Отлично, — и он хотел снова сесть на стул.
— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?
— Что же?
— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уж не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам, как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!
Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъеме. В открытую дверь задувал ведерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками — словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот его открылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и, наконец, застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.
По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.
А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.
— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?
— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.
— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.
Он легким шагом подошел к стене, где стояло уж наверно десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.
Старик кончил писать и протянул ему листок.
— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.
— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.
— Постой! — закричал старик. Дуглас остановился и обернулся к нему.
Ну, как туфли? — с интересом спросил старик. Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.
— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица маль чика на туфли. — Газели?
Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настежь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.
Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо…
— Антилопы, — повторил Сэндерсон. — Газели…
Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад к цивилизации…
* * *
Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.
— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, — сказал он. — Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.
— Например, Дуг?
— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это — только одна половина лета, Том.
— А другая?
— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.
— Например, едим оливки?
— Нет уж, кое-что поважнее. Ну, как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают.
— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!
— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.
— Какую еще ерунду ты там записал?
— Что я живой.
— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.
— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново. Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу — вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый москит. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновенности». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино: «Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целости и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?
— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.
— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновенностях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом 1928 года, утром 24 июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так: «Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — „и друг друга они не поймут“».[1] Вот, мотай себе на ус, Том.
— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!
— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда[2] мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.
— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого, и немножко нового.
— Все правильно, тут есть и старое, и новое. — Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название). — Ну-ка, скажи все это еще разок…
— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень…
* * *
Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.
На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здоровается с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или тявкают, точно болонки, их жены.
— Что ж, Дуглас, давай вешать.
Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.
Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед…
Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.
— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много москитов.
Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами, Чиркают спички, булькает вода — во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду.
Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.
И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.
Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — назавтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.
Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения москитов и дает тему для разговора еще на множество лет.
Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды: всегда, до скончания века будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошадью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И, наконец, дети — они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому, по бархатной лужайке, и затихают под мерное журчанье на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют..
Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него, и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы…
В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы — словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты и в прах возвратишься». Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:
— Перестаньте! Ради бога, прекратите эти похоронные марши!
— Вы правы, Лео, — сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. — Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?
— Верно! — подхватил Дуглас. — Смастерите для нас Машину счастья!
Все засмеялись.
— Не смейтесь, — сказал Лео Ауфман. — Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы, и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!
Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.
— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!
— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели…
Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:
Я ее сделаю… сделаю…
— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.
Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегающей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мученье, напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало…
Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?
В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром…
— Папа!
По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро: Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, — младшему было пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.
— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое!
Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.
Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:
— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?
— Что-нибудь случилось? — тотчас спросила жена.
* * *
Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роем метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф: сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.
— Не заблудись, внучек!
— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!
И мальчики скрылись в темноте.
А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании, и только когда они уже вошли в калитку, Том сказал.
— Надо же — Машина счастья! Вот здорово!
— Не пыхти, — сказал дедушка.
Часы на здании суда пробили восемь.
Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно, — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.
Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.
А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта — лавка миссис Сингер.
И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалилась и сказала Тому:
— Сбегай, возьми пинту мороженого, да присмотри, чтобы она поплотнее его набила.
А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, спросил Том, и мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и, как был, босиком побежал по теплому вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.
Шлепая босыми пятками по тротуару, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.
— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!
Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерся об него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми ногами — побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы, — казалось, весь город погружается в сон.
Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды: мама все еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.
— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.
— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала: — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.
Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:
— Ну и денек выдался, вот жарища-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!
Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.
— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.
— Придет, — сказал Том.
Уж конечно, Дуглас придет.
Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:
— Погоди минутку, Том.
— Почему?
— Надо.
— Ты какая-то чудная, мам.
Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.
— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!
Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растеряна и волнуется.
Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.
Она опять позвала.
Молчание.
Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется го-голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»
Но Дуглас не отвечал. Том долгих две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висюльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.
Дверь веранды со скрипом отворилась и мама сказала:
— Пойдем, Том. Пройдемся.
— Куда?
— Просто по улице. Идем.
Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.
Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах — никаких признаков жизни, ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.
— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки. Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.
Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.
Оттого, что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.
Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий — никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами… а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он, месяц спустя, стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть…
Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.
Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.
Овраг.
Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безыменное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения…
А ведь они с матерью здесь совсем одни.
И ее рука дрожит!
Да, дрожит, ему не почудилось… Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым — вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло ему холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.
Так вот оно что! Значит, это участь всех людей, каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?
Тьма поглотит в одно мгновенье; одно чудовищное, леденящее мгновенье — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и…
Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.
Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. Господи, не дай ей умереть, молил он. Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет…