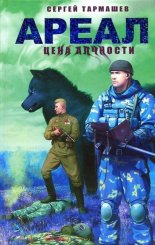Вино из одуванчиков Брэдбери Рэй

— Что мы наделали! Бедный мистер Куотермейн!
— Мы, наверно, его убили! И, наверно, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.
Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрав голову, посмотрел вверх.
На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.
— Полиция!
Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»
— Что это за мальчишка?
— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина!
— И тот ужасный коммивояжер из Гампорт Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.
Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.
Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.
И вот из слепящего солнечного блеска, сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла…
ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!
Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изящная, словно кленовый лист, свежая, словно ключевая вода, она мурлыкала, как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт Фолса, его напомаженную голову осеняет панама. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она жужжа подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.
— Меня зовут Уильям Тара! А это… (он нажал грушу, раздался отрывистый лай)… это сигнал. — Он приподнял черные, блестящие, как шелк, подушки. — Здесь — аккумуляторные батареи! (Пахнуло свежестью, как после грозы.) — Вот стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!
Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.
— И почему мы не закололи его вязальными спицами!
— Ш-ш! Слышишь?
Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.
— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверно, хотела занять у нас сахару.
— Обними меня, мне страшно.
Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт Фолса.
— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.
В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом уставился на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.
— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! (Он пренебрежительно щелкнул пальцами.) Но имейте в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда и вам понадобится друг; друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!
И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнущая краской, и ждала их; удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.
— В ней спокойно, как на пуховой перине. — Его дыханье мягко касалось их лиц. — Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.
— А вдруг она… то есть… — Младшая сестра отпила глоток ледяного чая. — А не может она убить нас током?
— Совершенно исключено!
Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу реклама зубного порошка.
— В гости, на чашку чая! — Машина описала грациозный круг, точно тур вальса. — В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции». — Машина упорхнула, с мягким рокотом по катила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта! — Машина скользила мимо крыльца, взад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.
Потом он устало и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.
— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов единовременно, и потом, на протяжении двух лет, по десять долларов в месяц.
Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.
Раздался отрывистый лай.
Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.
Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.
— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.
— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины. Они словно плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!
Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.
Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина жужжа проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной недвижной реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.
— И надо же, чтобы сегодня… — прошептала Ферн. — Ах, надо же!
— Это был несчастный случай.
— Да, но мы удрали, а это уже преступление.
Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и платье, — этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.
Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигналя изо всех сил. И вдруг, точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Куотермейн.
— Осторожно! — взвизгнула мисс Ферн.
— Осторожно! — взвизгнула мисс Роберта.
— Осторожно! — взвизгнул мистер Куотермейн.
Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.
Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.
Куотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.
— Дожили! — горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. — Ох, почему мы не остановились! Зачем мы удрали!
— Ш-ш! — Обе прислушались. Внизу опять кто-то стучался в дверь.
Потом стук прекратился и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.
— Это только Дуглас Сполдинг — наверно, хотел еще разок прокатиться.
И обе тяжко вздохнули.
Проходили часы. Солнце клонилось к закату.
— Мы торчим здесь целый день, — устало сказала наконец Роберта. — Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.
— Мы просто умрем с голоду.
— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?
Они поглядели друг на друга.
— Нет. Никто не видел.
Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стряпни — всюду готовили ужин.
— Пора ставить мясо на плиту, — сказала мисс Ферн. — Через десять минут вернется Фрэнк.
— Очень страшно идти вниз.
— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.
За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.
— Как ты думаешь, он умер? — спросила мисс Ферн.
— Мистер Куотермейн?
Молчание.
— Кто же еще…
Роберта ответила не сразу:
— Посмотрим в вечерней газете.
Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу.
— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину… А в ней так приятно ездить… видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо…
— А мы ему не скажем.
— Не скажем?
Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и, наконец, принялись поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту.
— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали…
— Как же быть?
И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковородке, сестры глядели друг на друга.
— Мне кажется… — Ферн долго не отрывала глаз от стены, — нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.
Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку, да так и застыла.
— Никогда?
— Никогда.
— Но разве… разве мы должны… совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя?
Ферн подумала.
— Это, наверно, можно.
— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи.
В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.
— Добрый вечер, сестрички! — крикнул он.
Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.
— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?
— Понятия не имею.
Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.
— Ох, уж эти мне мальчишки!
Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.
— Похоже, что скоро ужинать? — спросил он добродушно.
— Да, сейчас.
Ферн накрыла на стол.
Во дворе рявкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издалека.
— Это еще что такое? — Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. — Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.
В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины, потом еще и еще.
— Что это с ней стряслось? — строго спросил Фрэнк.
— Оставь ее в покое! — закричала Ферн.
Фрэнк удивленно поднял брови.
Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта и все трое сели ужинать.
* * *
Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерский бич, на бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.
Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток.
В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко.
— Эй!
И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, вожатый, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.
— Эй, — сказал Чарли, — куда это мы едем?
— Последний рейс, — ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. — Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому — покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!
Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко—по нескончаемой реке…
— Напоследок? — переспросил ошеломленный Дуглас. — Да как же так? И без того все плохо, Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь буду? Нет, нет… Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!
— А ведь верно, — подхватил Чарли. — Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!
— То-то и оно, — сказал Дуглас.
Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали среди холмов дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов.
— Тут-то мы и поворачиваем назад, — сказал Чарли.
— Тут-то ты и ошибся! — И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора. — Поехали!
Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.
— Трамвай — он даже пахнет по-особенному, — говорил Дуглас. — Ездил я в Чикаго на автобусах: у тех какой-то чудной запах.
— Трамвай чересчур медленно ходит, — сказал мистер Тридден. — Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.
Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзины с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзины на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.
Они сидели на траве, уплетали сэндвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты изо всех сил трубили в свои медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребятишки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво… Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоновожатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время, и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно и бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит… Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.
В небе с криком пролетела дикая утка.
Кто-то вздрогнул.
Тридден натянул перчатки.
— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.
В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмиревшие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.
Дзинь! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон; Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.
Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.
Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.
— Что ж… До свиданья, мистер Тридден!
— Всего вам доброго, ребята.
— Еще увидимся, мистер Тридден.
— Еще увидимся.
Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках; свернул за дальний угол и скрылся, пропал из глаз.
— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. — Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть, Дуг, ты только подумай!
Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие зальют рельсы горячим варом и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной: проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в теплой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно бежит и звенит трамвай. И в изгибе утренней улицы, на широком проезде, между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно зажужжит на заре одна-единственная огромная стрекоза. Словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай! И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь начнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели…
— После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.
— Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.
* * *
Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени Чокто или Чероки, умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрей всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не задира. Добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы — белые, как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда — отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Грин-Тауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.
И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.
Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.
Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.
Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке, как вкопанный, и посмотрел на него.
— Погоди-ка: что ты сказал?
— Ты же слышал, Дуг.
— Ты и вправду… ты уезжаешь?
— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух… Ду-ду-ду-y-y-y!
Голос его постепенно замер.
Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.
— Сегодня! — сказал Дуглас — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи! Как же это так вдруг? Весь век ты был тут, в Грин-Тауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!
— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали…
— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых… Неужели твой папа не может подождать?
Джон покачал головой.
— Вот беда, — сказал Дуглас. — Дай-ка я сяду.
Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город, — может, он всей своей тяжестью, всей громадой, всеми долгами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.
— Но мы же друзья, — беспомощно сказал он.
— И всегда останемся друзьями.
— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?
— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.
— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.
— Конечно, совсем недалеко, — подтвердил Джон.
— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твои края. Вот будет здорово!
Джон долго молчал.
— Давай, поговорим про что-нибудь, — предложил Дуглас.
— Про что?
— Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц, и еще позже. Про богомолов, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай как будто ты уже опять приехал, — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.
— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков.
— А раньше хотелось!
— Да. — Джон упорно смотрел вдаль. — Наверно, сейчас просто не время.
— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный…
Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искриви лось.
— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?
— Конечно.
— Там маленькие круглые окошки и в них разноцветные стекла — они всегда были такие?
— Конечно!
— Ты уверен?
— Старые-престарые окошки, они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было.
— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?
— У тебя были другие дела.
— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть, Дуг, с чего эти окаянные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверно, это потому, что… — Он говорил медленно, запинался и путался. — Наверно, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверно, еще много чего не замечал… А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города — и потом не смогу ничего вспомнить?
— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил в лагерь. И там я все-все помнил.
— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.
— Неправда!
— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как эта страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату — и опять не помню! Черт возьми, Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками коленки. — Обещай мне одну вещь, Дуг. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?
— Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью, в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.
— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай. Ну? Какого цвета?
Дугласа бросило в пот. Веки его вздрагивали.
— Ну, знаешь, Джон, это нечестно.
— Говори!
— Карие.
Джон отвернулся.
— Вот и нет.
— Как же нет?
— А вот так. Даже непохоже.