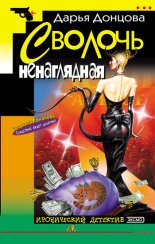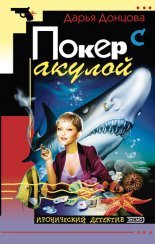Страх Рыбаков Анатолий
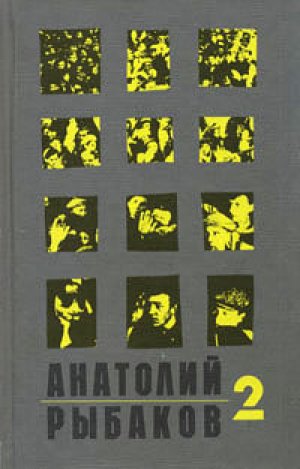
– Я имею две поправки, – продолжал Сталин, – партия и правительство наградили за успешное строительство Московского метрополитена одних – орденом Ленина, других – орденом Красной Звезды, третьих – орденом Трудового Красного Знамени, четвертых – грамотой ЦИК. Но вот вопрос: а как быть с остальными, как быть с теми товарищами, которые клали свой труд, свое умение, свои силы наравне с ними? Одни из вас как будто бы рады, а другие недоумевают. Что же делать? Вот вопрос.
Он сделал паузу.
Благоговейная тишина стояла в зале.
– Так вот, – продолжал Сталин, – эту ошибку партии и правительства мы хотим поправить перед всем честным миром.
Опять зал взорвался смехом и аплодисментами.
Сталин вынул из нагрудного кармана френча сложенную вчетверо бумажку, развернул.
– Первая поправка: за успешную работу по строительству Московского метрополитена объявить благодарность ударникам, ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц Метростроя.
И опять гром аплодисментов. Когда зал наконец утих, Сталин сказал:
– И вторая поправка: за особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев и комсомолок на успешное строительство Московского метрополитена наградить орденом Ленина Московскую организацию комсомола.
Снова шквал аплодисментов. На этот раз аплодировал и сам Сталин, воздавал этим честь московскому комсомолу.
И когда он перестал аплодировать, утих и зал.
– Может быть, товарищи, этого мало, но лучшего мы придумать не сумели. Если что-нибудь еще можно сделать, то вы подскажите.
Жестом руки приветствуя собрание, Сталин направился в президиум.
Овация превзошла все предыдущие. «Ура любимому Сталину!» И зал загремел: «Ура!», «Ура!», «Ура!» Какая-то девушка вскочила на стул и крикнула: «Товарищу Сталину – комсомольское ура!» И снова понеслось по рядам: «Ура!», «Ура!», «Ура!»
Овация длилась минут десять. В зале продолжали стоять и аплодировать, выкрикивать «Ура!», «Любимому Сталину – ура!».
Сталин молча стоял в президиуме и смотрел в зал. Нет, это не те, что полтора года назад аплодировали ему на Семнадцатом съезде, те аплодировали неискренне, эти совсем другие, это ЕГО люди.
Безусловно, по своей природе молодежь неустойчива. Молодые тоже со временем коснеют, подрастают новые, им тоже надо дать дорогу, обновление кадров – процесс неизбежный, надо только, чтобы кадры, приходящие к руководству, были ЕГО кадрами. Над тем фактом, что их предшественники уничтожаются, новые кадры не задумываются: захватывая власть, они убеждены в ее незыблемости. И, когда им тоже придется уйти, они обвинят в этом не товарища Сталина, а своих соперников. Товарищ Сталин навсегда останется для них тем, кто вознес их к власти.
Так думал Сталин, вглядываясь в возбужденный, радостный, беснующийся от восторга зал, надо еще что-то сказать, что-то простое, человеческое, покорить их не только своим величием, но и своей простотой.
И, когда аплодисменты наконец стихли, он негромко, но так, чтобы все слышали, спросил:
– Как вы думаете, хватит поправок?
Буря аплодисментов разразилась с новой силой.
Все встали.
Стоя аплодировал президиум. Аплодировали Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе, Чубарь, Микоян, Ежов, Межлаук. Это продолжалось бесконечно долго. Люди не могли сдвинуться с места, не могли уйти, не могли расстаться со Сталиным, ведь это был их день, может быть, единственный в жизни день, когда они видят Сталина, они хотели продлить этот праздник, хотели еще и еще слушать Сталина.
Но Сталин уже выступил, больше выступать не будет, и тогда кто-то крикнул: «Кагановича!»
И зал мгновенно подхватил: «Кагановича!», «Кагановича!»
Каганович растерянно покосился на Сталина. Выступать после него?
Но Сталин сказал:
– Что же, Лазарь, народ ждет, поговори с народом.
Каганович поднялся на трибуну.
8
После заседания в Колонном зале Сталин, не заезжая в Кремль, уехал в Кунцево, на свою новую дачу. В прошлом году ее построил Мержанов – легкое одноэтажное строение среди сада и леса. Во всю крышу солярий. ОН солярием не пользовался, но пусть будет, не понравится – построят второй этаж.
Сталин впервые приехал в готовый и ожидающий его дом.
Покончено наконец с Зубаловым, с этим гадюшником, где обосновалась его так называемая родня: старики Аллилуевы, не прощавшие ему смерти Нади, их сыночек Павел – он-то и подарил Наде пистолет, из которого она застрелилась, Аня – Надина сестрица, толстая неряшливая дура, влюбленная в своего муженька Реденса, а тот, красавчик, спит с кем попало, грубый, заносчивый, высокомерный поляк.
Не выносил ОН и семейку Сванидзе – родственников своей первой жены, Екатерины. Да и ее он не любил: молчаливая, покорная, но ограниченная богомольная женщина, во всем ему чужая. Надеялась, что он бросит революцию и станет попом, ничего не понимала. Таким же ее сестрица воспитала и Яшу – его сына: молчаливым, чуждым ему подростком. И вот Яшу, которого он никогда толком в общем-то не видел и не знал, его шурин Алеша Сванидзе перевозит в Москву. Зачем привез?! Учиться, видите ли! В Тифлисе нет высших учебных заведений? Нет, не для этого он его привез. Привез для того, чтобы подчеркнуть, что ОН не интересуется судьбой сына, не заботится о его образовании. И потому об этом приходится заботиться его дяде, Алеше Сванидзе.
Ведь у НЕГО новая семья. Зачем же вводить в семью пасынка? Чужого, нелюбимого, плохо говорящего по-русски? Что это, как не стремление внести разлад в его семью, иметь своего человека в его доме. Все точно рассчитал. Надя ведь была деликатная, если Яшу отошлют обратно, то люди подумают, что это она его не приняла, для нее главное: что люди скажут!
Такой сюрприз преподнес ему дорогой шурин Алеша Сванидзе. И не единственный сюрприз. Своего собственного сына назвал ДЖОНРИД. А?! Какое имя придумал! В 1929 году! Грузинское имя? Русское? Нет, не русское, не грузинское. Джон – понятно. Есть такое английское имя. Рид? Тоже, может быть, есть. Но Джон Рид – это имя и фамилия того самого Джона Рида, который написал лживую книжонку, извращающую историю Октябрьского восстания, книжонку, где превозносится Троцкий и ни разу не упоминается ОН, Сталин. Эта книжонка изъята из библиотек, за ее хранение люди получают пять лет лагерей. А его шурин Алеша Сванидзе назвал этим именем собственного сына. Не знает, кто такой Джон Рид? Хорошо знает. Интеллигент. Образованный. Учился в Германии, в Йене. Знает и европейские языки, и восточные, полиглот вроде Менжинского, так что все понимает и назвал своего сына только в пику ЕМУ.
В жены взял оперную певицу, Марию Анисимовну, неважная видно, певица, если ушла из оперы, чтобы жить с мужем в Берлине при торгпредстве. Привозила Наде из-за границы барахло, ЕГО жене прививала вкус к заграничным тряпкам, разлагала ее морально. Все делают нарочно, злобные, завистливые люди. Играя на бильярде, Алеша всегда ЕМУ проигрывает, а потом объясняет друзьям: «Я выиграю, а он за это другим головы снимет». Так этот дорогой Алеша Сванидзе говорит за его спиной, так он публично издевается над ним!
И почему такая нежная дружба между Аллилуевыми и Сванидзе? Казалось, они должны были бы ненавидеть друг друга: родственники первой жены и родственники второй. Разве могут Аллилуевы любить Яшу? Или Сванидзе любить Васю и Светлану? Их объединяет общая ненависть к НЕМУ. Его ноги больше не будет в Зубалове. Пусть живут там без него, пусть грызутся между собой. Им надо кого-то кусать, пусть кусают друг друга.
Сталин бродил по саду под теплым весенним, майским солнцем, любовался цветами. Одни стояли еще в бутонах, другие расцвели. Земля должна не только плодоносить, но и радовать глаз. Сталину понравился ухоженный сад, чистые дорожки, аккуратные беседки, открытые площадки, на площадке столик, плетеная лежанка, шезлонг.
Тихо, спокойно. Это не Зубалово с его суетней, толкотней, сплетнями, ссорами. Особенно теща – Ольга Евгеньевна, сварливая старуха, вечно ругалась с обслугой, с «казенными людьми», как она их называла, упрекала за бесхозяйственность, за трату государственных средств, обвиняла их чуть ли не в воровстве, бранила комендантов, поваров, подавальщиц. И это при НЕМ, при НЕМ, люди могли подумать, что ОН поощряет такое обращение с обслуживающим персоналом.
Персонал ее не любил, называл за глаза «блажной старухой», и она действительно была блажной, то кричала, то вдруг начинала изливаться в любви, лила то слезы горя, то слезы радости, то критиковала, как воспитывают детей, и шумела, шумела невыносимо.
Ее отец был наполовину украинец, наполовину грузин, а мать – немка, Магдалина Айхгольц, из немецких колонистов. Теща говорила с грузинским акцентом, вставляла грузинские слова: «Вайме, швило, генацвале, чириме». И тут же немецкое «майн готт»! И непрерывно негодующе воздевала руки к небу: «Майн готт». Это «майн готт» особенно раздражало его, особенно било по нервам.
Старик Аллилуев, Сергей Яковлевич, – старый идиот! Завел в Зубалове верстак, инструменты, точит, паяет, чинит замки и у себя, и на соседних дачах. Этакий истинный пролетарий, «золотые руки».
ОН приезжает на дачу, а тут является какая-то девчонка и просит Сергея Яковлевича прийти починить замок.
А?! Каково?!
ОН сидит на веранде, а у него соседская девчонка спрашивает: «Где Сергей Яковлевич?» – «Зачем тебе Сергей Яковлевич?» – «Замок починить». ЕГО дачу превратили в слесарную мастерскую! И не переубедишь, физический труд, видите ли, облагораживает. Из марксистов-идеалистов. Из общества старых большевиков. Заседает с ними, разглагольствует, как и они. Мемуары пишет. Полдня чужие замки чинит, полдня мемуары пишет.
Что такое общество старых большевиков? Богадельня! Во время январского процесса Зиновьева – Каменева возмущались, пытались даже какие-то решения принимать. Особенно усердствовал Ваня Будягин. Нельзя судить старых большевиков. А почему нельзя? Почему дорогой Ваня не возмущался, когда высылали за границу Троцкого, когда посадили в тюрьму Смирнова Ивана Никитича, Смилгу, Раковского и других троцкистов? А вот по кировскому делу запротестовал. Почему именно по кировскому? Ведь личный друг Кирова, казалось бы, наоборот, должен быть беспощадным, а он против суда над его убийцами и их вдохновителями. Что-то знает? О чем-то догадывается?
Осиное гнездо! Какую пользу приносят? Почему отделяются от партии? Хотят создать особое положение для так называемых старых большевиков, хотят представить себя единственными представителями большевистских традиций, блюстителями ленинского наследия, хотят стать высшим партийным судом, «совестью» партии. Охранителями ее единства. От кого охраняют? Они не партию, они себя охраняют – бывшие троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, уклонисты и оппозиционеры всех мастей, убеждены, что их сила в сплоченности, единстве, монолитности, круговой поруке. Ошибаются. Связи, которые они называют деловыми, рабочими, партийными, дружескими, окажутся связями преступными – достаточно показаний одного, чтобы заподозрить многих, достаточно показаний многих, чтобы виновными стали все.
Теперь помалкивают. Молчание – тоже форма протеста.
Что издают в своем издательстве? Что они там пишут? Создают свою историю. Не историю, нужную партии, а историю, нужную им самим, в которой прежде всего нет места товарищу Сталину. Это, видите ли, личные воспоминания, мемуары.
Человек знает только то, в чем он сам участвовал, знает только частное, а не общее, это заставляет его фантазировать, а следовательно, искажать события. Это вредно для освещения истории партии.
Чем же еще занимаются эти так называемые старые большевики?
Ссорятся, меряются своими заслугами, обвиняют друг друга в сотрудничестве с царской охранкой и тем только компрометируют звание старого большевика. Приходится разбирать их склоки, их ссоры – КПК только этим и занимается. Разве у товарища Емельяна Ярославского нет другой работы, как разбирать их склоки?
Кстати, товарищ Емельян Ярославский – председатель этого общества. Конечно, почетно быть председателем общества старых большевиков, но товарищу Емельяну Ярославскому следовало бы подумать, кому это общество нужно. Кому и чему оно служит?
Между прочим, дорогой товарищ Емельян – еще и староста общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Конечно, это тоже почетно, тем более Емельян Ярославский родился в Чите, в семье ссыльнопоселенцев. Но опять же товарищу Емельяну следовало бы подумать, кому это общество нужно. Тоже богадельня, но уже для меньшевиков, эсеров, анархистов и просто бывших уголовников, выдающих себя за политических. Издают журнал «Каторга и ссылка», кого они там печатают? Чьи имена упоминают? Имеют чуть ли не пятьдесят филиалов по Союзу – что там за люди? Для чего эта организация? Чуждые люди, потенциальные враги Советской власти.
Пусть товарищ Ярославский сам внесет в ЦК предложение о ликвидации и общества старых большевиков, и общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
Ярославский – умный человек, знает, как все сделать. В июле двадцать восьмого года на Пленуме ЦК хорошо одернул Крупскую: «Дошла до того, чтобы позволить себе к больному Ленину прийти со своими жалобами на то, что Сталин ее обидел. Позор! Нельзя личные отношения примешивать к политике по таким большим вопросам».
Хорошо сказал. Внес ясность, нужную ясность в весь тот злосчастный эпизод, показал истинную виновницу, подчеркнул ЕГО, товарища Сталина, благородство, принесшего свои извинения, принявшего все на себя, чтобы успокоить больного Ленина. Молодец! Отдельные такие имена надо сохранить в партии. Общество старых большевиков будет ликвидировано, зато старый большевик Емельян Ярославский останется.
Начало свежеть, и Сталин вошел в дом.
Заднюю большую комнату он велел обставить так, чтобы она могла служить ему и кабинетом, и спальней, даже столовой, когда в доме не бывало гостей. Только бездельники любят слоняться из комнаты в комнату, а занятый человек все должен иметь под рукой.
У дивана, на котором он спал, стоял столик с телефонами, у противоположной стены – буфет с посудой, там же в одном из ящиков лежали нужные лекарства. Письменный стол Сталин ставить не разрешил – письменный стол придал бы комнате казенный вид, а здесь не присутствие, здесь жилой дом. Да и работать он мог за большим столом, где лежали бумаги, газеты, журналы, здесь же, на краю, стелили и скатерть, когда приносили обед, завтрак или ужин.
Так и сейчас, когда он вошел, накрывала на стол зубаловская экономка Валечка, веселая молодая миловидная женщина.
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, я вам ужин принесла.
Она, как всегда, смотрела на него с обожанием и преданностью.
– Спасибо, – ответил Сталин.
А ведь он приказал Власику ни одного человека из зубаловской обслуги в Кунцево не брать.
Валечка накрыла все салфеткой.
– Через полчаса заберете, – сказал Сталин.
– Ладненько! Будет сделано.
Валечка вышла.
Сталин поужинал. Ел мало. Отщипнул кусок хлеба, чуть смазал маслом, выпил рюмку сухого вина, полчашки слабого чая. Просмотрел газеты.
Ровно через полчаса явилась Валечка.
– Поели, Иосиф Виссарионович?
И по-прежнему смотрела на него весело и преданно, счастливая возможностью ему услужить, ловкая, простая женщина.
– Да, спасибо.
Валечка собрала все со стола, поставила на поднос, улыбнулась Сталину, пошла к двери, держа поднос на поднятой руке.
– Пусть ко мне зайдет Власик! – приказал Сталин.
– Ладненько! Будет сделано.
Сталин дочитал газету, встал, прошелся по комнате.
На полу лежал ковер, другой висел над диваном. Эти два ковра да еще камин – вот и вся роскошь, которую он себе позволил.
Дверь открылась, на пороге стоял Власик, стоял по стойке «смирно», по-солдатски выпучив глаза на Сталина.
Сталин посмотрел на него так, как только он один умел смотреть.
Власик стоял ни жив ни мертв.
Сталин снова прошелся по комнате, стал перед Власиком.
– Я вам приказал ни одного человека из зубаловской обслуги сюда не переводить.
– Так точно, товарищ Сталин, приказывали.
– Почему нарушили?
– Никого не перевели, товарищ Сталин, кроме товарищ Истоминой Валентины Васильевны.
– Почему без моего разрешения?
– Вас как раз не было, товарищ Сталин. Мы, значит, собрались, обсудили и решили перевести только товарищ Истомину Валентину Васильевну, поскольку она, то есть Истомина Валентина Васильевна, знает, как подать, как унесть. Человек проверенный.
– С кем вы собрались, обсудили и решили?
– С товарищ Паукером.
Сталин отвернулся, подошел к застекленной двери, выходящей на террасу, поглядел на сад.
– Большое собрание… И долго обсуждали?
– Да, – начал Власик и умолк.
Сталин отошел от двери, переставил чернильницу на столе.
– Я спрашиваю, сколько времени вы это обсуждали – час, два, три?
– Час, – едва слышно проговорил Власик, забыв добавить «товарищ Сталин».
Теперь Сталин смотрел на Власика в упор.
– Вы добрый, значит, перевели Истомину сюда, а я, значит, злой, должен прогнать ее отсюда?!
Власик молчал.
– Я должен ее прогнать? – переспросил Сталин.
– Что вы, – забормотал Власик, – товарищ Сталин, мы это моментально…
– Моментально?! – Сталин наконец взорвался: – Болван! Из-за болвана я должен человека прогонять?! Я лучше тебя, дурака, прогоню… Собрались, обсудили и решили… Идиоты!
Сталин снова отошел к застекленной двери террасы, не оборачиваясь, проговорил:
– Идите!
В эту ночь Николай Сергеевич Власик, грубый, невежественный солдафон, впервые в жизни пожаловался на сердце. А ничего не подозревавшая Валечка проработала в Кунцеве до самой смерти Сталина.
С западной террасы, которая примыкала к комнате, был выход в сад. Последние лучи солнца пробивались сквозь кусты сирени. Сталин накинул на плечи шинель, снова вышел на террасу, присел в кресло.
Давно надо было уехать из Зубалова.
Кремлевскую квартиру он переменил после смерти Нади, а с переездом на дачу задержался, напрасно – пока строилась «ближняя», можно было ездить на любую из «дальних». Только не в Зубалово. Раньше, при Наде, он еще терпел эту родню, но после ее смерти все там напоминало о ней. И они напоминали о ней. Во взгляде стариков чувствовался укор.
И зачем она это сделала?
Говорят, у него трудный характер. А у кого из великих легкий характер? С легким характером великих не бывает. Видела, какую титаническую борьбу он ведет, видела, как на него нападают, клевещут, плетут интриги, или не понимала, какое государство он получил в наследство и какое государство он должен создать?! Не хотела понимать! Как была петербургской гимназисткой, так и осталась гимназисткой из мещанской семьи.
Истинная аристократка себе такого бы не позволила. Не случайно государи женятся только на женщинах царских кровей, те с молоком матери впитывают в себя понимание того, что интересы династий выше всего.
Даже дочери оскудевших немецких баронов это понимали. Все прощали своим царственным мужьям – и измены, и жестокость, понимали, что такое царствовать. Екатерина Первая была простой прислугой – какая она царица? Меншиков ею управлял, как хотел. А Екатерина Вторая, хоть и из мелкого княжеского рода, сама всеми управляла.
Покончить с собой! Жена какого царя позволила бы себе такое? Нигде и никогда этого не бывало. Понимали, что такое царствование! Не смели бросать тень на царственного супруга. Даже в заточении, даже в монастыре не кончали с собой.
Ну хорошо, не было в ней царственности, не понимала ЕГО значения, считала ЕГО одним из руководителей, не понимала ЕГО роли, не понимала своей роли. К тому же наслушалась всякой чепухи в своей академии, понадобилась ей эта академия – факультет искусственного волокна! А! Очень нужно ей искусственное волокно! Авель, подлец, уговорил. Наслушалась там оппозиторов. Как она смела их слушать?! Она не смела их слушать! Должна была прекратить всякие разговоры! Должна была вести себя так, чтобы с ней даже не смели говорить о НЕМ, а она, наоборот, повела себя так, что с ней смели говорить о НЕМ.
И она слушала.
Самолюбивая, властная, хотела всем управлять, а оказалось, что ИМ управлять нельзя, ОН сам должен управлять. Сопротивлялась ЕМУ, ОН хорошо видел: молчит, а сама против каждого ЕГО слова. Женщина! Не умеешь быть женой, так будь хоть матерью. На кого бросаешь своих детей? Василий, ладно, мальчик, вырастет, а Светланка – шесть лет девочке, шесть лет, – на кого ее бросила?! На ЕГО плечи переложила?
Учителя в школе жалуются на Василия – плохо учится, дурно ведет себя, ОН сам ездил в школу объясняться, САМ – пусть народ знает, что свои отцовские обязанности он выполняет, как обыкновенный советский человек. Но ведь эти обязанности должна выполнять мать. Ушла от своих обязанностей, дезертировала, отомстила ему – за что?
А ведь любил ее. Помнит день, когда увидел ее совсем маленькой, трехлетней девочкой. После побега из Уфы он пришел к Аллилуевым и внимания не обратил на нее, а вот помнит тот день в Тифлисе… Не заметил, а помнит.
Заметил ее уже в 1912 году, когда с Силой Тодрия пришел к Аллилуевым в Петербурге на Сампсониевский проспект. Он увидел красивую одиннадцатилетнюю девочку, на вид ей можно было дать лет тринадцать. По грузинским обычаям – невеста. Серьезная, замкнутая, малоразговорчивая в отличие от сестры своей Ани.
Он стал часто бывать у Аллилуевых, иногда ночевал в маленькой комнатке за кухней, спал на узкой железной кровати.
В феврале на масленицу они катались на низких финских саночках – «вейках», как их тогда называли, украшенных разноцветными лентами, звенящими колокольчиками и бубенцами, с запряженными в них коренастыми лошадками с заплетенными гривами. Аня, здоровая уже девица, визжала, когда подскакивали на сугробах, манерничала, а Надя сидела спокойная, неразговорчивая, прелестная девочка в круглой меховой шапочке, шубке и ботинках на стройных ножках.
И наконец, март, весна 1917 года… Он приехал в Петроград и сразу отправился на Выборгскую, но оказалось, что Аллилуевы переехали, живут вблизи торнтоновской фабрики, пришлось добираться туда паровичком. Застал дома только Аню. Надя была на уроке музыки.
Кого ОН ждал тогда? Стариков Аллилуевых ждал, конечно, к ним приехал. А ведь на самом деле ждал, когда придет эта девочка. Пришел сам Аллилуев, они сидели с ним на кухне за самоваром, и вдруг в дверях кухни появилась Надя. В такой же шапочке и шубке, но высокая, стройная шестнадцатилетняя красивая девушка, похожая на отца, Сергея Яковлевича, у того бабка была цыганкой, и у Нади большие черные глаза, смуглая кожа, ослепительно белые зубы.
Она сняла пальто, осталась в гимназической форме, помогала накрывать на стол, исподлобья поглядывая на НЕГО. И, когда сидели за столом, так же молча, внимательно и серьезно слушала разговор, слушала, что ОН рассказывает. И потому ОН не поддерживал политическую болтовню Сергея Яковлевича, а рассказывал о ссылке, о Сибири, о рыбной ловле, о том, как, живя со Свердловым, старался вне очереди ходить за почтой, чтобы увильнуть от работы по домашнему хозяйству. Смешно рассказывал.
Его уложили тогда спать на кушетку в столовой, там же на другой кушетке спал Аллилуев. За тонкой перегородкой спали Ольга Евгеньевна и Аня с Надей. ОН слышал их смех, приглушенные голоса. Потом старик Аллилуев постучал кулаком в стену.
– Угомонитесь!.. Спать пора!
Помнится, ОН тогда громко сказал:
– Не тронь их, Сергей, молодежь, пусть смеется.
Он нарочно сказал «молодежь». Держался как старший, как друг отца, но он на тринадцать лет младше Аллилуева, тогда ему было 38 лет, а Аллилуеву уже за пятьдесят. И он хотел, чтобы Надя сама бы отметила эту разницу, неправомерность того, что он держится с отцом как сверстник, чтобы подумала: «Какой вы старик! Вы молодой!» Не сказала бы так, а только подумала.
Если бы сказала, было бы нехорошо, звучало бы комплиментом, утешением, Аня, дурочка, могла бы так сказать, а она – нет, не могла и не сказала. И он тогда это оценил – умная. И видел ее интерес к нему, не просто интерес к революционеру-подпольщику, прошедшему тюрьмы и ссылки, такой интерес проявлялся всей молодежью. Ее интерес был особенный.
Утром опять все вместе пили в столовой чай. Надя была совсем уже знакомая, домашняя, пришла с улицы, принесла утренние газеты, положила на стол, как бы для всех, но ОН чувствовал: это знак внимания к НЕМУ.
Потом, помнится, в воскресенье они ехали на крыше двухэтажного вагончика, ОН, Надя, Федя, Аня. Аллилуевы собирались переезжать с Невской заставы поближе к центру и послали сына и дочерей искать новую квартиру. И, как было решено, там будет комната и для НЕГО. Кажется, он тогда еще, смеясь, им напомнил:
– Обо мне не забудьте… И для меня снимите комнату… Не забудьте, – повторил он, выходя из вагончика, и погрозил пальцем.
И, когда он погрозил пальцем, Надя первый раз улыбнулась. Это он хорошо помнит: именно тогда она первый раз улыбнулась не его шутке, а именно ЕМУ улыбнулась.
Они сняли квартиру на 10-й Рождественке, в доме № 17а, хорошую квартиру на шестом этаже: просторная прихожая, большая комната – столовая, она же спальня Аллилуева и Феди, спальня Ольги Евгеньевны, Ани и Нади и в конце коридора обособленная комната для НЕГО.
В сущности, ОН стал членом их семьи. Почти каждый день видел Надю – его влекло к этой девочке, красивой, молчаливой, загадочной. И ее тянуло к нему – он это видел, понимал… Но он был занят Революцией, впервые открыто, легально был занят Революцией – она совершалась на его глазах, он был ее участником, работал в «Правде», часто ночевал в редакции, жизнь на ходу, на ногах. Шла борьба, судьба его, судьба всего их движения – все было неясно. Может ли он сейчас связать жизнь этой девочки со своей жизнью, бурной и переменчивой? Он старше ее на двадцать два года. На Кавказе это не помеха, на молоденьких женятся и более пожилые люди. И в ее возрасте часто увлекаются взрослыми мужчинами.
Но она, как и ее отец, революционная идеалистка, не смотрит ли она на него через романтические очки? А ведь семья – это не романтика, далеко не романтика. Он уже попробовал это один раз. Что получилось? Растет в Тифлисе сын, которого он не знает, которого он почти не видел. Была жена – тоже чужой ему человек. Семья для революционера – обуза… Тем более обуза сейчас, когда совершается Революция. И Революция – не время для свадьбы. Все его товарищи женаты. Жены – их товарищи по партии. Не женщины… Нет!
Надя, конечно, им не чета. Это совсем другое. Но и время другое… Надо утвердить свое положение в партии. Приехав в Петроград 12 марта, ОН уже 15 марта им показал, КТО здесь истинный руководитель. В борьбе за руководящую роль в партии он маневрировал, это было неизбежно в тех условиях и дало результат – во время Октябрьской революции он стал одним из руководителей партии, членом Политбюро ЦК и членом первого Советского правительства. ОН не бегал, как другие, по митингам, не ораторствовал, ОН работал. И когда все определилось, ОН пошел с Лениным до конца, и никто ЕГО сейчас ни в чем упрекнуть не может.
В те дни ему было не до личных дел. Он видел Надю в те редкие часы, когда появлялся на Рождественке, эта девочка волновала его, но было не до того. Он не имел времени даже подумать об этом.
За него подумала она.
Памятный июньский день. Он сидел в маленькой комнате редакции, писал что-то, в комнату входили люди, выходили, он не обращал внимания, кто входит, кто выходит, только раздражался – хлопают дверью, он всегда не любил этот звук. Но тут приходилось терпеть, и он терпел.
И только один раз оглянулся, когда открылась дверь. Почему оглянулся?
В дверях стояла Надя. Ее он увидел. Потом увидел и Аню.
Был пустой разговор. Отчего так долго не появляется… Его комната ждет его. Все это пустое. Главное – она пришла к нему. Значит, хотела видеть его.
Аня сказала:
– Вы давно не приходили. Мы беспокоимся о вас.
А зачем беспокоиться? Нет оснований беспокоиться. Они дома каждое утро получают газеты, читают его статьи, знают: жив – здоров. Надя пришла его повидать… Соскучилась. Вот это важно, это главное. И когда увидел ее, стоящую в дверях, высокую, стройную, красивую, он и решил, что эта девушка будет его женой.
С этого дня он стал чаще бывать дома, на Рождественке.
Аллилуевы заботились о нем, кормили, даже купили ему костюм. Больше всех хлопотала Аня, но истинной хозяйкой в доме была Надя, самая младшая. Ольга Евгеньевна, Аня суетились, громко, на всю квартиру переговаривались, мешали ему своим криком. А Надя, в фартуке, с щеткой, тщательно убирала квартиру, ставила все на свое место, любила порядок, чистоту – и все молча, без суеты, без крика. Настоящая хозяйка!
Вечерами она играла на пианино, для себя играла и, когда приходил ОН, переставала играть.
– Почему не играешь, зачем перестала? – спрашивал он.
– Отдыхайте, – отвечала она, – не буду вам мешать.
Она училась в гимназии, слыла там большевичкой, высмеивала в классе «душку Керенского», отказалась жертвовать деньги в пользу каких-то обиженных царских чиновников. Но все это он слышал не от нее, а от Ольги Евгеньевны.
Иногда вечерами все сидели дома, ОН просил ее почитать Чехова. ОН любил Чехова и любил, когда его читала Надя. Хорошо читала.
Аня тоже читала, но плохо, не могла удержаться от смеха, прерывала чтение, покатывалась с хохоту – ничего не разберешь… Надя читала, никогда сама не смеялась, а если смеялись слушатели, делала паузу и снова читала. Читала «Хамелеона», «Унтера Пришибеева», «Душечку» тоже читала, но, как казалось ЕМУ, без особого удовольствия.
Иногда к ней приходили подруги. Он слышал их молодые девичьи голоса… Потом они переходили на французский… Он злился, точно они говорят по-французски, чтобы что-то скрыть от НЕГО, выходил нахмуренный. Но то, что Надя знает французский, играет на фортепьяно, ее серьезность, сдержанность привлекали ЕГО.
Как-то он прилег на постель и проснулся от оклика:
– Иосиф!
Он открыл глаза. В дверях стояла Надя… Он сразу почувствовал запах гари, тлело одеяло – он заснул с трубкой в руках…
Она открыла окно. Он вскочил, закатал одеяло. Потом вбежали Ольга Евгеньевна, Аня. Засуетились. Заохали. Надя улыбнулась ему, помахала рукой, вышла из комнаты.
Через год, в восемнадцатом, он на ней женился. И сразу увез в Царицын. Но потом вернул в Москву и больше в поездки не брал.
С какого времени между ними начались трения?..
Наверно, сразу после рождения Светланы… Она тогда вдруг с Васей и грудной Светланой уехала в Ленинград к родителям, объявила, что больше не вернется. Назвала его грубияном, хамом. Такого он никому бы не простил, а ей простил: женщины после родов, говорят, нервные, истеричное начало проявляется у них с особой силой.
Он ей простил, позвонил в Ленинград, просил вернуться, хотел даже сам за ней ехать. Она насмешливо ответила: «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству». И вернулась сама.
Что вложила она в эти слова? «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству». Тогда он подумал, что это ее обычная насмешка, обычное женское ехидство. Теперь он понимает это по-другому. Его приезд в Ленинград через несколько месяцев после Четырнадцатого съезда, после разгрома зиновьевской оппозиции, после смены ленинградского руководства никому не нужен. Киров не хотел ЕГО приезда в Ленинград. Там завязалась их нежная дружба.
Уже перед самой смертью она объявила, что, как только кончит академию, уедет в Харьков к Реденсам, будет там работать.
Ему донесли ее разговор с няней. «Все надоело, все опостылело, ничто не радует». Что значит «ничто»?! А дети?
Все делала назло ему.
Знала, что ОН ненавидит духи, считает, что от женщины должно пахнуть только свежестью и чистотой. А она душилась, да еще заграничными духами, их привозил ее братец Павел, и назло одевалась в заграничные платья, которые привозил тот же Павел и дорогие, милые Сванидзе. Сидит в академии среди простых советских людей и пахнет заграничными духами. ЕГО жена… А?!
Зачем Павел подарил ей пистолет? Зачем женщине пистолет? Кому придет в голову дарить женщине пистолет?! Не готовил ли он ее исподволь к ЕГО убийству? После того, что случилось, ОН приказал отобрать у него пропуск в Кремль. Мало, мало! Он подумал о Павле с ненавистью. Надо строго наказать его. Пусть знает!
Теперь он уже не женится.
Народ его поймет. Потерял любимую жену, не хочет другой – так это поймет народ. Хороший отец не хочет своим детям мачехи – так это поймет народ. И он не хочет своим детям мачехи – новые осложнения, новая родня, новые склоки. Его одиночество много добавит к ЕГО простоте, которая так импонирует и народу. Даже позаботиться о нем некому.
ОН не ездит на заводы и фабрики, не митингует, выступает только в исключительных случаях: на съездах, на пленумах, с короткими приветствиями в печати. Каждое его выступление должно быть событием. И здесь прав Пушкин:
- Будь молчалив; не должен царский голос
- На воздухе теряться по-пустому.
- Как звон святой, он должен лишь вещать
- Велику скорбь или великий праздник.
Как сказано!
Надо проследить, проверить, как идет подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. Конечно, в Пушкине есть и много неприемлемого, но это неприемлемое надо направлять против тогдашнего царя Николая Первого и его окружения. И надо выпячивать то, что нужно, что выгодно нам. Ведь это он возвеличил Петра: «Медный всадник», «Полтава», «Арап Петра Великого»… Да, когда надо было, Пушкин восхвалял и существующую власть, защищал ее внешнюю политику.
Жалко, что в ЕГО эпоху нет поэта масштаба Пушкина.
Впрочем, почему жалко? Наоборот, это закономерно: рядом с великими правителями не бывает великих поэтов. Какие великие поэты были при Александре Македонском, Чингисхане, Наполеоне, Иване Грозном, Петре Великом? И наоборот: Гомер, Гете, Шекспир, Пушкин, Толстой – при каких царях они были? Кто этих царей помнит? Великий поэт претендует на роль духовного главы народа. Великий правитель – сам духовный глава народа, и рядом с ним никакого другого духовного главы быть не может.
Но все это так, кстати… Разбегаются мысли. Нехорошо. Надо уметь сосредоточиваться… Да… теперь он уже не женится.
Брата первой жены Сталина Екатерины Семеновны Сванидзе, старого большевика Александра Семеновича (Алешу) Сванидзе арестовали в 1937 году и через пять лет – в 1942 году – расстреляли.
Перед расстрелом ему сказали, что, если он попросит прощения у товарища Сталина, тот его помилует.
– О чем я должен просить? Ведь я никакого преступления не совершал, – ответил Сванидзе.
И его расстреляли. Когда об этом доложили товарищу Сталину, он сказал:
– Смотри, какой гордый, умер, но не попросил прощения.
Тогда же – в 1942 году – в лагере в Казахстане погибла его жена Мария Анисимовна.
Их сын Джоник (Иван Александрович) сидел в тюрьме вместе с уголовниками и был освобожден только в 1956 году.
Сестра первой жены Сталина Екатерины, Марико, была арестована в 1937 году и очень быстро погибла в тюрьме.
Анну Сергеевну Аллилуеву, сестру второй жены Сталина Надежды, арестовали в 1948 году, приговорили к десяти годам тюремного заключения. Она сидела в одиночной камере Владимирской тюрьмы и была освобождена после смерти Сталина. Ее мужа Станислава Францевича Реденса расстреляли в 1938 году.
Павел Аллилуев, брат жены Сталина Надежды, служил в бронетанковом управлении, пытался защищать невинно репрессированных сотрудников, после чего Сталин перестал его принимать. В 1938 году Павел неожиданно скончался в возрасте сорока четырех лет.
Его жену Евгению Александровну Аллилуеву арестовали 10 декабря 1947 года и приговорили к десяти годам тюремного заключения. Когда Евгению Александровну 2 апреля 1954 года освободили, она уже в Москве, придя домой, сказала сыну: «А все-таки наш родственник нас освободил». Она не знала, что Сталин уже год как умер.
Киру Павловну Аллилуеву, дочь Павла и Евгении, арестовали в 1948 году и освободили после смерти Сталина.
Сын Сталина от первой жены Яков летом 1941 года попал в немецко-фашистский плен, вел себя мужественно и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1943 году.
Его жену Юлию арестовали в Москве осенью 1941 года и освободили вскоре после гибели Якова.
9
Первой в доме заметила беременность Лены Ашхен Степановна.
После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, она задержала Лену в столовой.
– Останься, мне бы хотелось поговорить с тобой…
Они сели за стол друг против друга.
– Скажи мне, Леночка, я не ошиблась, ты беременна?