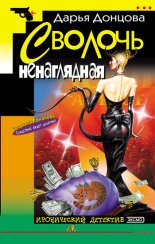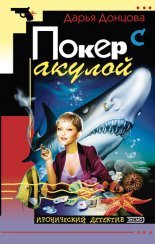Страх Рыбаков Анатолий
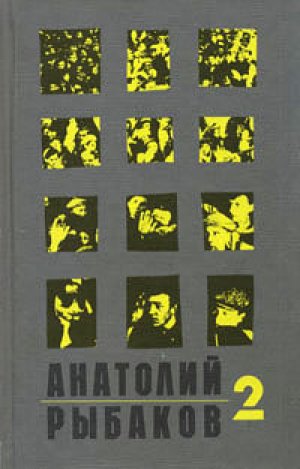
От автора
Роман «Страх» – это продолжение романа «Дети Арбата». «Дети Арбата» кончаются убийством 1 декабря 1934 года С. М. Кирова. В обстановке массового, беспощадного, невиданного в истории террора, последовавшего за этим убийством, и происходит действие романа «Страх» (1935–1937 гг.).
В новом романе читатель встретится как с героями, знакомыми ему по «Детям Арбата», так и с новыми и, думаю, получит представление о том, как жили советские люди в то страшное время.
Ученые утверждают, что способность человека к физическому выживанию в самых невероятных условиях – поразительна, порой безгранична. Этого нельзя сказать о выживании моральном: приспособляемость в нравственно деформированном обществе деформирует личность. Это тема романа. И все же деформация – процесс обратимый. И это тоже тема романа.
Анатолий Рыбаков
Арбатское вдохновение, или Воспоминания о детстве
Антону
- Упрямо я твержу с давнишних пор:
- меня воспитывал арбатский двор,
- все в нем, от подлого до золотого.
- А если иногда я кружева
- накручиваю на свои слова,
- так это от любви.
- Что в том дурного?
- На фоне непросохшего белья
- руины человечьего жилья,
- крутые плечи дворника Алима…
- В Дорогомилово из тьмы Кремля,
- усы прокуренные шевеля,
- мой соплеменник пролетает мимо.
- Он маленький, немытый и рябой
- и выглядит растерянным и пьющим,
- но суть его – пространство и разбой
- в кровавой драке прошлого с грядущим.
- Его клевреты топчутся в крови…
- Так где же почва для твоей любви? —
- вы спросите с сомненьем, вам присущим.
- Что мне сказать? Я только лишь пророс.
- Еще далече до военных гроз.
- Еще загадкой манит подворотня.
- Еще я жизнь сверяю по двору
- и не подозреваю, что умру,
- как в том не сомневаюсь я сегодня.
- Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
- его убогость и его простор,
- и аромат грошового обеда.
- И льну душой к заветному Кремлю,
- и усача кремлевского люблю,
- и самого себя люблю за это.
- Он там сидит, изогнутый в дугу,
- и глину разминает на кругу,
- и проволочку тянет для основы.
- Он лепит, обстоятелен и тих,
- меня, надежды, сверстников моих,
- отечество… И мы на все готовы.
- Что мне сказать? На все готов я был.
- Мой страшный век меня почти добил,
- но речь не обо мне – она о сыне.
- И этот век не менее жесток,
- а между тем насмешлив мой сынок:
- его не облапошить на мякине.
- Еще он, правда, тоже хил и слаб,
- но он страдалец, а не гордый раб,
- небезопасен и небезоружен…
- А глина ведь не вечный матерьял,
- и то, что я когда-то потерял,
- он в воздухе арбатском обнаружил.
Часть первая
1
В положенный день не пришла почта. Не пришла она и через неделю. Но сани из Кежмы приходили к Федьке, к продавцу, привозили что-то.
Саша зашел в лавку. Федя дверь не открывал, пускал через заднее крыльцо, через кладовку.
– Тебе товары привезли?
– Привезли кой-чего.
– А почты почему нет, не знаешь?
– Кто знат. Тебе, может, чего в долг записать?
– Ничего не надо, спасибо.
Зашел Саша и к Всеволоду Сергеевичу. Тот лежал на кровати, укрытый хозяйской барчаткой – длинным полушубком до пят, со сборками на поясе.
– Заболели?
– Здоров.
– Чего же лежите?
– А что делать?
– Почему почта не приходит?
– Почта? Почты вам захотелось? Вам сейчас другую почту преподнесут.
– Не понимаю.
– Не понимаете… А что происходит в стране, понимаете? Враги рабочего класса убили товарища Кирова, а вы хотите, чтобы этим врагам аккуратно доставляли почту. Да вы что, Саша?! Властям надо изготовиться для ответного удара. Такого удара, чтобы дрогнула земля Российская. Чтобы неповадно было убивать вождей рабочего класса, чтобы враги рабочего класса, личность которых еще выясняется, не смели бы подсылать убийц, личность которых тоже еще выясняется. А вы письма ждете, по газеткам соскучились. Какие письма врагам рабочего класса? Чтобы они сговорились, как избежать возмездия за совершенное убийство? Какие газеты? Чтобы они могли сориентироваться в событиях, чтобы могли маневрировать? Нет, дорогой, такой возможности вы не получите. Еще скажите спасибо, что вас не трогают, не заставляют в такой мороз шествовать до Красноярска.
– Ладно, – засмеялся Саша, – не пугайте меня, а главное, не пугайте себя.
Всеволод Сергеевич сел на кровати, уставился на Сашу.
– Вы давно видели Каюрова?
– Каюрова? На днях встретил на улице.
– Больше не встретите.
Саша вопросительно смотрел на него.
– Да, да, – повторил Всеволод Сергеевич, – его увезли сегодня ночью, подъехала кошевка, побросали его барахлишко и увезли.
– Никто этого не видел, – растерянно проговорил Саша.
– Конечно. Собаки и те не лаяли. Все спали. Вот такие дела. Вы помните своего спутника Володю Квачадзе?
– Конечно.
– Его под конвоем этапировали в Красноярск. И всех его единомышленников и с Ангары, и с Чуны. И всех гольтявинских, Марию Федоровну, бывшую эсерку, Анатолия Георгиевича, бывшего анархиста, и эту красотку… Фриду. Всех подбирают. Скоро и наша с вами наступит очередь. Вам не попадалась в Кежме старуха, ссыльная Самсонова Елизавета Петровна?
– Да, я ее знаю.
Ей Саша передавал от Марии Федоровны деньги – двадцать пять рублей.
– Эту старушку тоже угнали, а ей, между прочим, семьдесят два года.
Саша пожал плечами.
– Молодых – Володю, Фриду, меня – можно отправить в лагерь, все же даровая рабочая сила. Но старуху – ее до Красноярска не дотащат, помрет по дороге.
– Кого это интересует, кого волнует? Предписана определенная акция: ссыльных с такими-то статьями и сроками этапировать в Красноярск. Что же вы думаете, какой-нибудь уполномоченный будет рассуждать: старая, больная, жалко… Да его расстреляют за невыполнение приказа. А так – отправил, выполнил приказ. Умрет по дороге – он за это не отвечает. А дотащат живой до Красноярска, добавят новый срок – и опять отправят – довезут, значит, довезут, не довезут, значит, спишут. Сошлось в отчетности – все правильно. Умер – сделаем отметку, уменьшим общий итог, и вся арифметика. Не знаю, как вам, Саша, вы маломерок, но мне, Михаилу Михайловичу, по их понятиям, рецидивистам, нам, как говорится в песне, «в срок назначенный».
– Ну что ж, – спокойно сказал Саша, – будем дожидаться.
Так они и продолжали жить в своей Мозгове, на краю света, оторванные от мира, но чувствующие, что в мире происходит что-то страшное, что должно вскоре коснуться и их.
С Зидой Саша почти не виделся. В Кежме уволили двух учительниц, у одной муж ссыльный, другая сама в прошлом ссыльная. Сейчас, после убийства Кирова, страну очищали от «сомнительных элементов» и обеих учительниц уволили, их заменили Зидой. С семи до десяти утра она вела уроки в Мозгове, а в десять к школе подъезжали сани, увозили ее в Кежму и уже поздно вечером привозили обратно. Все же Саша, встретив ее на улице, остановился, ласково спросил, как дела. Она отводила глаза, говорила, что все хорошо, только работы много.
– Зида, – сказал Саша, – я был не прав тогда, зря обидел тебя и очень жалею об этом. Если можешь, прости меня.
Она наконец подняла на него глаза.
– Ладно, Сашок, что было, то прошло.
– Я хочу, чтобы мы остались друзьями.
– Конечно, – Зида улыбнулась, – конечно, как же иначе.
На том разговор и кончился.
Больше они не встречались: Зида была то в Мозгове, то в Кежме, а Саша нашел работу.
* * *
Лютые морозы стояли в январе 1935 года. Старые ангарцы таких не помнили. Сидели по избам, говорили: «Не зима, а зимища».
Много хлопот было у председателя колхоза Ивана Парфеновича. Конечно, разместить двести коров в деревне, где их недавно было две тысячи, несложно: женщин в колхозе хватало, и привычки к уходу за животными в них еще не истребили.
Но уследить за общим стадом, размещенным в десятке дворов, непросто. Большинство коров были стельными, и кормить надо внимательно, и поить нехолодной водой не менее трех раз в сутки, а воду ту с Ангары, с проруби таскают, и подстилку надо чистую, свежую, и прогулять хоть 2–3 часа в день, и беречь от падений, ударов, а когда начнется отел, перевести в специальное родильное отделение – так инструкция требует. Коров стало в десять раз меньше, инструкций – в десять раз больше. И от сквозняков надо беречь, чтобы не застудить корову, а скотные дворы пообветшали, поразвалились, кто за ними смотрит, если скота нет.
Колхоз уже третий год как строил молочную ферму, попросту сказать, большой двухрядный коровник. Но строительство не двигалось, то одно мешало, то другое.
Стали в районе отчет составлять, оказалось, нигде молочных ферм не строят… Обходятся частными скотными дворами. Начальство, конечно, переполошилось: срыв развития животноводства, еще и расстрелять могут как за вредительство. И был дан приказ – к весне, к массовому отелу, фермы закончить во что бы то ни стало.
Иван Парфенович сформировал бригаду, во главе ее поставил Сашиного хозяина Савву Лукича, был он в прошлом хороший плотник, впрочем, в деревне каждый – плотник.
– Может, подмогнешь, – сказал Савва Лукич Саше, – трудодни на меня выпишут, а я тебе отдам.
– А как Иван Парфенович?
– Он и велел, – простодушно ответил Савва Лукич.
И стал Саша плотничать.
В бригаде их было шестеро: Савва Лукич, Саша и еще четыре мужика. Обтесывали бревна. Клали на перекладину, укрепляли с боков скобами, проходили шнуркой – веревкой, которую чернили хорошо обугленным на костре куском дерева, – на бревне остается след, по нему и тешешь топором. Обтесал обе стороны, зовешь мужиков, переворачиваешь бревно, закрепляешь и обтесываешь вторые две стороны, так и получаются четыре канта, потом обтесываешь углы, бревно готово.
Савва Лукич посмотрел, прошелся вдоль бревна.
– Будешь тесать, пойдет.
– Парень молодой, яйца свежие, – посмеялись добродушно мужики.
Хотя и подмораживало крепко, работа была приятной. Стружки ложились возле бревна, пахло свежо, морозно. Мужики привозили каменные глыбы: здесь фундаменты не роют, на камень и кладут обвязку, просвет зашивают тесом, засыпают и опять покрывают тесом.
Саша обтесывал бревна для верхней и нижней обвязок, еще с одним мужиком пилил двухметровые бревнышки, в каждом бревнышке вырубали паз для сухого мха.
– Если бы не клин и не мох, плотник бы подох, – говаривал Савва Лукич. Дома он был молчалив, мастерил что-то во дворе, а здесь, на работе, был разговорчив, прибаутничал.
Другие мужики готовили тес, доски, работали на продольных пилах – один наверху, другой внизу. Работали весело, без раздражения, даже если кто и повел не в ту сторону, испортил, переделывали спокойно, не ругались. Промахнулся, не попал по гвоздю или шипу, шутили:
– Насте своей небось сразу попадаешь.
Спать теперь Саша ложился рано, вставал вместе со стариком на рассвете. У старухи уже был готов для них завтрак, они ели и уходили на работу.
Изредка вечерком заходил Всеволод Сергеевич.
Он как-то потускнел, хотя и пытался бодриться. Приходила к нему какая-то женщина из Кежмы, Всеволод Сергеевич суетился, готовил угощение, женщина была худая, рано состарившаяся.
Однажды Всеволод Сергеевич появился у их коровника, замахал бандеролью.
– Почта пришла! Я захватил ваши газеты и письма.
– Спасибо, дорогой!
Саша сдернул с рук кокольды – оленьи рукавицы с разрезом, удобные для работы зимой, снял исподни – шерстяные рукавицы под кокольдами, надорвал конверт, посмотрел на дату и тут же перевернул страницу: Варины приписки всегда шли в конце. В этом письме ничего от Вари не было. Он надорвал второй конверт, опять нет.
Третий. Наконец-то! Его охватывала радость, даже когда он видел ее почерк. Варя писала коротко: «У меня ничего нового. Живу, работаю, скучаю… Ждем тебя».
А что она еще может открыто написать ему? Ничего… Так же, как и он ей. Но ему достаточно и этих слов. Главное, она ждет его, ему осталось торчать в этой проклятой Мозгове уже меньше двух лет. Вот что главное! И после этого, дадут ему жить в Москве или не дадут, они все равно увидятся!
Улыбаясь, он рассовал по карманам письма.
– Всеволод Сергеевич, идите ко мне, посмотрите пока газеты, мы скоро придем.
Савва Лукич, добрая душа, золотой прямо-таки старик, свернул цигарку.
– Чё письма-то попрятал. Читай, читай.
– Потом посмотрю, – ответил Саша.
Стало смеркаться, кончили работу, сложили инструмент в ящик, запрятали меж бревен.
Дома Всеволод Сергеевич протянул Саше газету.
– Читайте!
– Подождите, дайте хоть раздеться.
Саша снял полушубок, шапку, положил на печь кокольды, рукавицы, переобулся, потом взял газету.
Постановление ЦИК СССР о терроре, опубликованное сразу после убийства Кирова, гласило:
«1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационные обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора».
– Это закон военного времени, – сказал Всеволод Сергеевич, – но ведь войны, кажется, нет. Никакая власть не смеет лишать обвиняемого права на защиту, а это постановление лишает подсудимого не только адвоката, но и возможности защищаться самому – если ему вручают обвинительное заключение за сутки, то он не готов к защите. Никто не смеет лишать обвиняемого права на кассацию, судьи могут ошибиться, никто не имеет права лишать обвиняемого надежды на помилование, без милосердия не могут существовать государства. Постановление хуже законов военного времени, ведь речь в нем идет не о совершенном убийстве, а вообще о терроре против работников Советской власти, это понятие растяжимое – под террор можно подвести все, что угодно, под работником Советской власти можно понимать кого хотите, начиная со Сталина и кончая колхозным счетоводом, которого мужик угрожал прибить за обсчет в трудоднях. Это постановление о неконтролируемом уничтожении невинных и беззащитных людей. Это закон о массовом беззаконии.
Он покачал головой.
– Помните, что сказал Пушкин Гоголю, прослушав первые главы «Мертвых душ»? «Боже, как грустна наша Россия». Что же можно сказать после такого постановления? «Несчастная Россия»?! И заметьте, какая оперативность: 1 декабря убили Кирова – и уже готов и опубликован новый закон. Как это вам, а?
– Я вам не рассказывал, Всеволод Сергеевич, о своем следователе. Дьяков его фамилия. Такой сухарик в очках. Редкостная сволочь. Шил мне дело. И, знаете, обижался, когда я не подписывал протокол, надувал губы: «Вы не хотите разоружаться перед партией». Дерьмо! Почему я о нем вспомнил? Да… Выйди такое постановление года полтора назад, он мог бы и мне предъявить обвинение в терроре. Логика простая. Почему в праздничном номере стенгазеты вы не упомянули имени товарища Сталина? Потому что вы против товарища Сталина. Вы не хотите, чтобы он руководил страной. А как вы можете его устранить? Только убив. Ах, вы никогда не говорили об этом? Еще бы, о таких вещах не распространяются.
Но вы вынашивали это намерение и при благоприятных обстоятельствах его бы осуществили. Вы потенциальный террорист, ваши друзья – потенциальные террористы, все вместе вы – террористическая организация. Значит – суд без защитника, приговор без права обжалования, расстрел через час после суда.
– Да, – согласился Всеволод Сергеевич, – вам в этом смысле повезло.
Саша усмехнулся.
– Выходит, я просто счастливчик. Не выпить ли нам по этому поводу?
– Не возражаю. Кстати, я вам объясню, почему вы действительно счастливчик…
У Саши было немного спирта, хозяйка нарезала копченого хариуса, захлопотала у печи.
Саша перечитывал письма, Всеволод Сергеевич просматривал газеты.
– Что делается, Саша… Повсюду суды, массовые расстрелы, из Ленинграда выслали тысячи дворян, бывших буржуев, детей бывших дворян, детей бывших буржуев – а они за что? А народ?! Народ безмолвствует? Что вы?! Народ не безмолвствует, народ требует расправы. От Владивостока до Одессы митинги: разоблачить, уничтожить, расстрелять! И партия не молчит! Коммунисты каются, бьют себя в грудь, признают свои ошибки: не досмотрели, не доглядели. Но не помогает. Эти покаяния считаются недостаточными, неискренними.
Хозяйка вынула из печи чугунок с картошкой.
Саша позвал к столу Савву Лукича. Сели. Выпили по рюмке, закусили, налили по второй.
– Так почему же я счастливчик? – спросил Саша.
– Потому, что вы находитесь в Мозгове, – сдирая шкурку с рыбы, ответил Всеволод Сергеевич, – вы живете в стерильной обстановке. Будь вы на свободе, вы тоже должны были бы участвовать в этих митингах, требовать расстрела, уничтожения.
– Мог бы и не участвовать.
– Работая на предприятии, вы от митинга никуда бы не ускользнули, вместе со всеми голосовали бы за расстрел, потянули руку вверх, потому что, если бы не потянули, тут же с собрания вас увезли бы куда следует.
– Ну а вы как бы поступили?
– Я? Мне это не грозит. Пока существует Советская власть, мне другой дороги нет: ссылка – лагерь – тюрьма – опять лагерь – опять тюрьма. А проводить такие митинги в лагерях или тюрьмах, я надеюсь, они не додумаются. В тюрьме или в лагере за это руку никто не потянет.
– Но, теоретически, кончился срок, вы живете в каком-то городке, у вас на работе митинг, требуют расстрела врагов, все за это голосуют, а вы будете голосовать?
Всеволод Сергеевич молча сдирал и сдирал шкурку с хариуса.
– Ну так как?
– Не знаю, Саша, честно говорю, не знаю. На этих митингах есть люди, которые искренне верят в то, что им вдалбливают в головы. А кто не верит, те помнят о своих малолетних детках.
– У вас деток нет.
– Вероятно, и я поднял бы руку. Потому что мой единственный голос ничего не изменит, плетью обуха не перешибешь, если я один пойду на плаху, ничего не изменится, их все равно расстреляют и меня заодно с ними. А они признаются, каются, почему я должен погибать за таких слабых людей? Они, коммунисты, сами посылали людей на смерть, теперь их посылают, почему я должен их защищать?
– Но ведь вы говорили, что высылают бывших дворян, бывших буржуев и их детей. Дети-то никого не посылали на смерть. Их-то надо защитить.
Всеволод Сергеевич наконец дочистил рыбу, откусил.
– Хорошая рыба, замечательная рыба. Вы поднимаете серьезный вопрос, Саша, серьезный и актуальный. Но он актуален для вас, Саша, а не для меня: передо мной такой дилеммы никогда не встанет – я на другой орбите. А вы, Саша, на той самой орбите, по которой кружится это государство, вы на их орбите, и вам с нее не сойти, и эта проблема перед вами встанет.
– Ну что ж, – сказал Саша, – когда она передо мной встанет, тогда я буду ее решать. Но ваше решение меня не устраивает.
– Я отказываюсь от своего решения, как от необдуманного, – сказал Всеволод Сергеевич, – просто я говорил о том, как поступил бы на моем месте любой разумный человек: он поднял бы руку, он поступил бы так, как поступают все. В этом трагедия России, в этом трагедия русского народа.
– А как же «особое предназначение народа», а как же его «особая миссия»? Как же его «христианское, православное начало»?
– Саша, вы хотите такими примитивными вопросами опровергнуть нашу… или, скажем так, мою философию?
– Я не философ, – возразил Саша, – но я прихожу к убеждению, что ни у какого народа нет мессианской роли, мессианского назначения. Нет сверхнации, нет сверхнародов, есть люди: хорошие люди, плохие люди. И нужно создать общество, при котором никакие силы не могли бы заставить их быть плохими.
– Всякая идея о совершенном обществе – это иллюзия.
– Да, совершенного общества нет и вряд ли может быть. Но общество, которое стремится стать совершенным, это уже прекрасное общество, – сказал Саша.
– Что-то не видно, чтобы наше общество к этому стремилось. Общество – это люди, а мы их превращаем в нелюдей. – Всеволод Сергеевич встал. – Пойду. Завтра вам на работу. Видите, даже плотничать вам доверили, а мне и этого нельзя.
Саша засмеялся, показал на хозяина.
– У меня протекция. Савва Лукич помог.
– А чего не помочь? – сказал Савва Лукич. – Кончать надо работу-то. Начальство велит.
– Вот и взяли бы меня.
– Ты человек умственный, ученый, тебе наша работа нехороша покажется.
Всеволод Сергеевич ушел.
Саша перечитал мамины письма, снова просмотрел Варины приписки – короткие, сдержанные, но даже в них находил он тайный смысл. «Живу, работаю, скучаю… Ждем тебя».
И он писал ей так же коротко: «Милая Варенька, когда я получаю почту, то сразу же смотрю, есть ли что-нибудь от тебя». Может быть, и она что-то увидит за его словами. Большего он не мог себе позволить. В Москве он не выказывал ей особого интереса, сейчас такой интерес может показаться лишь тоской по воле, по знакомым, просто по женщине. Саша не хотел быть ложно понятым.
Может быть, написав: «Как бы я хотела знать, что ты сейчас делаешь?» – она и повела себя более смело, более решительно, а может быть, он это придумал, просто хотела поддержать его: добрая девочка с добрым сердцем. «Живу, работаю, скучаю… Ждем тебя». Конечно, что-то за этим все-таки есть… Что бы там ни было, но и этих скупых ее приписок он дожидался с волнением. Варина твердая уверенность в будущем обнадеживала и его.
Мамины письма были спокойны, он просил ее поискать в ящиках письменного стола его институтскую зачетную книжку и шоферские права (при обыске их не забрали) и, если найдет, пусть сохранит до его приезда, они ему понадобятся. Написал единственно для того, чтобы успокоить ее, уверить в своем скором возвращении, укрепить в ней надежду на свое освобождение. Сам он на освобождение не надеялся. Попросил также прислать некоторые свои книги о Великой французской революции. Он много занимался ее историей в школе, собирал книги, хотел перечитать. И еще написал, что работает на строительстве молочной фермы, работа приятная, платят хорошо, хватает на еду и жилье, так что денег ему высылать не надо.
Он долго писал письмо. Даже старуха с печи ему сказала:
– Зачем глаза маешь? Стели постелю, ложись.
– Завтра обратная почта пойдет, – ответил Саша, – надо дописать.
Он поздно лег и проснулся, когда Савва Лукич уже завтракал.
– Я мигом, Лукич!
Саша быстро оделся, умылся, принялся за яишню – она уже стояла на столе.
Старик вышел во двор.
– Иди, – сказал ему вслед Саша, – я тебя бегом догоню.
Савва Лукич тут же вернулся.
– Кошевка с милицией…
– К нам?
– Кто знат?
Ничего не собрано, ничего не готово. Саша метнулся было к письмам – не хотел, чтобы их трогали чужие руки, но он ничего не успеет собрать. Ладно, подождут, никуда не денутся.
Вот и все. Кончается жизнь на Ангаре. Где, в каком лагере она будет продолжаться? Наверно, никогда он больше не увидит маму, не увидит отца, не увидит Варю. Он вынул папиросу из пачки, закурил. Посмотрел в окно, оно заиндевело, ничего не видно. Прислушался. И скрипа полозьев не слышно.
Хлопнула калитка. Открылась дверь – вернулся Савва Лукич.
– Пронесло, Саня, – он перекрестился, – слава те Господи.
– Куда поехали?
– За тот угол завернули.
«Тот» означало второй угол, первый угол назывался «этот». За кем же? За Масловым, наверно.
– Лукич, я туда забегу, а потом на работу.
– Иди, иди, – сказал старик, – не торопись, управимся.
Кошевка ждала у дома, где жил Маслов. Тут же стояли Всеволод Сергеевич и Петр Кузьмич.
И только Саша подошел, в дверях показался Михаил Михайлович Маслов с чемоданом в руке и рюкзаком за плечами. Когда успел собраться? Неужели жил с приготовленным чемоданом?
Впереди Маслова шел милиционер с винтовкой и сзади милиционер с винтовкой, высокий прямой парень с презрительно сжатыми губами.
Маслов положил чемодан в сани, снял с плеча и туда же положил рюкзак, повернулся к Всеволоду Сергеевичу. Они обнялись, поцеловались. И с Петром Кузьмичом обнялся и расцеловался. Саше протянул руку. Саша пожал ее, посмотрел Михаилу Михайловичу в глаза, спросил:
– Вы ничего не хотите передать Ольге Степановне?
– У Всеволода Сергеевича есть адрес, он напишет. – И, подумав, добавил: – Спасибо, что вспомнили…
2
Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые два метра, отделяя одно стойло от другого. Ставили в «шип», чтобы создать жесткую конструкцию. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудреными инструментами: топор, пила и ножовка, долото, стамески, рубанок, фуганок, скобелка; как достигается такая точность с помощью отвеса уровня-ватерпаса.
И он мог бы делать такую работу, но сегодня запоздал и его опять поставили тесать бревно для верхней обвязки.
– Проводил товаришша? – спросил Савва Лукич.
– Проводил.
– Куда его угнали-то? – поинтересовался смуглый, горбоносый, сухопарый мужик Степан Тимофеевич.
– Кто знает, – ответил Саша.
– Может, срок вышел, – сказал Савва Лукич.
– На волю, значит? – усмехнулся Степан Тимофеевич. – На волю с милиционером не отправляют.
– В Кежме мужики толкуют – убили кого-то из начальства, в газетах пишут, – сказал другой мужик, его тоже звали Степан, но не Тимофеевич, а Лукьянович, – а убил его троцкист, что против колхозов, чтобы, значит, распустить колхозы энти.
– А куды их теперича распускать, – усмехнулся Степан Тимофеевич, – чего раздавать-то? Чем наделять? Все порушили…
– Ну, ладно, – Савва Лукич опасливо посмотрел по сторонам, – ты того, не больно-то, значит.
– Чего не больно-то?!
– А то, что все, значит, от Бога, – сказал Савва Лукич, – как Господь Бог устроил, так, значит, и идет.
– Бог, Бог, все на Бога валите, – желчно ответил Степан Тимофеевич, – где она, ваша церква? Бог за тебя ничего не сделат, коровник ентот срубит тебе Бог? Коров губим, коровник рубим.
– А ты не руби, – сказал третий мужик, Евсей, как его по отчеству, Саша не знал, звали его просто Евсей, иногда прибавляли неприличную рифму.
– Куды уйдешь от ентого? – злобно ответил Степан Тимофеевич. – Вот, – он показал на Сашу, – кончат срок – уедут хоть куда. А нам, хрестьянам, никуда дороги нет. Беспашпортные мы. Держат на одном месте – не шевелься!
– Какая змея тебя донимат?! – сказал Савва Лукич. – Услышит кто, разбазланит, знаешь, чего от этого быват?
– Знаю, – угрюмо ответил Степан Тимофеевич, – оттого и погибаем, что молчим, уду съели.
– Наше дело работа, весь уповод проговорили.
Действительно, приближался полдень. И они снова принялись за работу.
Мужики хотят поговорить, но, видно, Саша им мешает – чужой человек, при чужом человеке лучше держать язык за зубами…
Через неделю-другую вызвали в Кежму Петра Кузьмича, через сельсовет приказали: явиться такого-то числа.
– Может, отпускают, а? – Он заглядывал в глаза Саше и Всеволоду Сергеевичу. – Срок-то мой еще в ноябре кончился.
– А чего же вы тут сидели, если кончился? – спросил Саша. – Напомнили бы.
– Опасно напоминать, Александр Павлович, напомнишь, а они тебе новый срок пришьют… Ведь не увезли меня, как Михаила Михайловича. И статья у меня не политическая.
– Не политическая! – усмехнулся Всеволод Сергеевич. – Экономическая контрреволюция, ничего себе статейка. Ладно, отправляйтесь в Кежму – узнаете и нам потом расскажете.
Петр Кузьмич ушел в Кежму, Всеволод Сергеевич сказал Саше:
– А ведь могут и отпустить – машина бюрократическая… Срок вышел, никаких распоряжений нет, черт его знает, посмотрим!
К вечеру вернулся Петр Кузьмич, радостный, возбужденный. Освобожден! Показал бумажку. «За отбытием срока заключения… подпадает под п. II Постановления СНК о паспортной системе». Значит, минус – не может жить в больших городах.
– А зачем мне большие города, – возбужденно говорил Петр Кузьмич, – не нужны мне большие города. Родился я и вырос в Старом Осколе, там жена, дочери, родня. Там и буду жить.
– Деньги на проезд у вас есть? – спросил Саша.
– Доберусь… До Кежмы с почтарем договорился, только вещички положит – десятка. Билет до Старого Оскола, думаю, рублей, наверно, 25–30. В общем, в полсотни уложусь. Полсотни у меня найдется.
– А пить, есть…
Петр Кузьмич махнул рукой.