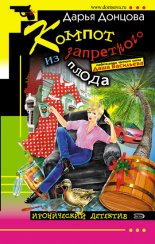Американская трагедия Драйзер Теодор
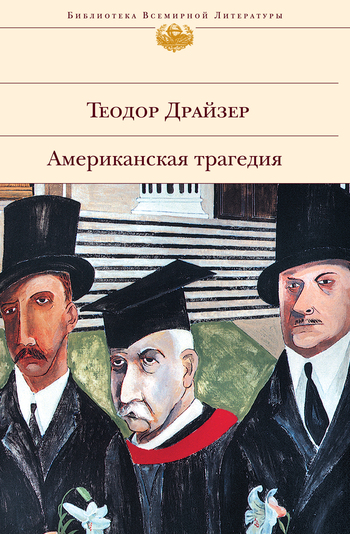
1
Летний вечер, сумерки.
Торговый центр американского города, где не менее четырехсот тысяч жителей, высокие здания, стены… Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города.
И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в шесть человек: мужчина лет пятидесяти, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы, — весьма невзрачная личность; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на пять моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одетая очень просто, с некрасивым, но не уродливым лицом; она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет пятнадцати, мальчик двенадцати и еще девочка лет девяти; все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими.
Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома.
Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье; по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов…
Дойдя до угла, где путь им пересекала следующая улица, — вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, — мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина — это был отец семейства — огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь о том, есть ли у него слушатели:
— Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить господа, может присоединиться к нам. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер.
Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться возможно более безразлично и отчужденно; теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала:
— Я думаю, мы начнем с двадцать седьмого псалма: «Как сладостен бальзам любви Христовой».
Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его:
— Споем же все вместе: «Как сладостен бальзам любви Христовой».
Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела; ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки — девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безликая и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждала интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа, в других — непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые — как бы ни были они слепы и ложно направлены — способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней, больше чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: «Да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте.
Любовь Христа, ты мне опорой будь, Любовь Иисуса — праведный мой путь, -
звучно и немного гнусаво пела она — едва заметная среди громадных зданий.
Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье; ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это сознавал. Только в одном не приходилось сомневаться: у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его — слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтике, владевшей душами его отца и матери.
И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в «миссии», расположенной неподалеку отсюда, — он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго: всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением; он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости; она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас!» или: «Господь укажет нам путь!» — особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И, однако, — это понимали и он и другие дети, — бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо.
В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Ведь другие мальчики не занимаются такими вещами, тут есть что-то жалкое и даже унизительное. Не раз, еще прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами: «Хвала господу», — и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца:
— Грифитс, Грифитс! «Хвала господу» Грифитс!
Или кричали вслед мальчику:
— Вон у этого сестра играет на органчике! А еще на чем она играет?
И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала господу»! Другие так не делают.
В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все; они всегда слишком много занимались религией, а теперь наконец сделали ее своим ремеслом.
В этот вечер, на большой улице с высокими домами, — шумной, оживленной, полной движения, — мальчик со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него, — и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи.
В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрестанно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка: некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне.
— Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер — два-три раза в неделю, уж во всяком случае. — Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. — Наверно, какое-нибудь шарлатанство под видом религии, — прибавляет он.
— Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять напоказ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, — говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему.
— Да, я тоже так думаю, — соглашается тот, заинтересованный оригинальным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на лице мальчика, когда он поднимал голову; нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное постичь психологический и религиозный смысл происходящего, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых.
И все же ему приходилось подчиняться.
Двое младших детей — девочка и мальчик — были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они тут занимаются, и им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный, милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка — слабенькая, худенькая — ничем особенно не выделялась; в ней не заметно было и признаков духовной силы или глубины. Не удивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание.
А родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества, и, когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле господа, благодаря его милосердию и любви Христовой.
— Все люди — грешники пред лицом господа, — провозгласил он. — Доколе они не покаялись, доколе не приняли Спасителя, его любовь и всепрощение, не ведать им счастья, душевной чистоты и непорочности. Друзья мои! Если б вы знали, какой мир и покой нисходит на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки! Но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки! Какой покой и довольство дарит нам благая мысль!
— Аминь! — торжественно заключила жена.
И старшая дочь Эстер — домашние звали ее Эста, — чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью:
— Аминь!
Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца; может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум жаждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии.
В конце концов после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Грифитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшей улице, и об их служении заветам Христа вообще, публика была осчастливлена третьим псалмом и одарена брошюрками о спасительных трудах миссии, а Эйса Грифитс, глава семьи, собрал кое-какие доброхотные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Грифитс, и, когда органчик был перекинут на ремне через плечо Грифитса-старшего, семейство направилось к миссии.
Все это время Клайд говорил себе, что больше он не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей; «уличные паяцы» — сказал бы Он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради они таскают его за собой? Такая жизнь не по нем. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда-либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пусть старшая сестра ходит по улицам с органом,
— ей это нравится. Младшие сестренка и братишка слишком малы, им все равно. Но он…
— Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заметил Грифитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих.
— Да, в четверг только восемнадцать человек взяли брошюры, а сегодня двадцать семь.
— Любовь Христа совершит свое дело, — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. — Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но, когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы.
— Я уверена в этом. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен.
Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано: «Врата упования. Миссия диссидентов. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям — в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова: «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?»
Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.
2
Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена читателю, должна быть своя, отличная от других, история; так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий, — в ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйсы Грифитса — главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный — типичный продукт своей среды и религиозных идей, неспособный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практичным представлением о жизни.
История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, двенадцатилетнего Клайда Грифитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность; при этом он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному мог бы жить, если бы все было не так, а эдак. До пятнадцати лет Клайда особенно мучило (и потом еще долго ему было тяжело об этом вспоминать), что призвание или, если угодно, профессия его родителей была в глазах других людей чем-то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили диссидентской миссией в разных городах — в Грэнд-Рэпидсе, Детройте, Милуоки, Чикаго, а в последнее время в Канзас-Сити; и повсюду окружающие, — по крайней мере мальчики и девочки, которых он встречал, — с явным презрением смотрели и на него и на его брата и сестер — детей таких родителей! Не раз — к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, — он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек. Но всегда, побежденному или победившему, ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно.
Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущности своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие-то практические или профессиональные знания; наоборот, поглощенные одной идеей — нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса был не в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок, — только в этих двух занятиях он кое-что смыслил, — в такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм; по крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в бога и его покровительство.
Семья Грифитсов жила там же, где помещалась миссия. И квартира и миссия были достаточно мрачны, чтобы вызвать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит к северу от Бульвара Независимости и к западу от Труст-авеню; дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури-авеню, — улице подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству очень слабо, но все же мало приятно отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго-западу от этих мест. Миссия Грифитсов находилась кварталов за пять от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями.
Другой стороной дом выходил на мрачные задние дворы таких же мрачных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером сорок на двадцать пять футов: здесь были расставлены рядами штук шестьдесят складных деревянных стульев и перед ними кафедра; стены украшали карта Святой земли — Палестины и десятка два отпечатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде:
«Вино — обманщик; пить — значит впасть в безумие; кто поддается обману
— тот не мудр».
«Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». Псалом 34, 2.
«И что вы — овцы мои, овцы паствы моей; вы — человеки, а я бог ваш, говорит господь бог». Книга пророка Иезекииля, 34, 31.
«Боже* Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Псалом 68, 6.
«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, — и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». От Матфея, 17, 20.
«Ибо близок день господень…» Книга пророка Авдия, 1, 15.
«Злой не имеет будущности». Притчи, 24, 20.
«Не смотри на вино, как оно краснеет… как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Притчи, 23, 31-32.
Эти всесильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижали.
Остальная часть квартиры представляла собою сложную и хитроумную комбинацию комнат и комнатушек; тут были три маленькие спальни, гостиная, выходящая окнами на задний двор и деревянные заборы других таких же дворов, затем кухня, она же и столовая, размером ровно в десять квадратных футов, и маленькая кладовая, где было сложено имущество миссии: брошюры, книжечки псалмов, сундуки, ящики и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. Эта комнатка-кладовая примыкала непосредственно к залу, где происходили молитвенные собрания, и сюда удалялись мистер и миссис Грифитс для размышления и для молитвы перед проповедью, или после нее, или в тех случаях, когда им надо было о чем-либо посовещаться.
Часто Клайд, его сестры и младший брат видели, как мать, или отец, или оба вместе увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, пришедшую просить совета или помощи (чаще помощи). И здесь же во время наибольших финансовых затруднений отец и мать сидели и размышляли или, как иногда беспомощно говорил Эйса Грифитс, молили бога указать им выход из положения. Как позже стал думать Клайд, это плохо помогало им найти выход.
И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стала ненавистна самая мысль о том, чтобы жить здесь и впредь, а еще ненавистнее — заниматься делом, служителям которого приходилось постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки.
Эльвира Грифитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой с фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма и восторженно и радостно последовала за ним, разделяя все его рискованные затеи и причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать и подчинять себе людей силою «слова божия». Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем.
Изредка иные слушатели шли за проповедниками до их миссии, либо прослышав о ней, приходили туда позже — странные, морально неуравновешенные и неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Все годы, пока Клайд не мог еще сам распоряжаться собою, он был обязан помогать родителям во время этих собраний. И всегда его больше раздражали, нежели умиляли, все эти приходившие в миссию мужчины и женщины; чаще это были мужчины: отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как бог, или Христос, или божественное милосердие спасли их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И всегда отец и мать говорили «аминь» и «слава господу» и пели псалмы, а после собирали у присутствующих деньги на расходы по содержанию помещения; сборы, как догадывался Клайд, были скудные; их едва хватало на то, чтобы поддерживать жалкое существование миссии.
Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, по-настоящему интересовало Клайда: насколько он понимал, где-то на Востоке — в маленьком городке под названием Ликург, близ Утики — обретался его дядя, брат отца, живший совсем по-иному. Этот дядя — его звали Сэмюэл Грифитс — был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя многое мог бы для него сделать, если б только захотел, что он прижимистый, оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее трехсот рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери — кажется, две. Все они жили в роскоши в этом далеком Ликурге, — воображал Клайд. Эти сведения, по-видимому, так или иначе доходили на Запад через людей, знавших Эйсу, и его брата, и их отца. Клайд представлял себе дядю каким-то Крезом, живущим в довольстве и роскоши там, на Востоке. А здесь, на Западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день: их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда.
Ни ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет помочь себе, — Клайд рано понял это. Лет в пятнадцать, даже немного раньше, Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Теперь ему трудно будет наверстать упущенное, поскольку даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? С тринадцати лет он стал просматривать газеты (в дом Грифитсов они не допускались, так как чтение их считалось уж слишком «мирским» занятием) и из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифицированные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Вот еще! Стоять у станка, укладывать кирпичи, стать плотником, штукатуром или водопроводчиком, когда такие же, как он, мальчики становятся клерками или помощниками фармацевтов, или бухгалтерами и счетоводами в банках и различных конторах! Что за жалкая, унизительная жизнь, ничуть не лучше той, какую он вел до сих пор: ходить в старом платье, спозаранку подыматься по утрам и выполнять всю ту нудную работу, которой приходится заниматься людям физического труда!
Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, не похожими на других. Он никогда не чувствовал себя неотделимой частицей своей семьи и не сознавал по-настоящему, что чем-то обязан тем, благодаря кому появился на свет. Наоборот, он был склонен осуждать своих родителей, — правда, не слишком резко и сурово, с полным пониманием их качеств и способностей. Но, умея столь здраво судить о других, он, однако, до шестнадцати лет не был способен составить какой-то план действий для самого себя и хватался то за одно, то за другое.
К этому времени в нем заговорил голос пола: его влекла и волновала красота девушек, и ему хотелось знать, может ли он тоже нравиться им. И теперь он, естественно, был немало озабочен собственной внешностью и костюмом: какой у него вид и какой вид у других юношей? Он мучился, сознавая, что плохо одет, не так красив и интересен, как мог бы быть. Что за несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и быть не в силах помочь самому себе!
Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод: прямой, точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие черные волосы и глаза черные, порою печальные. Однако сознание, что его семья так жалка и что из-за профессии и окружения его родителей у него никогда не было и не будет настоящих друзей, все больше и больше угнетало его и порождало меланхолию, которая не обещала для него в будущем ничего хорошего. Порою он пробовал взбунтоваться, а затем впадал в оцепенение. Поглощенный мыслью о родителях, он забывал о своей внешности — он был в самом деле очень недурен, даже привлекателен — и истолковывал не в свою пользу заинтересованные, пренебрежительные и в то же время манящие взгляды, которые бросали на него девушки совсем другого круга, стараясь узнать, нравятся они ему или нет, смелый он или трусишка.
Однако еще прежде чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал: ах, если бы у него были, как у некоторых юношей, хороший воротничок, тонкая рубашка, изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто! О, красивая одежда, комфортабельная квартира, часы, кольца, булавки… столько юношей щеголяют всем этим! Многие мальчики в его возрасте — уже настоящие денди! Некоторые родители дарили своим сыновьям — его ровесникам — автомобили в полную собственность. Клайд видел, как они, словно мухи, летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити. И с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет. И никогда не было.
А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. За что же ему взяться? Какой путь избрать? Какое изучить дело, которое дало бы ему возможность выдвинуться? Он не мог ответить. Он не знал. А эти странные люди — его родители — сами не были достаточно сведущими и ничего не могли ему посоветовать.
3
Одно событие, удручающе подействовав на всю семью Грифитсов, усилило и мрачное настроение Клайда как раз в то время, когда он пытался прийти к какому-то практическому решению: его сестра Эста (он был к ней очень привязан, хотя и имел с нею мало общего) убежала из дому с актером, который приезжал на гастроли в местный театр и мимоходом увлекся ею.
Нужно сказать, что Эста, хоть и получила строгое нравственное воспитание и бывала порой преисполнена религиозного пыла, была все же просто чувственной и безвольной девушкой: она еще не понимала себя и сама не знала, чего хочет. Обстановка, в которой жила Эста, была ей глубоко чужда. Подобно огромному большинству, исповедующему религию только на словах, она затвердила все догматы веры в раннем детстве, сама того не замечая, а смысл этих ежедневно повторяемых слов и поныне оставался ей непонятен. От необходимости думать самостоятельно она была избавлена родительскими наставлениями, законом или «откровением», и до тех пор, пока со всем этим не столкнулись другие теории, другие положения, внешние или даже внутренние побуждения, она была достаточно защищена. Но можно было заранее сказать, что едва лишь такое столкновение произойдет, религиозные верования, не основанные на ее собственном убеждении и не вытекавшие из особенностей ее характера, не выдержат и первого толчка. Мысли и чувства Эсты, как и ее брата Клайда, постоянно вертелись вокруг любви, приятной и легкой жизни — вещей, вряд ли совместимых с религиозными идеями самоотречения и самопожертвования. Весь ее внутренний мир и все ее мечты противоречили этим требованиям религии.
Но у нее не было ни силы Клайда, ни его сопротивляемости, Она была пассивной натурой, со смутным влечением к красивым платьям, шляпкам, туфелькам, лентам и к прочей мишуре, а религия запрещала ей мечтать об этом. По утрам и днем после школы, а иной раз и вечером она проходила по длинным оживленным улицам. Ей нравились девушки, гуляющие под руку и шепотом поверяющие друг другу какие-то секреты; нравились юноши, — под их дурачествами и забавной неугомонностью, свойственной молодому животному, чувствовались сила и значение того настойчивого, инстинктивного стремления найти себе пару, которое таится за всеми мыслями и поступками молодого существа. И когда Эста порою замечала где-нибудь на углу или в подъезде влюбленную пару или встречала томный, испытующий взгляд какого-нибудь искателя приключений, в ней самой поднималось смутное волнение, нервный трепет, громко говоривший в пользу всех зримых и осязаемых радостей земной жизни, а не в пользу бесплотных радостей неба.
И взгляды юношей пронизывали ее, как невидимые лучи, потому что она была хороша собою и с каждым часом становилась все привлекательнее. И влечение молодых людей пробуждало в ней отклик, вызывало те преобразующие химические реакции, которые лежат в основе всей нравственности и безнравственности мира.
Однажды, когда она возвращалась домой из школы, какой-то фатоватый молодой человек заговорил с нею, потому что она, казалось, всем своим видом вызывала на это. И мало что могло бы остановить ее, так как она была хоть и не страстной, но податливой натурой. Однако дома ее так муштровали, внушая, сколь необходимо блюсти скромность, сдержанность, чистоту и тому подобное, что, по крайней мере в данном случае, не было опасности немедленного падения. Но за этой первой атакой последовали другие, она стала принимать ухаживания или не так быстро убегала, и постепенно была разрушена та стена сдержанности, которую воздвигло данное ей воспитание. Она стала скрытной и утаивала от родителей свои похождения.
Случалось, молодые люди, не слушая ее протестов, провожали ее, заговаривали с ней. Они победили ту чрезмерную робость, которая вначале помогла ей отстранять их. Она стала желать новых встреч, мечтать о какой-то радостной, чудесной, беззаботной любви.
Так медленно, но неудержимо росли в ней эти настроения и желания, — и тут наконец появился этот актер, один: из тех тщеславных, красивых и грубых мужчин, у которых только и есть, что уменье одеваться да внешний лоск, но нет ни на грош нравственности, вкуса, учтивости или хотя бы подлинной нежности; зато в нем было много мужского обаяния, и он сумел за одну неделю, после нескольких встреч, так вскружить голову Эсте, что она оказалась всецело в его власти. А он, в сущности, был почти равнодушен к ней. Для этого пошляка она была просто одной из многих девчонок — довольно хорошенькая, явно чувственная и неопытная дурочка, которую можно взять несколькими нежными словами, — надо лишь притвориться влюбленным и пообещать ей в будущем, когда она станет его женой, счастливую, привольную жизнь да поездки по новым местам.
Но ведь те же слова твердил бы и настоящий влюбленный, который остался бы верен навсегда. Она должна сделать только одно, уверял он: уехать с ним и стать его женой сейчас же, немедля. К чему промедления, когда встречаются люди, созданные друг для друга. Здесь, в этом городе, есть препятствия к их браку, — он не может объяснить, какие именно, это касается его друзей; но в Сент-Луисе у него есть друг пастор, который их обвенчает. У нее будут новые красивые платья, каких она еще никогда и не видела, восхитительные приключения, любовь. Она будет путешествовать с ним и увидит огромный мир. У нее не будет никаких забот и тревог, ей придется заботиться только о нем… Для нее все это было правдой — словесным выражением искренней страсти; для него же это был старый и удобный способ обольщения, которым он часто пользовался и раньше, и небезуспешно.
И за одну неделю, в течение которой они встречались урывками — то утром, то днем, то вечером, это нехитрое колдовство увенчалось успехом.
Как-то в апреле в субботу Клайд довольно поздно вернулся домой после дальней прогулки (он предпринял ее, чтобы избежать обычных своих обязанностей во время субботнего молитвенного собрания) и нашел отца и мать в тревоге: Эста исчезла. Она по обыкновению играла на органе и пела во время этого собрания и казалась такой же, как всегда. Потом ушла в свою комнату, сказав, что чувствует себя не совсем хорошо и рано ляжет в постель. Но в одиннадцать часов, как раз перед возвращением Клайда, мать случайно заглянула к ней в комнату и обнаружила, что ее нет ни там, ни где-либо поблизости. Какая-то перемена в комнате — не видно было платьев и некоторых мелочей, исчез старый чемодан — привлекла внимание матери. Обыскали весь дом и убедились, что Эсты нигде нет; тогда Эйса вышел на улицу и прошел по ней из конца в конец. Эста иногда гуляла одна или просто выходила в свободное время посидеть под окнами миссии.
Но и эти поиски были тщетны. Тогда Клайд и отец прошли до угла и дальше по Миссури-авеню. Эсты нигде не было. В полночь они вернулись, и волнение в доме, разумеется, усилилось.
Сперва предположили, что Эста, ничего не сказав, отправилась куда-то на прогулку; но когда часы пробили половину первого, потом час, потом половину второго, а Эсты все не было, они уже хотели дать знать в полицию. Но тут Клайд, войдя в комнату сестры, увидел на ее узенькой деревянной кровати приколотую к подушке записку — послание, ускользнувшее от глаз матери. Он кинулся к ней, охваченный предчувствием; он ведь часто спрашивал себя, каким способом известит родителей, если решится тайно уехать от них: он знал, что они по доброй воле никогда его не отпустят, если только сами не предусмотрят все до мелочей. А теперь исчезла Эста, и вот записка от нее, — конечно, такая же, какую мог бы оставить и он. Клайд нетерпеливо схватил ее, спеша прочитать, но в это мгновение в комнату вошла мать и, увидев у него в руках листок бумаги, воскликнула:
— Что это? Записка? От нее?
Он протянул ей записку, мать развернула ее и быстро прочла. Клайд заметил, как широкое строгое лицо матери, всегда красновато-смуглое, побелело, когда она повернулась к дверям. Крупный рот сжался в резкую прямую линию. Большая сильная рука, державшая на весу маленькую записку, чуть-чуть дрожала.
— Эйса! — позвала она, входя в соседнюю комнату, где ждал муж; курчавые седеющие волосы на его круглой голове растрепались. — Прочти это!
Клайд, последовавший за матерью, увидел, как отец нервно схватил записку пухлой рукой, и его старческие, вялые, обмякшие губы странно задвигались. Всякий, кто хорошо знал его, сказал бы, что именно с таким видом Эйса и прежде принимал суровые удары судьбы.
— Тц! Тц! Тц! — только это он сначала и произнес — звук, показавшийся Клайду весьма мало выразительным. Новое: «Тц! Тц! Тц!» — и Эйса стал покачивать головой из стороны в сторону. Затем со словами: «Как ты думаешь, почему она это сделала?» — он повернулся и уставился на жену, а та в ответ беспомощно смотрела на него. Затем он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, делая короткими ногами неестественно большие шаги и покачивая головой, и снова издал бессмысленное: «Тц! Тц! Тц!»
Миссис Грифитс всегда сильнее чувствовала, живее на все отзывалась, чем ее муж, — и теперь, в этом тяжелом испытании, она вела себя иначе, естественнее. Какое-то возмущение, недовольство судьбой вместе с видимым физическим страданием, казалось, тенью прошло по ее лицу. Как только муж встал, она протянула руку и, взяв у него записку, впилась в нее глазами; на лице ее появилось жесткое, но в то же время страдальческое выражение. У нее был вид крайне взволнованного и раздосадованного человека, который силится и не может распутать какой-то узел, старается сохранить самообладание и не жаловаться и все-таки жалуется горько и гневно. Позади были долгие годы слепой веры и служения религии, и потому ее ограниченному уму представлялось, что она по справедливости должна быть избавлена от такого горя. Где же был ее бог, ее Христос, в час, когда совершалось столь очевидное зло? Почему он ей не помог? Как он это объяснит? Где его библейские обеты? Его вечное руководство? Его прославленное милосердие?
Клайд видел, что перед лицом такого огромного несчастья ей трудно найти ответ, — по крайней мере, сразу. Но в конце концов — Клайд был уверен — ей, несомненно, это удастся. Ибо и она и Эйса, как и все фанатики, в каком-то ослеплении упорно отделяли бога от зла, ошибок и несчастий, хотя и признавали за ним, несмотря ни на что, высшее могущество. Они будут искать корень зла в чем-то другом — в какой-то коварной, предательской, лживой силе, которая наперекор божественному всеведению и всемогуществу соблазняет и обманывает людей, и в конце концов найдут объяснение в греховности и испорченности человеческого сердца — сердца, которое создал бог, но которым он не управляет, ибо не хочет управлять.
Но сейчас только боль и гнев бушевали в сердце матери; и все же ее губы не кривились судорожно, как у Эйсы, и в глазах не было такого глубокого отчаяния, как у него. Она отступила на шаг, снова почти сердито перечитала письмо и сказала Эйсе:
— Она сбежала с кем-то, но не сообщает…
И вдруг остановилась, вспомнив о присутствии детей: Клайд, Джулия и Фрэнк — все были здесь, и все напряженно, с любопытством и недоверием смотрели на мать.
— Поди сюда, — сказала она мужу, — мне нужно поговорить с тобой. А вы все шли бы спать, — прибавила она, обращаясь к детям, — мы сейчас вернемся.
Вместе с Эйсой она быстро прошла в маленькую комнатку, примыкавшую к залу миссии. Дети услышали, как щелкнул выключатель, как родители заговорили вполголоса, и все трое многозначительно переглянулись, хотя Фрэнк был слишком мал (ему было всего десять лет), чтобы понять толком, что произошло. Даже Джулия вряд ли вполне понимала значение случившегося. Но Клайд, больше знакомый с жизнью, услышав фразу матери: «Она сбежала с кем-то», — прекрасно все понял. Эсте опостылело все это так же, как и ему. Может быть, она убежала с одним из тех франтов, которых он видел на улицах с красивыми девушками? Но куда! И что это за человек? В записке что-то сказано, но мать не позволила прочитать ее. Слишком быстро отняла. Жаль, что не удалось втихомолку первому в нее заглянуть.
— Как ты думаешь, она совсем убежала? — с сомнением спросил он Джулию, когда родители ушли. Джулия казалась бледной и растерянной.
— Откуда я знаю! — ответила она с досадой: горе родителей и вся эта таинственность взволновали ее не меньше, чем поступок Эсты. — Она мне ничего не говорила. Я думаю, ей было совестно.
Джулия, более сдержанная и спокойная, чем Эста и Клайд, всегда была ближе к родителям и потому теперь огорчилась больше других детей. Правда, она не вполне понимала, что произошло, но кое-что подозревала, потому что и она иногда разговаривала с другими девочками, но только сдержанно и осторожно. Больше всего ее сердило, что Эста выбрала такой способ оставить семью: убежала из дому тайком от родителей, от братьев, от нее, причинила родителям такое страшное горе! Это ужасно! Воздух был насыщен несчастьем.
Родители совещались в маленькой комнатке, а Клайд сидел, глубоко задумавшись: напряженно и пытливо он размышлял о жизни. Что же сделала Эста? Неужели это, как он со страхом предполагал, один из тех ужасных побегов, одна из тех не слишком красивых любовных историй, о которых постоянно шептались мальчишки на улицах и в школе? Какой позор, если так! Она, пожалуй, никогда не вернется. Сбежала с каким-то мужчиной. В этом, конечно, кроется что-то позорное и дурное для девушки, так как он постоянно слышал, что все приличные отношения между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной всегда приводят к одному — к браку. И вот, вдобавок ко всем прочим несчастьям их семьи, Эста пошла на такое! Конечно, их жизнь, и без того достаточно мрачная, станет теперь еще мрачнее.
Вскоре вернулись родители. В лице миссис Грифитс, все еще напряженном и расстроенном, что-то изменилось: быть может, в нем было теперь меньше отчаяния, больше безнадежной покорности.
— Эста решила уехать от нас, во всяком случае, на время, — сказала она, видя, что дети с любопытством ждут объяснений. — Вы не должны о ней тревожиться и много думать об этом. Я уверена, что она через некоторое время вернется. Пока, по некоторым причинам, она пошла своим путем. Да будет воля господня! («Благословенно имя господа», — вставил Эйса.) Я думала, что она была счастлива среди нас, но, по-видимому, я ошибалась. Как видно, она должна сама узнать жизнь. (Здесь Эйса опять издал свое: «Тц! Тц! Тц!») Но мы не должны думать о ней плохо. Это ни к чему. Да руководит нами лишь любовь и доброта.
Однако она сказала это с некоторой суровостью, противоречившей смыслу ее слов; голос ее звенел.
— Мы можем только надеяться, что она скоро поймет, как безумен и легкомыслен ее поступок, и вернется домой. Она не может быть счастлива на том пути, на который вступила. Это не путь господа и не его воля. Она слишком молода и впала в заблуждение. Но мы ее прощаем. Мы должны простить. Наши сердца всегда будут открыты для нее, будут преисполнены любви и нежности.
Она говорила, словно обращаясь к большой аудитории, но голос ее звучал сурово и печально, лицо было холодное, застывшее.
— Теперь идите спать. Нам остается лишь уповать на милость божию и молиться утром, в полдень и вечером, чтобы никакое зло не постигло ее. Да, хотела бы я, чтобы она этого не делала, — прибавила она без всякой связи со всей предыдущей речью, очевидно, думая не о стоящих перед нею детях, а только об Эсте.
Но Эйса!
«Что это за отец?» — часто думал впоследствии Клайд.
Кроме собственного горя, он, казалось, еще способен был заметить более глубокое горе жены, — но ничего больше! Все это время он бессмысленно стоял, склонив голову набок, — коротенький, седой, курчавый, ничтожный.
— Да будет благословенно имя господне, — вставлял он время от времени.
— Мы не должны закрывать перед Эстой наши сердца. Да, да, мы не должны осуждать. Мы должны лишь уповать на лучшее. Да, да! Хвала господу! Восхвалим господа! Аминь! О да! Тц! Тц! Тц!
— Если кто-нибудь спросит, где Эста, — после паузы продолжала миссис Грифитс, даже не взглянув в сторону своего супруга и обращаясь к обступившим ее детям, — мы должны будем сказать, что она уехала к моим родным в Тонаванду. Это не совсем так, но мы ведь и сами не знаем правды, не знаем точно, где она… к тому же она может скоро вернуться. Значит, мы не должны говорить о ней ничего плохого, пока не узнаем всего.
— Да, хвала господу, — слабо откликнулся Эйса.
— Если кто-нибудь спросит о ней, пока нам самим ничего не известно, надо отвечать так, как я сказала.
— Конечно, — сказал Клайд услужливо, а Джулия прибавила:
— Хорошо.
Миссис Грифитс замолчала и строго, но в то же время как бы виновато, посмотрела на детей. Эйса снова издал: «Тц! Тц! Тц!» — и детей отправили спать.
Клайду очень хотелось узнать, что же было в письме Эсты, но он на долгом опыте убедился, что мать ничего не скажет ему, если не сочтет нужным; и он ушел в свою комнату, чувствуя, что устал. Почему родители больше не ищут Эсту, если есть надежда ее найти? Где она теперь, вот в эту минуту? Где-нибудь в пути, в поезде? Очевидно, она не желает, чтобы ее нашли. Наверно, ей было здесь так же невыносимо, как и ему. Еще так недавно он сам думал уйти куда-нибудь из дому, представлял себе, как отнеслась бы к этому семья, и вот сестра опередила его. Как это повлияет на его решение и на его поступки в будущем? По правде говоря, несмотря на горе отца и матери, Клайд не мог считать уход сестры таким уж несчастьем,
— во всяком случае, не самый уход. Это просто лишнее доказательство, что в доме не все благополучно. Вся деятельность миссии ничего не значит. Во всех этих религиозных чувствах и разговорах тоже мало толку. Они не спасли Эсту. Очевидно, она, так же как и он, не особенно верила во все это.
4
Придя к такому заключению, Клайд стал упорнее, чем когда-либо, думать о своем будущем. Он решил, что должен сам предпринять что-то, и притом поскорее. До сих пор ему удавалось найти только такую работу, какая обычно достается мальчикам двенадцати — пятнадцати лет: как-то летом он помогал газетчику разносить газеты; другое лето (а по субботам и зимой) работал на складе магазина стандартных цен: открывал ящики и распаковывал товары, за что получал щедрое вознаграждение — пять долларов в неделю, — сумму, казавшуюся ему тогда целым состоянием. Он чувствовал себя богачом и, наперекор родителям, которые считали и театр и кино делом не только мирским, но и греховным, изредка бывал в этих запретных местах, где-нибудь на галерке. Такие развлечения приходилось скрывать от родителей. Но это не удерживало Клайда. Он полагал, что имеет право распоряжаться своими деньгами и даже брать с собой младшего брата Фрэнка, который рад был пойти с ним и ни разу не проговорился.
Несколько позже, в тот же год, Клайд решил оставить школу, так как уже сам чувствовал, что слишком отстал; он устроился помощником продавца содовой воды в аптекарском магазине средней руки; магазин находился рядом с театром и был как бы под его покровительством. Проходя мимо по дороге в школу Клайд случайно увидел объявление: «Требуется мальчик». Затем он поговорил с молодым человеком, помощником которого ему предстояло сделаться и который готов был обучить Клайда новой профессии, если тот будет понятлив и услужлив; из их беседы Клайд понял, что, усвоив это искусство, сможет зарабатывать пятнадцать и даже восемнадцать долларов в неделю. По слухам, столько получают двое служащих в магазине Струда на углу Четырнадцатой и Балтимор-стрит. Магазин, куда хотел поступить Клайд, платил, однако, только двенадцать долларов — обычную ставку в таких заведениях.
Но, чтобы постичь это искусство, как сообщили ему, нужно время и дружеская помощь опытного человека. Если он желает поступить сюда и работать для начала за пять долларов (лицо Клайда вытянулось), — ну, скажем, за шесть, — он скоро овладеет искусством составлять сладкие напитки и сдабривать сиропами всевозможные сорта мороженого. Но сперва Клайд будет учеником, а значит, он должен мыть и чистить сифоны и всю посуду на стойке и само собой в половине восьмого открывать магазин, подметать его, стирать пыль, а также исполнять всякие поручения, которые может дать ему хозяин. В те минуты, когда его непосредственное начальство мистер Зиберлинг — самоуверенный и болтливый двадцатилетний франт — будет перегружен заказами, он передоверит Клайду приготовление несложных коктейлей, состоящих из лимонада, кока-колы и тому подобного.
И вот Клайд, посовещавшись с матерью, решил принять это выгодное предложение. Во-первых, рассчитывал он, здесь можно будет бесплатно полакомиться мороженым — немалое преимущество. Во-вторых, как он думал в то время, это откроет ему путь к какой-то профессии, чего ему очень не хватало. Затем — и это тоже большое преимущество — ему придется задерживаться на работе поздно, до двенадцати ночи, а взамен у него будут свободные часы днем. И, значит, по вечерам он не будет дома и не будет посещать вечерних классов в десять часов. От него уже не смогут требовать помощи на молитвенных собраниях, разве только в воскресенье, да и по воскресеньям тоже он будет занят после обеда и вечером.
Кроме того, продавец содовой воды регулярно может получать контрамарки от администратора соседнего театра, боковая дверь ведет из магазина прямо в фойе. Клайд пришел в восторг: так интересно работать в магазине, который составляет как бы часть театра.
Но самое главное, — к удовольствию, а порой и к отчаянию Клайда, — перед каждым спектаклем, а в дни утренних представлений и после спектакля здесь собирались статистки; они приходили в одиночку или группами, усаживались у прилавка, болтали, смеялись, поправляли перед зеркалом прическу, подкрашивались и пудрились. И Клайд, неопытный птенец, незнакомый с обычаями света, с привычками и манерами женщин, не уставал любоваться красотой этих посетительниц, их смелостью, самоуверенностью и грацией.
Перемывая стаканы, накладывая мороженое, наливая сиропы, укладывая на подносах лимоны и апельсины, он впервые в жизни мог вблизи наблюдать этих девушек. Они — просто чудо! Почти все так хорошо, нарядно одеты — кольца, брошки, меха, восхитительные шляпки, красивые туфли! И как часто он слышал разговоры об интереснейших вещах: о пикниках, танцах, обедах, виденных ими спектаклях, о прогулках по окрестностям Канзас-Сити, о том, чем отличается нынешняя мода от прошлогодней и как очаровательны некоторые актеры и актрисы, — главное, конечно, актеры! — которые играют сейчас в городе или скоро приедут на гастроли. Дома Клайд ни о чем таком не слыхивал.
И очень часто то одну, то другую из этих юных красавиц сопровождал какой-нибудь молодой человек во фраке, в крахмальной манишке, в цилиндре, галстуке бабочкой, белых лайковых перчатках, лакированных ботинках, в костюме, который в то время казался Клайду последним словом хорошего тона, красоты, изящества и благополучия. Носить бы такой костюм и с таким же непринужденным видом! Разговаривать с девушкой так же свободно и хладнокровно, как эти франты! Вот верх совершенства! Ни одна красивая девушка, казалось тогда Клайду, и смотреть на него не станет, если у него не будет такого костюма. Это просто необходимо, это главное! И если только Клайд достигнет этого, — сумеет вот так одеться, — разве это не будет означать, что он твердо стал на путь, ведущий к блаженству? Все радости жизни, конечно, раскроются перед ним. Ласковые улыбки! Тайные пожатия рук, и может быть, его рука вокруг девичьей талии… поцелуй… обещание жениться… и потом, потом…
И все это — как внезапный луч света после долгих лет, когда надо было без конца ходить с отцом и матерью по улицам, сидеть на молитвенных собраниях, выслушивать неописуемых, нелепых чудаков, опустившихся и сбившихся с пути, — вечно они рассказывают, как Христос их спас и что бог сделал для них. Будьте уверены, теперь он от всего этого избавится. Он будет работать, копить деньги — и станет человеком… Поистине, этот несложный, но образцовый набор банальностей сиял, как чудо духовного перерождения! Это был мираж, возникший перед жаждущим путником — жертвой пустыни.
Однако Клайд быстро убедился, что одно плохо в его новом положении: хотя здесь и можно было научиться составлять различные фруктовые напитки и зарабатывать двенадцать долларов в неделю, — это отнюдь не приближало часа, когда сбудутся снедавшие его честолюбивые надежды и стремления. Альберт Зиберлинг, его непосредственное начальство, твердо решил сохранить для себя одного как секреты ремесла, так и наиболее приятную часть работы. И притом он, заодно с их хозяином-аптекарем, полагал, что Клайд должен не только помогать ему, Зиберлингу, в приготовлении напитков, но еще и бегать по всяким поручениям хозяина, а это отнимало у Клайда чуть ли не весь его рабочий день.
Словом, Клайду было мало толку от этой работы: он никак не мог одеться лучше, чем прежде. Хуже того — Клайда угнетало, что у него очень мало денег, почти нет знакомых и связей. В сущности, вне своей семьи он был совсем одинок и едва ли менее одинок в семье.
Бегство Эсты неблагоприятно отразилось на миссионерской деятельности в Канзасе. И так как Эста не вернулась, родители Клайда стали подумывать о переезде (за неимением лучшего) в Денвер, штат Колорадо. Но Клайд решительно не хотел с ними ехать. «Что пользы в этом? — спрашивал он себя.
— Там просто будет еще одна миссия, точно такая же, как и здесь».
Он всегда жил с родителями — в квартире при миссии на улице Бикел, и терпеть не мог эту жизнь. С одиннадцати лет, с тех пор как семья приехала в Канзас-Сити, он стыдился приводить знакомых мальчиков к себе домой. Поэтому он никогда не имел друзей, а гулял и играл почти всегда один или с братом и сестрами.
Но теперь ему уже шестнадцать лет, он достаточно взрослый, чтобы жить по-своему, и должен избавиться от такой жизни! Однако он слишком мало зарабатывал — недостаточно, чтобы прожить одному, и ему не хватало еще уменья и смелости для того, чтобы устроиться лучше.
Тем не менее, когда родители заговорили о переезде в Денвер и, не допуская и мысли, что Клайд не захочет поехать с ними, упомянули о возможности для него получить там работу, Клайд стал исподволь намекать, что ему лучше остаться здесь. Он любит Канзас-Сити. Что толку от перемен? У него здесь есть работа, а может быть, он найдет и что-нибудь получше. Но родители, помня о судьбе Эсты, были в большом сомнении. Что может выйти из его попытки так рано начать самостоятельную жизнь? Где он будет жить после их отъезда? С кем? С какими влияниями столкнется в жизни и кто будет рядом, чтобы помочь ему, дать добрый совет, направлять его по стезе добродетели, стезе, которой следовали они сами? Обо всем этом надо подумать.
Клайд был сильно напуган, переезд в Денвер казался неизбежным и приближался с каждым днем; вдобавок как раз в это время мистер Зиберлинг из-за своей чрезмерной любезности по отношению к прекрасному полу потерял место; в аптекарском магазине появился новый старший продавец, костлявый и мрачный; он, видимо, не желал иметь Клайда своим помощником. И Клайд решил уйти оттуда, но не сразу: сначала, бегая по городу со всякими поручениями, он попробует подыскать себе другое место. И вот во время этих поисков ему однажды пришла в голову мысль обратиться к продавцу прохладительных напитков в большом аптекарском магазине при главном отеле города; отель этот, великолепное двенадцатиэтажное здание, казался Клайду квинтэссенцией роскоши и комфорта. Его окна всегда были плотно завешены, главный вход (Клайд не решался заглянуть дальше) был вычурным сочетанием стекла и металла; за дверями виднелся мраморный коридор, уставленный пальмами. Клайд часто проходил мимо, с мальчишеским любопытством размышляя о том, что за жизнь там, внутри? У подъезда всегда ожидало столько такси и частных автомобилей!
В этот день, подгоняемый необходимостью что-то предпринять, Клайд вошел в аптекарский магазин, занимавший в здании отеля угловое помещение, выходившее на Четырнадцатую и Балтимор-стрит. Увидев кассиршу в маленькой стеклянной будке у входа, Клайд спросил, кто у них здесь ведает продажей содовой воды.
Кассирше понравились его робкие, неуверенные манеры и глубокие, словно умоляющие глаза; она сразу угадала, что мальчик ищет работу.
— Да вот мистер Сикор, управляющий магазином, — сказала она.
И кивнула в сторону невысокого, строго одетого человека лет тридцати пяти, который устраивал на стеклянном прилавке выставку туалетных новинок. Клайд подошел к нему и, еще не вполне понимая, как надо действовать, когда хочешь чего-то добиться в жизни, но видя, однако, что этот человек поглощен своим занятием, остановился, переминаясь с ноги на ногу, и стоял до тех пор, пока управляющий не почувствовал наконец, что кто-то находится сзади, и не обернулся.
— В чем дело? — спросил он Клайда.
— Скажите, пожалуйста, вам не нужен помощник для продажи содовой воды?
Взгляд Клайда говорил яснее всяких слов: «Если у вас есть место, я так хотел бы, чтобы вы взяли меня! Мне так нужна работа!»
— Нет, нет, нет, — ответил тот.
Этот коренастый блондин был по натуре несколько раздражителен и сварлив. Он уже собирался отвернуться от просителя, но, увидев по лицу Клайда, как глубоко тот разочарован и огорчен, спросил еще:
— А вы когда-нибудь работали в таком месте?
— Не в таком прекрасном магазине, сэр, — ответил Клайд, пораженный окружающим великолепием. — Я работаю теперь в магазине мистера Клинкла, на углу Седьмой и Бруклин-стрит, но это совсем не то, что у вас, и мне хотелось бы найти что-нибудь получше.
— Мгм, — пробормотал его собеседник, слегка польщенный этой невинной данью превосходству его магазина. — Что ж, это вполне разумно. Но как раз сейчас я ничего не могу предложить вам. Мы нечасто меняем служащих. А вот если вы хотите поступить рассыльным, я скажу вам, где можно устроиться. Здесь, в отеле, как раз хотят взять мальчика. Начальник рассыльных говорил мне, что ему нужен еще один. Я думаю, это ничуть не хуже, чем помогать продавцу воды.
Затем, увидев, как просияло лицо Клайда, он прибавил:
— Но не говорите, что это я послал вас, ведь я вас не знаю. Просто разыщите там, под лестницей, мистера Скуайрса и поговорите с ним.
При одной мысли, что он может получить работу в столь внушительном учреждении, как отель «Грин-Дэвидсон», Клайд широко раскрыл глаза и задрожал от волнения; потом поблагодарил советчика за его доброту и направился к выкрашенному под мрамор проходу в глубине магазина, который вел в вестибюль отеля. Выйдя из этого коридора, Клайд оказался в вестибюле. Ничего подобного он никогда еще не видел: до сих пор бедность и робость мешали ему хотя бы украдкой заглянуть в этот мир. Какая всюду расточительная роскошь! Под ногами пол, как шахматная доска с квадратами черного и белого мрамора; над головой потолок с росписью и позолотой. Его подпирает целый лес черных мраморных колонн, — таких же зеркально гладких и отполированных, как и пол. Ряды колонн ведут к трем отдельным входам — правому, левому и центральному, на Дальримпл-авеню, а между колоннами — лампы, кресла, диваны и диванчики, статуи, пальмы, ковры — масса всякой всячины. Словом, вестибюль этот был воплощением той пошлой роскоши, назначение которой, как язвительно заметил кто-то, «внедрять изысканность в массы».
Действительно, для солидного отеля в большом и процветающем американском торговом городе здесь была почти чрезмерная роскошь. Номера, и холлы, и вестибюли, и рестораны были обставлены слишком богато — не было ни облагораживающей простоты, ни изящества, ни целесообразности.
Клайд остановился, растерянно осматривая вестибюль и собравшееся здесь большое общество, — тут были и женщины и дети, но больше всего мужчин; они прогуливались взад и вперед, или стояли и беседовали, или отдыхали в креслах, группами и в одиночку. За тяжелыми драпировками, в роскошно обставленных глубоких нишах стояли письменные столы с комплектами газет, в одном углу вестибюля — почтовое отделение, в другом — галантерейный киоск и киоск цветочницы, и здесь тоже было людно. В это время в городе происходил съезд дантистов, и многие из них со своими женами и детьми собрались сегодня в отеле «Грин-Дэвидсон». Но Клайду, который ничего не знал об этом и вообще не представлял себе, что такое «съезд», казалось, что это и есть обычная повседневная картина жизни отеля.
В почтительном, пугливом изумлении Клайд смотрел на все вокруг; потом, вспомнив о Скуайрсе, отправился искать его в контору «под лестницей». Лестница оказалась справа от Клайда — огромная, черно-белая, мраморная, с двумя разветвлениями, которые широкими плавными изгибами вели во второй этаж. Между этими двумя большими крыльями лестницы и находилась, должно быть, контора отеля, поскольку там толпилось много служащих. За ближайшим крылом, у стены, в которой был проход из аптекарского магазина, помещалась высокая конторка, и за вей стоял юноша примерно одних лет с Клайдом, одетый в коричневый форменный костюм со множеством блестящих пуговиц. На голове у него была маленькая круглая шапочка, точно коробочка от пилюль, лихо сдвинутая на одно ухо. Он карандашом делал записи в лежавшей перед ним книге. Тут были и еще мальчики того же возраста и в такой же форме: одни сидели на длинной скамье, рядом с конторкой, другие стрелой проносились во всех направлениях; порою они возвращались к стоящему за конторкой, передавали ему то какую-нибудь квитанцию, то ключ, то счет, а потом снова садились на скамью, ожидая, очевидно, другого поручения, и им как будто не приходилось долго ждать. Почти беспрерывно трещал телефон, и юноша за конторкой, выслушав поручение, звонил в стоявший перед ним маленький колокольчик или произносил: «Очередной» — на что отзывался первый сидевший с краю мальчик. Вызванные тотчас бежали к одной из лестниц, или к одной из входных дверей, или к лифтам и после этого почти всегда появлялись, неся вслед за входящими саквояжи, чемоданы, пальто, палки для гольфа. Другие мальчики исчезали в глубине вестибюля и возвращались с бутылками на подносах или с какими-нибудь пакетами, которые они несли в один из номеров наверх. Очевидно, такую работу пришлось бы выполнять и Клайду, если бы ему посчастливилось и его приняли на службу в этом отеле.
И все делалось так бойко, кругом царило такое оживление, что ему очень захотелось оказаться счастливцем и попасть сюда. Но удастся ли это? И где этот мистер Скуайрс? Он подошел к юноше за конторкой и спросил:
— Вы не можете сказать, где мне найти мистера Скуайрса?
— А вот он идет, — ответил юноша, испытующе взглянув на Клайда живыми серыми глазами.
Клайд посмотрел в указанном направлении и увидел, что к ним стремительно приближается щеголеватый и, несомненно, видавший виды человек лет тридцати. Он был так строен, энергичен и превосходно одет, и у него было такое жесткое, колючее лицо, что Клайд почувствовал не только смущение, но даже благоговейный страх: видно, это очень хитрый, коварный человек, — у него такой длинный тонкий нос, тонкие губы, такой пронзительный взгляд и острый подбородок…
— Только что вышел высокий седой человек с шотландским пледом, видели?
— спросил он своего помощника, остановившись у конторки.
Тот кивнул.
— Так вот, мне сказали, что это лорд Ландрэйл. Он приехал сегодня утром с четырнадцатью сундуками и четырьмя слугами. Подумать только! Важная персона в Шотландии. Впрочем, он путешествует под вымышленным именем. Записан здесь как мистер Блант. Вот они, англичане, — видали? Умеют показать класс, а?
— Совершенно верно, мистер Скуайрс, — почтительно ответил юноша за конторкой.
Только теперь Скуайрс обернулся и бросил беглый взгляд на Клайда. Юноша за конторкой пришел Клайду на помощь.
— Этот паренек хочет с вами поговорить, — объяснил он.
— У вас ко мне дело? — спросил Скуайрс, оборачиваясь к Клайду и окидывая его зорким, изучающим взглядом; не остался незамеченным и дешевый костюм мальчика.
Клайду не очень понравился этот человек, но он решил произвести на него возможно лучшее впечатление.
— Джентльмен из аптекарского магазина сказал мне… — начал Клайд, — то есть он посоветовал обратиться к вам… может быть, на мое счастье, вам нужен рассыльный. Я работаю помощником в аптекарском магазине Клинкла, на углу Седьмой и Бруклин-стрит, но хочу уйти оттуда, и тот джентльмен сказал, что вы можете… то есть он думал… может быть… у вас есть свободное место…
Клайд был так смущен и сбит с толку холодным, испытующим взглядом мистера Скуайрса, что едва мог перевести дыхание и судорожно проглотил слюну.
В первый раз в жизни он подумал, что если хочешь добиться успеха, надо расположить к себе людей, сделать или сказать что-то такое, что понравилось бы им. Итак, собравшись с духом, Клайд заискивающе улыбнулся Скуайрсу и прибавил:
— Если только вы разрешите мне попробовать, я буду стараться изо всех сил.
Человек, стоявший перед Клайдом, в ответ только холодно посмотрел на него; но так как он был сам хитер и умел достигать своей цели разными окольными путями, то ему нравился всякий, кто обладал ловкостью, изворотливостью, умением разговаривать с людьми. И вместо того, чтобы отрицательно покачать головой, он заметил:
— Но ведь у вас нет никакого опыта в этом деле?
— Нет, сэр, но я быстро научусь, я буду очень стараться.
— Ну хорошо, я подумаю, — сказал начальник рассыльных, с сомнением почесывая висок. — Сейчас мне некогда. Приходите в понедельник. Тогда поговорим.
Он повернулся на каблуках и пошел прочь.
Клайд, оставшись один и не вполне понимая, что все это значит, растерянно озирался. Неужели ему и вправду назначили прийти в понедельник? Неужели возможно, что он… Клайд повернулся и выбежал на улицу, от волнения его била дрожь. Вот это удача! Он попросил, чтобы его взяли на работу в самый лучший отель Канзас-Сити, и ему назначили прийти в понедельник! Вот как?! Что бы это значило? Неужели его могут впустить в этот великолепный мир — и так быстро! Неужели и вправду так будет?
5
Как разыгралась теперь фантазия Клайда, какие мечты о будущем связаны были у него с работой в столь замечательном учреждении, об этом можно лишь догадываться: его представления о роскоши были в целом сильно преувеличены, ошибочны и нелепы, — просто смутные бредни, плод постоянно подавляемого неудовлетворенного воображения, которое доныне питалось одними выдумками.
Клайд вернулся к своим обязанностям в аптекарском магазине; после работы он шел домой, ел и спал; но в сущности все эти дни — пятницу, субботу, воскресенье и понедельник до вечера — он витал где-то в облаках. Он не сознавал, что делает, и не раз его начальник в магазине предлагал ему «проснуться». А после работы он шел не прямо домой, а снова туда, на угол Четырнадцатой и Балтимор-стрит, и смотрел на великолепный отель. Там даже в полночь перед каждым из трех главных подъездов, выходивших на три улицы, стоял швейцар в длинной коричневой ливрее со множеством пуговиц и в высокой коричневой фуражке с большим козырьком. А внутри, за тонкими шелковыми шторами, все еще сияли огни в большом зале ресторана и в баре, помещавшемся в нижнем этаже. У подъездов — множество такси и частных машин. И оттуда-то всегда доносится музыка.
Клайд разглядывал это здание в пятницу вечером, и в субботу, и утром в воскресенье, а в понедельник, во второй половине дня, снова явился в отель, как велел мистер Скуайрс; этот субъект встретил Клайда довольно неприветливо, так как успел уже о нем забыть. Но ему действительно нужен был еще один рассыльный, и Клайд как будто годился на эту должность; поэтому Скуайрс провел Клайда в свою маленькую контору под лестницей, где величественно и с полнейшим равнодушием стал расспрашивать его о родителях, о том, где он живет, где и чем раньше занимался, чем зарабатывает на жизнь отец. Последний вопрос особенно смутил Клайда. Он был горд, и ему было стыдно признаться, что его родители руководят миссией и проповедуют на улицах. И он ответил (ведь так иногда бывало), что отец его работает в одной фирме агентом по распространению стиральных машин, а по воскресеньям проповедует религиозное обновление; это понравилось начальнику мальчишек, которые меньше всего были склонны к чинному и благочестивому образу жизни. Может ли Клайд представить рекомендацию с места его теперешней службы? Да, может.
Мистер Скуайрс принялся объяснять, что порядки в отеле очень строгие. Многие мальчики, наблюдая жизнь отеля и соприкасаясь с чрезмерной, непривычной для них роскошью (Скуайрс, впрочем, говорил другими словами), теряют голову и сбиваются с пути. Ему постоянно приходится увольнять мальчиков, которые, заработав немного лишних денег, начинают дурно себя вести. Ему нужны мальчики услужливые, воспитанные, расторопные, учтивые. Они должны быть опрятными, одеваться чисто и аккуратно; на работу каждый день должны являться без опозданий, минута в минуту, и в надлежащем виде. А тот, кто вообразит, что, заработав немного денег, уже можно позволить себе дерзко отвечать или заводить интрижки и участвовать в ночных кутежах, а потом опаздывать на службу или являться утомленным, вялым и неповоротливым, — тот пусть не рассчитывает остаться здесь надолго. Такого выставят в два счета. Он, Скуайрс, не потерпит никаких глупостей. Это надо усвоить теперь же, раз и навсегда.
Клайд кивал в знак согласия и время от времени вставлял с готовностью: «Да, сэр» или «Нет, сэр»; под конец он заверил мистера Скуайрса, что и подумать не может о том, чтобы столь неприлично себя вести, да и по своему характеру просто не способен на такие проступки, о которых говорит мистер Скуайрс.
Затем Скуайрс объяснил, что мальчики получают в отеле только пятнадцать долларов в месяц, а также стол (в подвальном этаже находится специальная столовая для служащих). Но — и это сообщение было самым удивительным открытием для Клайда — каждый гость за любую услугу, — если мальчик принесет чемодан, или кувшин воды, или выполнит еще какое-нибудь поручение, — дает на чай, и порой довольно щедро: десять, пятнадцать, двадцать пять центов, иногда больше. И эти чаевые составляют в среднем от четырех до шести долларов в день, не меньше, а иногда и больше, — огромные деньги, подумал Клайд. Сердце его подпрыгнуло, он чуть не ахнул, услыхав о такой громадной сумме. От четырех до шести долларов в день! Да ведь это значит двадцать восемь или даже сорок два доллара в неделю! От с трудом верил своим ушам. И это сверх пятнадцати долларов в месяц и питания. И, кроме того, сказал мистер Скуайрс, из жалованья ничего не удерживают за красивую форму, которую носят рассыльные в отеле. Но ее можно носить только на работе. Затем мистер Скуайрс объяснил, что по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям Клайд должен работать от шести утра до полудня и затем, после шестичасового перерыва, с шести вечера до полуночи; по вторникам, четвергам и субботам он будет занят только от полудня до шести; таким образом, у него будут свободными то вторая половина дня, то вечер; но завтракать и обедать он должен в свои свободные часы. Наконец, вместе с другими мальчиками, он обязан пунктуально, в форменной одежде являться на поверку, Скуайрс производит ее ровно за десять минут до начала каждой смены.
Мистер Скуайрс думал еще и о других вещах, но умолчал о них: он знал, найдутся люди, которые скажут за него. А пока он продолжал что-то объяснять и вдруг, совершенно неожиданно для Клайда, слушавшего все это, как во сне, спросил:
— Полагаю, вы можете приступить к работе сейчас же?
— Да, сэр! Конечно, сэр! — ответил Клайд.
— Отлично!
Скуайрс поднялся и распахнул дверь.
— Оскар! — позвал он ближайшего из сидевших на скамье рассыльных, и к нему поспешно подошел рослый, плечистый юноша, затянутый в чистенькую форменную курточку. — Отведите этого молодого человека — Клайд Грифитс, не так ли? — на двенадцатый, в гардеробную, чтобы Джекобс подобрал ему форменный костюм. Если не найдется подходящего, пусть подгонит какой-нибудь к завтрашнему дню. Но, я думаю, ему будет впору тот, что носил Силсби.
Затем, обращаясь к своему помощнику, глядевшему из-за конторки на Клайда, мистер Скуайрс пояснил:
— Беру его на пробу. Пусть кто-нибудь из мальчиков натаскает его сегодня вечером или когда он там начнет. Ступайте, Оскар, — сказал он юноше, которому поручил Клайда. — Он новичок в этом деле, но, я думаю, справится, — прибавил мистер Скуайрс, снова обращаясь к помощнику, когда Клайд и Оскар направились к одному из лифтов.
И он пошел сказать, чтобы имя Клайда внесли в платежную ведомость.
Тем временем Клайд, идя на буксире за своим новым ментором, выслушивал ряд таких сведений, какие еще никогда не достигали его ушей.
— Тут нечего трусить, даже коли никогда и не работал в таком месте, — начал» этот юнец.
Как позже узнал Клайд, его звали Хегленд, он был родом из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, откуда и привез свой экзотический жаргон и размашистые жесты. Он был высокий, крепкий, рыжеволосый, весь в веснушках, добродушный и болтливый.
Они вошли в лифт с надписью «для служащих».