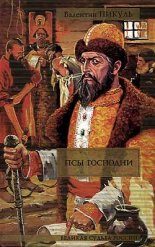Жизнь и судьба Гроссман Василий

— Ах вот как, — с раскатом сказал Новиков, — ладно, понятно.
И, встав, расправив плечи, злобно сказал:
— Я корпусом командую. Как я сказал, так и будет. А доклады, повести и романы обо мне пишите, товарищ Гетманов, хоть самому Сталину.
Он вышел в соседнюю комнату.
Новиков отложил прочитанное письмо и засвистел, как, бывало, свистел мальчиком, когда, стоя под соседским окном, вызывал товарища гулять… Наверное, лет тридцать он не помнил об этом свисте и вдруг присвистнул…
Потом он с любопытством поглядел в окно: нет, светло, ночи не было. Потом он истерично, радостно проговорил: спасибо, спасибо, за все спасибо.
Потом ему показалось, что он сейчас упадет мертвым, но он не упал, прошелся по комнате. Потом он посмотрел на письмо, белевшее на столе, показалось — это пустой чехол, шкурка, из которой выползла злая гадючка, и он провел рукой по бокам, по груди. Он не нащупал ее, уже вползла, залезла, крапивила сердце огнем.
Потом он стоял у окна — шоферы смеялись в сторону связистки Маруси, шедшей в отхожее место. Механик-водитель штабного танка нес ведро от колодца, воробьи занимались своим воробьиным делом в соломе, лежавшей у входа в хозяйский коровник. Женя говорила ему, что ее любимая птица воробей… А он горел, как дом горит: рушились балки, проваливались потолки, падала посуда, опрокидывались шкафы, книги, подушки, как голуби, кувыркаясь, летели в искрах, в дыму… Что ж это: «Я всю жизнь буду тебе благодарна за все чистое, высокое, но что я могу сделать с собой, прошлая жизнь сильнее меня, ее нельзя убить, забыть… не обвиняй меня, не потому, что я не виновата, а потому, что ни я, ни ты не знаем, в чем моя вина… Прости меня, прости, я плачу над нами обоими».
Плачет! Бешенство охватило его. Сыпнотифозная вошь! Гадина! Бить ее по зубам, по глазам, проломить рукояткой револьвера сучью переносицу…
И с совершенно невыносимой внезапностью, тут же, вмиг, пришла беспомощность, — никто, никакая сила в мире не могут помочь, только Женя, но она-то, она-то и погубила.
И он, повернувшись лицом в ту сторону, откуда она должна была приехать к нему, говорил:
— Женечка, что ж это ты со мной делаешь? Женечка, ты слышишь, Женечка, посмотри ты на меня, посмотри, что со мной делается.
Он протянул к ней руки.
Потом он думал: для чего же, ведь столько безнадежных лет ждал, но раз уж решилась, ведь не девочка, если годы тянула, а потом решилась, — надо было понимать, ведь решилась…
А через несколько секунд он вновь искал себе спасение в ненависти: «Конечно, конечно, не хотела, пока был зауряд-майором, болтался на сопках, в Никольске-Уссурийском, а решилась, когда пошел в начальство, в генеральши захотела, все вы, бабы, одинаковы». И тут же он видел нелепость этих мыслей, нет-нет, хорошо бы так. Ведь ушла, вернулась к человеку, который в лагерь, на Колыму пойдет, какая тут выгода… Русские женщины, стихи Некрасова; не любит меня, любит его… нет, не любит его, жалеет его, просто жалеет. А меня не жалеет? Да мне сейчас хуже, чем всем вместе взятым, что на Лубянке сидят и во всех лагерях, во всех госпиталях с оторванными ногами и руками, да я не задумаюсь, хоть сейчас в лагерь, тогда кого выберешь? Его! Одной породы, а я чужой, она так и звала меня: чужой, чужой. Конечно, хоть маршал, а все равно мужик, шахтер, неинтеллигентный человек, в ее хреновой живописи не понимаю… Он громко, с ненавистью спросил:
— Так зачем же, зачем же?
Он вынул из заднего кармана револьвер, взвесил на ладони.
— И не потому застрелюсь, что жить не могу, а чтобы ты всю жизнь мучилась, чтобы тебя, блядину, совесть заела.
Потом он спрятал револьвер.
— Забудет меня через неделю.
Самому надо забыть, не вспомнить, не оглянуться!
Он подошел к столу, стал перечитывать письмо: «Бедный мой, милый, хороший…» Ужасными были не жестокие слова, а ласковые, жалостливые, унижающие. От них делалось совершенно невыносимо, даже дышать невозможно становилось.
Он увидел ее груди, плечи, колени. Вот едет она к этому жалкому Крымову. «Ничего не могу с собой поделать». Едет в тесноте, в духоте, ее спрашивают. «К мужу», — говорит. И глаза кроткие, покорные, собачьи, грустные.
Из этого окна он смотрел, не едет ли к нему она. Плечи затряслись, он засопел, залаял, давясь, вдавливая в себя прущие наружу рыдания. Вспомнил, что велел привезти для нее из фронтового интендантства шоколадных конфет, шутя сказал Вершкову: «Голову оторву, если тронешь».
И снова бормотал:
— Видишь, миленькая моя, Женечка моя, что ты со мной делаешь, да пожалей ты меня хоть трошечки.
Он быстро вытащил из-под койки чемодан, достал письма и фотографии Евгении Николаевны, и те, что возил с собой много лет, и ту фотографию, что она прислала ему в последнем письме, и ту, самую первую, маленькую, для паспорта, завернутую в целлофановую бумагу, и стал рвать их сильными, большими пальцами. Он раздирал в клочья написанные ею письма и в мелькании строчек, по отдельному кусочку фразы на бумажном клочке узнавал десятки раз читанные и перечитанные, сводившие с ума слова, смотрел, как исчезало лицо, гибли губы, глаза, шея на разодранных фотографиях. Он торопился, спешил. От этого становилось ему все легче, казалось, он враз вырвал, выдрал ее из себя, затаптывал ее целиком, освобождался от ведьмы.
Жил же он без нее. Осилит! Через год пройдет мимо нее, сердце не дрогнет. Ну вот, все! «Нужна ты мне, как пьянице пробка!» И едва он подумал это, как ощутил нелепость своей надежды. Из сердца ничего не вырвешь, сердце не бумажное, не чернилами в нем жизнь записана, не порвешь его в клочки, не выдерешь из себя долгих лет, впечатавшихся в мозг, душу.
Он сделал ее участницей своей работы, своей беды, мыслей, свидетельницей дней своей слабости, силы…
И порванные письма не исчезли, десятки раз читанные слова остались в памяти, и глаза ее по-прежнему смотрели на него с порванных фотографий.
Он открыл шкаф, налил до краев стакан водки, выпил, закурил папиросу, вновь прикурил, хотя папироса горела. Горе зашумело в голове, обожгло внутренности.
И он снова громко спросил:
— Женечка, маленькая, миленькая, что ты наделала, что ты наделала, как ты могла?
Потом он сунул клочья бумаги в чемодан, поставил в шкаф бутылку, подумал: «От водки чуток легче».
Вот скоро танки войдут в Донбасс, он приедет в родной поселок, найдет место, где похоронены старики; пусть отец погордится Петькой, пусть мать пожалеет своего горького сынка. Война кончится, он приедет к брату, будет жить в его семье, племянница скажет: «Дядя Петя, что ты молчишь?»
Вдруг ему вспомнилось детство, — живший у них мохнатый пес ходил на собачью свадьбу и вернулся искусанный, с вырванной шерстью, со сжеванным ухом, с отеком головы, от которого у него заплыл глаз и покривило губу, стоял у крыльца, печально опустив хвост, и отец, поглядев на него, добродушно спросил:
— Что, пошаферовал?
Да, пошаферовал…
В комнату вошел Вершков.
— Отдыхаете, товарищ полковник?
— Да, немного.
Он посмотрел на часы, подумал: «До семи часов завтрашнего дня приостановить движение. Шифровкой передать по радио».
— Я снова в бригады поеду, — сказал он Вершкову.
Быстрая езда немного отвлекла сердце. Шофер гнал «виллис» со скоростью восемьдесят километров в час, а дорога была совсем плохой, машину подбрасывало, швыряло, заносило.
Каждый раз водитель пугался, жалобно взглядом просил у Новикова разрешения снизить скорость.
Он вошел в штаб танковой бригады. Как все изменилось за короткие часы! Как изменился Макаров — словно несколько лет с ним не виделись.
Макаров, забыв об уставных правилах, недоуменно развел руками, сказал:
— Товарищ полковник, только что Гетманов передал приказ командующего фронтом: распоряжение о дневке отменить, продолжать наступление.
52
Через три недели танковый корпус Новикова был выведен во фронтовой резерв — корпусу предстояло пополнить личный состав, отремонтировать машины. Люди и машины устали, пройдя с боями четыреста километров.
Одновременно с приказом о выходе в резерв было получено распоряжение о вызове полковника Новикова в Москву, в Генштаб и в Главное управление высших командных кадров, и не совсем было ясно, вернется ли он в корпус.
На время его отсутствия командование временно было возложено на генерал-майора Неудобнова. За несколько дней до этого бригадный комиссар Гетманов был извещен о том, что Центральный Комитет партии решил в ближайшем будущем отозвать его из кадров — ему предстояло работать секретарем обкома в одной из освобожденных областей Донбасса; работе этой Центральный Комитет придавал особое значение.
Приказ о вызове Новикова в Москву вызвал толки в штабе фронта и в Управлении бронетанковых сил.
Одни говорили, что вызов этот ничего не означает и что Новиков, побыв недолгое время в Москве, вернется обратно и примет командование корпусом.
Вторые говорили, что дело связано с ошибочным распоряжением о десятичасовом отдыхе, отданным Новиковым в разгар наступления, и с заминкой, допущенной им при вводе корпуса в прорыв. Другие считали, что он не сработался с комиссаром корпуса и начальником штаба, имевшими большие заслуги.
Секретарь Военного совета фронта, человек информированный, сказал, что кое-кем Новикову вменялись в вину компрометирующие личные связи. Одно время секретарь Военного совета считал, что беды Новикова связаны с неладами, возникшими между ним и комиссаром корпуса. Но, видимо, это оказалось не так. Секретарь Военного совета своими глазами читал письмо Гетманова, написанное в самые высшие инстанции. В этом письме Гетманов возражал против отстранения Новикова от командования корпусом, писал, что Новиков замечательный командир, обладающий выдающимся военным дарованием, человек безупречный в политическом и моральном отношении.
Но особо удивительно, что в ночь получения приказа об отзыве в Москву Новиков впервые спокойно спал до утра, после многих мучительных бессонных ночей.
53
Казалось, грохочущий поезд нес Штрума, и странно человеку в поезде было думать и вспоминать о домашней тишине. Время стало плотным, наполнилось событиями, людьми, телефонными звонками. День, когда Шишаков приехал к Штруму домой, внимательный, любезный, с расспросами о здоровье, с шутливыми и дружескими объяснениями, предающими забвению все происшедшее, казалось, ушел в десятилетнюю давность.
Штрум думал, что люди, старавшиеся погубить его, будут стыдиться смотреть в его сторону, но они в день его прихода в институт радостно здоровались с ним, заглядывали ему в глаза взором, полным преданности и дружбы. Особенно удивительно было то, что эти люди были действительно искренни, они действительно желали теперь Штруму одного лишь добра.
Он теперь снова слышал много хороших слов о своей работе. Маленков вызвал его и, уставившись на него пристальными, умными черными глазами, проговорил с ним сорок минут. Штрума поразило, что Маленков был в курсе его работы и довольно свободно пользовался специальными терминами.
Штрума удивили слова, сказанные на прощанье Маленковым: «Мы будем огорчены, если в какой-либо мере помешаем вашей работе в области физической теории. Мы отлично понимаем — без теории нет практики».
Он совсем не ожидал услышать подобные слова.
Странно было на следующий день, после встречи с Маленковым, видеть беспокойный, спрашивающий взгляд Алексея Алексеевича и вспоминать чувство обиды и унижения, пережитое, когда Шишаков, устроив дома совещание, не позвал Штрума.
Снова был мил и сердечен Марков, острил и посмеивался Савостьянов. Гуревич пришел в лабораторию, обнял Штрума, сказал: «Как я рад, как я рад, вы Веньямин Счастливый».
А поезд все нес его.
Штрума запросили, не находит ли он нужным создать на базе своей лаборатории самостоятельное исследовательское учреждение. Он на специальном самолете летал на Урал, вместе с ним летел заместитель наркома. За ним закрепили автомашину, и Людмила Николаевна ездила в лимитный магазин на машине, подвозила тех самых женщин, которые старались ее не узнавать несколько недель назад.
Все то, что казалось раньше сложным, запутанным, совершалось легко, само собой.
Молодой Ландесман был растроган: Ковченко позвонил ему домой по телефону, Дубенков в течение часа оформил его поступление в лабораторию Штрума.
Анна Наумовна Вайспапир, приехав из Казани, рассказала Штруму, что ее вызов и пропуск были оформлены в течение двух дней, а в Москве Ковченко прислал за ней машину на вокзал. Анну Степановну Дубенков письменно известил о восстановлении на работе и о том, что вынужденный прогул, по договоренности с заместителем директора, ей оплатят полностью.
Новых работников беспрерывно кормили. Они, смеясь, говорили, что вся их работа сводится к тому, что их с утра до вечера возят по «закрытым» столовым и кормят. Но их работа, конечно, была не только в этом.
Установка, смонтированная в лаборатории Штрума, уже не казалась ему такой совершенной, он думал, что через год она будет вызывать улыбку, как стеффенсоновский паровозик.
Все, что происходило в жизни Штрума, казалось естественным и в то же время казалось совершенно противоестественно. В самом деле — работа Штрума действительно была значительна и интересна, — почему бы не похвалить ее? И Ландесман был талантливым ученым, — почему бы ему не работать в институте? И Анна Наумовна была незаменимым человеком, зачем же ей было торчать в Казани?
И в то же время Штрум понимал, что не будь сталинского телефонного звонка, никто бы в институте не хвалил выдающиеся труды Виктора Павловича и Ландесман со всеми своими талантами болтался бы без дела.
Но ведь звонок Сталина не был случайностью, не был прихотью, капризом. Ведь Сталин это государство, а у государства не бывает прихотей и капризов.
Штруму казалось, что организационные дела — прием новых сотрудников, планы, размещение заказов на аппаратуру, совещания — займут все его время. Но автомобили катили быстро, заседания были короткими, и на них никто не опаздывал, его пожелания реализовывались легко, и самые ценные утренние часы Штрум постоянно проводил в лаборатории. В эти самые важные рабочие часы он был свободен. Никто не стеснял его, он думал о том, что интересовало его. Его наука оставалась его наукой. Это совсем не походило на то, что произошло с художником в гоголевской повести «Портрет».
На его научные интересы никто не покушался, а он опасался этого больше всего. «Я действительно свободен», — удивлялся он.
Виктор Павлович как-то вспомнил казанские рассуждения инженера Артелева об обеспеченности военных заводов сырьем, энергией, станками, о том, что там отсутствует волокита…
«Ясно, — подумал Виктор Павлович, — в стиле „ковер-самолет“, в отсутствии бюрократизма как раз и проявляется бюрократизм. То, что служит главным целям государства, мчится экспрессом, сила бюрократизма имеет в себе две противоположности, — она способна остановить любое движение, но она же может придать движению невиданное ускорение, хоть вылетай за пределы земного тяготения».
Но о вечерних разговорах в маленькой казанской комнатке он теперь вспоминал нечасто, равнодушно, и Мадьяров не казался ему таким замечательным, умным человеком. Теперь его не тревожила неотступно мысль о судьбе Мадьярова, не вспоминался так часто и упорно страх Каримова перед Мадьяровым, страх Мадьярова перед Каримовым.
Все происходившее невольно стало казаться естественным и законным. Правилом стала жизнь, которой жил Штрум. Штрум стал привыкать к ней. Исключением стала казаться жизнь, которая была раньше, и Штрум стал отвыкать от нее. Так ли уж верны были рассуждения Артелева?
Раньше, едва входя в отдел кадров, он раздражался, нервничал, ощущая на себе взгляд Дубенкова. Но Дубенков оказался услужливым и добродушным человеком.
Он звонил Штруму по телефону и говорил:
— Беспокоит Дубенков. Я не помешал, Виктор Павлович?
Ковченко представлялся ему вероломным и зловещим интриганом, способным погубить всякого, кто станет на его пути, демагогом, равнодушным к живой сути работы, пришедшим из мира таинственных, неписаных инструкций. Но оказалось, Ковченко обладал и совершенно иными чертами. Он заходил ежедневно в лабораторию Штрума, вел себя запросто, шутил с Анной Наумовной и оказался заправским демократом, — здоровался со всеми за руку, беседовал со слесарями, механиками, он сам в молодости работал токарем в цехе.
Шишакова Штрум не любил много лет. Он приехал обедать к Алексею Алексеевичу, и тот оказался хлебосолом и гастрономом, острословом, анекдотистом, любителем хорошего коньяка и коллекционером гравюр. А главное — он оказался поклонником теории Штрума.
«Я победил», — думал Штрум. Но он понимал, конечно, что одержал не высшую победу, что люди, с которыми он имел дело, изменили свое отношение к нему, стали помогать, а не мешать ему вовсе не потому, что он очаровал их силой ума, таланта либо еще какой-то там своей силой.
И все же он радовался. Он победил!
Почти каждый вечер по радио передавались сообщения «В последний час». Наступление советских войск все ширилось. И Виктору Павловичу казалось теперь так просто и легко связать закономерность своей жизни с закономерным ходом войны, с победой народа, армии, государства.
Но он понимал, что не так уж все просто, посмеивался над своим собственным желанием увидеть лишь одно азбучно простое: «И тут Сталин, и там Сталин. Да здравствует Сталин».
Администраторы и партийные деятели, казалось ему, и в кругу семьи говорят о чистоте кадров, подписывают красным карандашом бумаги, читают женам вслух «Краткий курс» истории партии, а во сне видят временные правила и обязательные инструкции.
Неожиданно эти люди открылись Штруму с другой, человеческой стороны.
Секретарь парткома Рамсков оказался рыболовом, — до войны он с женой и сыновьями путешествовал в лодке по уральским рекам.
— Эх, Виктор Павлович, — сказал он, — есть ли что-нибудь лучше в жизни: выйдешь на рассвете, роса блестит, песочек на берегу холодный, разматываешь удочки, и вода, темная еще, замкнутая, что-то она тебе сулит… Вот война кончится, я вас втяну в рыболовное братство…
Ковченко как-то разговаривал со Штрумом о детских болезнях. Штрум удивился его познаниям в способах лечения рахита, ангины. Оказалось, что у Касьяна Терентьевича, кроме двух родных детей, живет усыновленный мальчик-испанец. Маленький испанец часто болел, и Касьян Терентьевич сам занимался его лечением.
И даже сухой Свечин рассказывал Штруму о своей коллекции кактусов, которую ему удалось спасти в холодную зиму 1941 года.
«А, ей-Богу, не такие уж плохие люди, — думал Штрум. — В каждом человеке есть человеческое».
Конечно, Штрум в глубине души понимал, что все эти изменения, в общем-то, ничего не меняют. Он не был дураком, он не был циником, он умел думать.
В эти дни ему вспомнился рассказ Крымова о своем старом товарище, старшем следователе военной прокуратуры, Багрянове. Багрянов был арестован в 1937 году, а в 1939 году, в короткую пору бериевского либерализма, выпущен из лагеря и возвращен в Москву.
Крымов рассказывал, как Багрянов пришел к нему ночью прямо с вокзала в рваной рубахе и в рваных брюках, с лагерной справкой в кармане.
В эту первую ночь он произносил свободолюбивые речи, сострадал всем лагерникам, собирался стать пчеловодом и садовником.
Но постепенно, по мере возвращения к прежней жизни, его речи менялись.
Крымов со смехом рассказывал, как постепенно, по ступеням, менялась идеология Багрянова. Ему вернули военные штаны и китель, и этой фазе соответствовали все еще либеральные взгляды. Но все же он уж не обличал, подобно Дантону, зло.
Но вот ему взамен лагерной справки выдали московский паспорт. И сразу же в нем ощутилось желание стать на гегелевские позиции: «Все действительное разумно». Потом ему вернули квартиру, и он заговорил по-новому, сказал, что в лагерях немало осужденных за дело врагов советского государства. Потом ему вернули ордена. Потом его восстановили в партии и восстановили его партийный стаж.
Как раз в эту пору у Крымова начались партийные неприятности. Багрянов перестал звонить ему по телефону. Однажды Крымов встретился с ним, — Багрянов с двумя ромбами на вороте гимнастерки выходил из машины, остановившейся у подъезда союзной прокуратуры. Это было через восемь месяцев после того, как человек в рваной сорочке, с лагерной справкой в кармане, ночью, сидя у Крымова, произносил речи о невинно осужденных и о слепом насилии.
— А я-то думал, послушав его в ту ночь, что он навсегда потерян для прокуратуры, — с недоброй усмешкой говорил Крымов.
Конечно, Виктор Павлович не напрасно вспомнил эту историю и рассказал ее Наде и Людмиле Николаевне.
Ничто не изменилось в его отношении к людям, погибшим в 1937 году. Он по-прежнему ужасался жестокости Сталина.
Жизнь людей не меняется от того, стал ли некто Штрум пасынком удачи или баловнем ее, люди, погибшие в пору коллективизации, расстрелянные в 1937 году, не воскреснут от того, дадут ли некоему Штруму ордена и лауреатскую медаль или не дадут, приглашают ли его к Маленкову или не включают в список приглашенных пить чай у Шишакова.
Все это Виктор Павлович отлично помнил и понимал. И все же что-то новое появилось в этой памяти и понимании. То ли не было в нем прежнего смятения, прежней тоски по свободе слова и печати, то ли не жгли теперь с прежней силой душу мысли о невинно загубленных людях. Может быть, это было связано с тем, что он теперь не испытывал постоянного острого утреннего, вечернего, ночного страха?
Виктор Павлович понимал, что Ковченко, и Дубенков, и Свечин, и Прасолов, и Шишаков, и Гуревич, и еще многие не стали лучше оттого, что изменили свое отношение к нему. Гавронов, продолжавший с фанатической упорностью охаивать Штрума и его работу, был честен.
Штрум так и сказал Наде:
— Понимаешь, мне кажется, что во вред себе отстаивать свои черносотенные убеждения все же лучше, чем из карьеристских соображений защищать Герцена и Добролюбова.
Он гордился перед дочерью тем, что контролирует себя, следит за своими мыслями. С ним не случится то, что случилось со многими: успех не повлияет на его взгляды, на его привязанности, на выбор друзей… Напрасно Надя его заподозрила когда-то в подобном грехе.
Старый стреляный воробей. Все менялось в его жизни, но он-то не менялся. Он не менял заношенного костюма, мятых галстуков, туфель со стоптанными каблуками. Он ходил по-прежнему нестриженый, со спутанными волосами, он по-прежнему на самые ответственные заседания приходил небритым.
Он по-прежнему любил беседовать с дворниками и лифтерами. Он по-прежнему свысока, презрительно относился к человеческим слабостям, осуждал робость многих людей. Его утехой была мысль: «Вот я-то не сдался, не пошел на поклон, выстоял, не покаялся. Ко мне пришли».
Часто говорил он жене: «Сколько ничтожеств вокруг! Как люди боятся защищать свое право быть честными, как легко уступают, сколько соглашательства, сколько жалких поступков».
Он даже о Чепыжине как-то подумал с осуждением: «В его чрезмерном увлечении туризмом да альпинизмом бессознательный страх перед сложностью жизни, а в его уходе из института — сознательный страх перед главным вопросом нашей жизни».
Конечно, что-то все же менялось в нем, он чувствовал это, но он не мог понять, что же именно.
54
Вернувшись на работу, Штрум не застал в лаборатории Соколова. За два дня до прихода Штрума в институт Петр Лаврентьевич заболел воспалением легких.
Штрум узнал, что перед своей болезнью Соколов договорился с Шишаковым о новой работе. Соколова утвердили заведующим вновь организуемой лаборатории. Вообще дела Петра Лаврентьевича шли в гору.
Даже всеведущий Марков не знал истинных причин, заставивших Соколова просить дирекцию о переводе из лаборатории Штрума.
Узнав об уходе Соколова, Виктор Павлович не почувствовал горечи и сожаления, — мысль о встрече с ним, о совместной работе была тяжела.
Чего только не прочел бы Соколов в глазах Виктора Павловича. Конечно, он не имел права думать о жене своего друга так, как думал о ней. Он не имел права тосковать о ней. Он не имел права тайно встречаться с ней.
Расскажи ему кто-либо подобную историю, он был бы возмущен. Обманывать жену! Обманывать друга! Но он тосковал по ней, мечтал о встречах с ней.
У Людмилы отношения с Марьей Ивановной восстановились. Они имели долгое телефонное объяснение, потом встретились, плакали, каясь одна перед другой в дурных мыслях, подозрениях, неверии в дружбу.
Боже, как сложна и запутанна жизнь! Марья Ивановна, правдивая и чистая Марья Ивановна, не была искренна с Людмилой, покривила душой! Но ведь сделала она это ради своей любви к нему.
Теперь Штрум редко видел Марью Ивановну. Почти все, что он узнавал о ней, шло от Людмилы.
Он узнал, что Соколова выдвигают на Сталинскую премию за работы, опубликованные до войны. Он узнал, что Соколов получил восторженное письмо от молодых английских физиков. Он узнал, что Соколов на ближайших выборах в Академии будет баллотироваться в члены-корреспонденты. Обо всем этом Марья Ивановна рассказала Людмиле. Сам он при коротких встречах с Марьей Ивановной теперь не говорил о Петре Лаврентьевиче.
Деловые волнения, заседания, поездки не могли заглушить его постоянной тоски, ему все время хотелось ее видеть.
Людмила Николаевна несколько раз говорила ему: «Не могу я понять, почему Соколов так восстановлен против тебя. И Маша мне ничего не может толком объяснить».
Объяснение имелось простое, но, конечно, Марья Ивановна ничего толком не могла объяснить Людмиле. Достаточно, что она рассказала мужу о своем чувстве к Штруму.
Это признание навсегда погубило отношения Штрума и Соколова. Она обещала мужу не видеться больше со Штрумом. Скажи Марья Ивановна хоть слово Людмиле, и он подолгу ничего не будет знать о ней, — где она, что с ней. Ведь они виделись так редко! И ведь встречи их были так коротки! Во время этих встреч они мало разговаривали, ходили по улице, взявшись за руки, либо сидели в скверике на скамейке и молчали.
В пору его горестей и несчастий она с совершенно необычайной чуткостью понимала все, что он переживает. Она угадывала его мысли, она угадывала его поступки, казалось, что она даже заранее знала все, что произойдет с ним. Чем тяжелей на душе было ему, тем мучительней и сильней становилось желание видеть ее. Ему казалось, что в этом полном, совершенном понимании и есть его нынешнее счастье. Казалось, будь эта женщина рядом с ним, он бы легко перенес все свои страдания. Он был бы с ней счастлив.
Как-то они разговаривали ночью в Казани, в Москве прошли вдвоем по Нескучному саду, однажды посидели несколько минут на скамейке в скверике на Калужской, вот, собственно, и все. Это было прежде. Да вот еще то, что сейчас: несколько раз они говорили по телефону, несколько раз виделись на улице, и об этих коротких свиданиях он не говорил Людмиле.
Но он понимал, что его грех и ее грех не мерился минутами, которые они тайно просидели на скамейке. Грех был немалый: он любил ее. Почему такое огромное место в его жизни заняла она?
Каждое его слово, сказанное жене, было полуправдой. Каждое движение, каждый взгляд, помимо его воли, нес в себе ложь.
Он с деланным безразличием спрашивал у Людмилы Николаевны: «Ну как, звонила тебе твоя подружка, что она, как здоровье Петра Лаврентьевича?»
Он радовался успехам Соколова. Но радовался он не от хорошего чувства к Соколову. Ему почему-то казалось, что успехи Соколова дают право Марье Ивановне не испытывать угрызений.
Невыносимо было узнавать о Соколове и Марье Ивановне от Людмилы. Это было унизительно для Людмилы, для Марьи Ивановны, для него.
Но ложь смешивалась с правдой и тогда, когда он говорил с Людмилой о Толе, о Наде, об Александре Владимировне, ложь была во всем. Почему, отчего? Ведь его чувство к Марье Ивановне было действительной правдой его души, его мыслей, его желаний. Почему же эта правда порождала столько лжи? Он знал, что, отрекшись от своего чувства, он освободил бы от лжи и Людмилу, и Марью Ивановну, и себя. Но в те минуты, когда ему казалось, что надо отказаться от любви, на которую он не имел права, лукавое чувство, пугаясь страдания, заморочивая мысль, отговаривало его: «Ведь не так уж страшна эта ложь, никому нет вреда от нее. Страдания страшнее, чем ложь».
Когда минутами ему казалось, он найдет в себе силу и жестокость порвать с Людмилой, разрушить жизнь Соколова, его чувство подталкивало его, обманывало мысль прямо противоположным способом: «Ложь ведь хуже всего, лучше пойти на разрыв с Людмилой, лишь бы не лгать ей, не заставлять лгать Марью Ивановну. Ложь ужасней страданий!»
Он не замечал, что мысль его стала покорной служанкой его чувства, чувство водило за собой мысль и что из этого кругового верчения был один лишь выход — рубить по живому, жертвовать собой, а не другими.
Чем больше он думал обо всем этом, тем меньше он во всем этом разбирался. Как понять это, как распутать — его любовь к Марье Ивановне была правдой его жизни и ложью его жизни! Вот был у него летом роман с красивой Ниной, это не был гимназический роман. С Ниной они не только гуляли в скверике. Но ощущение измены, семейной беды, вины перед Людмилой пришло к нему теперь.
Он тратил очень много душевных сил, мыслей, волнений на эти дела, вероятно, Планк затратил не меньше сил на создание квантовой теории.
Одно время он считал, что эта любовь рождена лишь его горестями, бедами… Не будь их, он не испытывал бы такого чувства…
Но жизнь подняла его, а желание видеть Марью Ивановну не ослаблялось.
Она была особой натурой, — не богатство, не слава, не сила привлекали ее. Ведь ей хотелось делить с ним беду, горе, лишения… И он тревожился: вдруг она отвернется от него теперь?
Он понимал, что Марья Ивановна боготворила Петра Лаврентьевича. Вот это-то и сводило его с ума.
Наверное, Женя была права. Вот эта вторая любовь, приходящая после долгих лет женатой жизни, она действительно есть следствие душевного авитаминоза. Вот так корову тянет лизать соль, которую она годами ищет и не находит в траве, в сене, в листьях деревьев. Этот голод души развивается постепенно, он достигает огромной силы. Вот так оно было, вот так оно есть. О, он-то знал свой душевный голод… Марья Ивановна разительно не похожа на Людмилу…
Были ли мысли его верны, были ли они ложны? Штрум не замечал того, что не разум рождал их, их правильность, их ложность не определяли его поступков. Разум не был его хозяином. Он страдал, не видя Марьи Ивановны, был счастлив при мысли, что увидит ее. Когда же он представлял себе, что они будут всегда неразлучно вместе, он становился счастлив.
Почему он не испытывал угрызений совести, думая о Соколове? Почему не становилось ему стыдно?
Правда, чего стыдиться? Ведь только и было, что прошли по Нескучному саду да посидели на скамейке.
Ах, да при чем тут сидение на скамейке! Он готов порвать с Людмилой, он готов сказать своему другу, что любит его жену, что хочет забрать ее у него.
Он вспоминал все плохое, что было в его жизни с Людмилой. Он вспоминал, как нехорошо относилась Людмила к его матери. Он вспомнил, как Людмила не пустила ночевать его двоюродного брата, вернувшегося из лагеря. Он вспоминал ее черствость, ее грубость, упрямство, жестокость.
Воспоминания о плохом ожесточали его. А ожесточиться нужно было, чтобы свершить жестокость. Но ведь Людмила прожила жизнь с ним, разделила с ним все тяжелое, трудное. Ведь у Людмилы седеют волосы. Сколько горя легло на нее. Только ли плохое в ней? Ведь сколько лет он гордился ею, радовался ее прямоте, правдивости. Да-да, он готовился совершить жестокость.
Утром, собираясь на работу, Виктор Павлович вспомнил недавний приезд Евгении Николаевны и подумал:
«Все же хорошо, что Женевьева уехала в Куйбышев».
Ему стало стыдно от этой мысли, и именно в этот момент Людмила Николаевна сказала:
— Ко всем нашим сидящим добавился еще Николай. Хорошо еще, что Жени сейчас нет в Москве.
Он хотел ее упрекнуть за эти слова, но спохватился, промолчал, — уж очень фальшив был бы его упрек.
— Чепыжин тебе звонил, — сказала Людмила Николаевна.
Он посмотрел на часы.
— Вечером вернусь пораньше и позвоню ему. Между прочим, вероятно, я опять полечу на Урал.
— Надолго?
— Нет. Дня на три.
Он спешил, впереди был большой день.
Работа была большая, дела большие, государственные дела, а собственные мысли, словно в голове действовал закон обратной пропорциональности, были маленькие, жалкие, мелкие.
Женя, уезжая, просила сестру сходить на Кузнецкий мост, передать Крымову 200 рублей.
— Людмила, — сказал он, — надо передать деньги, о которых просила Женя, ты, кажется, срок пропустила.
Он сказал это не потому, что тревожился о Крымове и о Жене. Он сказал это, подумав, что небрежность Людмилы может ускорить Женин приезд в Москву. Женя, находясь в Москве, начнет писать заявления, письма, звонить по телефону, превратит квартиру Штрума в базу для тюремно-прокурорских хлопот.
Штрум понимал, что мысли эти не только мелкие и жалкие, но и подлые. Стыдясь их, он торопливо сказал:
— Напиши Жене. Пригласи ее от своего и моего имени. Может быть, ей нужно быть в Москве, а ехать без приглашения неловко. Слышишь, Люда? Немедленно напиши ей!
После таких слов ему стало хорошо, но он опять знал, — говорил он все это для самоуспокоения… Странно все же. Сидел в своей комнате, выгнанный отовсюду, и боялся управдома и девицы из карточного бюро, а голова была занята мыслями о жизни, о правде, о свободе, о Боге… И никому он не был нужен, и телефон молчал неделями, и знакомые предпочитали не здороваться с ним, встречаясь на улице. А теперь, когда десятки людей ждут его, звонят ему, пишут ему, когда ЗИС-101 деликатно сигналит под окном, — он не может освободиться от пустых, как подсолнечная шелуха, мыслей, жалкой досады, ничтожных опасений. То не так сказал, то неосторожно усмехнулся, какие-то микроскопические житейские соображения сопутствуют ему.
Одно время после сталинского телефонного звонка ему казалось, что страх полностью ушел из его жизни. Но оказалось, страх все же продолжался, он только стал иным, не плебейским, а барским, — страх ездил в машине, звонил по кремлевской вертушке, но он остался.
То, что казалось невозможным, — завистливое, спортивное отношение к чужим научным решениям и достижениям, стало естественно. Он тревожился, не обскачут, не обштопают ли?
Ему не очень хотелось говорить с Чепыжиным, казалось, что не хватит сил для долгого, трудного разговора. Они все же слишком просто представляли себе зависимость науки от государства. Ведь он действительно свободен. Его теоретические построения теперь никому не кажутся талмудической бессмыслицей. Никто теперь не покушается на них. Государству нужна физическая теория. Теперь это ясно и Шишакову, и Бадьину. Для того, чтобы Марков проявил свою силу в эксперименте, Кочкуров в практике, нужны халдеи-теоретики. Все вдруг поняли это после сталинского звонка. Как объяснить Дмитрию Петровичу, что звонок этот принес Штруму свободу в работе? Но почему он стал нетерпим к недостаткам Людмилы Николаевны? Но почему он так добродушен к Алексею Алексеевичу?
Очень приятен стал ему Марков. Личные дела начальства, тайные и полутайные обстоятельства, невинные хитрости и нешуточное коварство, обиды и уязвления, связанные с приглашениями и отсутствием приглашений на президиумы, попадание в какие-то особые списки и роковые слова: «Вас в списке нет», — все это стало ему интересно, действительно занимало его.
Он, пожалуй, предпочел бы сейчас провести свободный вечер в болтовне с Марковым, нежели рассуждать с Мадьяровым на казанских ассамблеях. Марков удивительно точно подмечал все смешное в людях, беззлобно и в то же время ядовито осмеивал человеческие слабости. Он обладал изящным умом, да к тому же Марков был первоклассным ученым. Быть может, самый талантливый физик-экспериментатор в стране.
Штрум уже надел пальто, когда Людмила Николаевна сказала:
— Марья Ивановна вчера звонила.
Он быстро спросил:
— Что же?
Видимо, лицо его изменилось.
— Что с тобой? — спросила Людмила Николаевна.
— Ничего, ничего, — сказал он и из коридора вернулся в комнату.
— Собственно, я не совсем поняла, какая-то неприятная история. Им звонил, кажется, Ковченко. В общем, она, как всегда, волнуется за тебя, боится, что ты навредишь себе опять.
— В чем же? — нетерпеливо спросил он. — Я не понял.
— Да вот, говорю, и я не поняла. Ей, видимо, было неудобно по телефону.
— Ну, повтори еще раз, — сказал он и, раскрыв пальто, сел на стул возле двери.
Людмила смотрела на него, покачивая головой. Ему показалось, что глаза ее укоризненно и печально смотрят на него.
А она, подтверждая эту его догадку, сказала:
— Вот, Витя, позвонить утром Чепыжину у тебя нет времени, а слушать про Машеньку ты всегда готов… даже вернулся, а уже опоздал.
Он как-то криво, снизу поглядел на нее, сказал:
— Да, я опоздал.
Он подошел к жене, поднес ее руку к губам.
Она погладила его по затылку, слегка потрепала волосы.
— Вот видишь, как стало важно и интересно с Машенькой, — тихо сказала Людмила и жалко улыбнулась, добавила: — С той самой, которая не может отличить Бальзака от Флобера.
Он посмотрел: ее глаза стали влажными, ее губы, ему показалось, дрожали. Он беспомощно развел руками, в дверях оглянулся.