Путешественник Тэффи Надежда
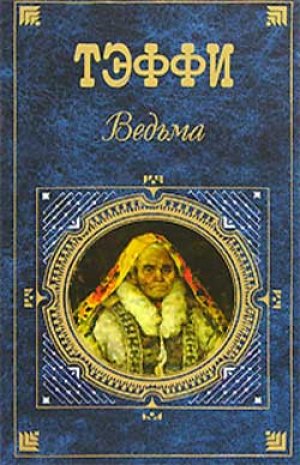
– Прежде чем мы определим список обвинений, следует задать множество вопросов. Однако допрос будет отложен до тех пор, пока вы не позволите монаху из Братства Правосудия действовать в качестве вашего защитника, поскольку вы обвиняетесь в убийстве – преступлении, которое карается смертной казнью…
Я обвиняюсь в убийстве! Я был настолько ошеломлен, что пропустил большую часть последовавших за этим слов. Наверняка на меня донесли либо Убалдо, либо Дорис, так как только им я доверил свою тайну. Но какимобразом им удалось так быстро это проделать? Кто написал для них донос, чтобы опустить его в львиную пасть на стене Дворца дожей?
Судья закончил свое выступление вопросом:
– У вас есть что сказать по этому поводу?
Я прочистил горло и неуверенно произнес:
– Но кто, кто донес на меня, мессир?
Глупо было спрашивать об этом, и, честно говоря, я не ожидал ответа на свой вопрос, который просто сорвался у меня с языка. К великому моему изумлению, тот, кто меня допрашивал, ответил:
– Вы сами донесли на себя, молодой мессир. – Должно быть, я взглянул на него с таким недоумением, что он добавил: – Разве не вы писали это? – И прочитал, глядя на лист бумаги: – «Будет ли он присутствовать на похоронах и на церемонии введения в должность?» – Не сомневаюсь, что я продолжал таращиться на него с глупым видом, поскольку последовало дальнейшее объяснение: – Это подписано: Марко Поло.
Переставляя ноги подобно лунатику, я снова был препровожден тюремщиками вниз по лестнице, а затем по другому пролету – в так называемый колодец, самую глубокую часть Вулкано. Но даже колодец, сказали мне, не был настоящей тюремной темницей. Вот когда мне будут предъявлены окончательные обвинения, то меня поместят в Туманные сады, куда заключали приговоренных до исполнения смертного приговора. Грубо рассмеявшись, тюремщики открыли тяжелую деревянную дверь в каменной стене, которая была всего лишь по колено высотой, повалили меня, засунули в отверстие и захлопнули за мной дверь со звуком, подобным трубному гласу в Судный день.
Моя новая камера оказалась значительно больше, чем orba, в низкой двери даже имелось отверстие. Правда, оно было таким маленьким, что я не смог бы даже просунуть в него руку и помахать уходящим тюремщикам, но зато пропускало воздух и достаточно света, чтобы тьма в камере не была совершенно непроницаема. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я разглядел, что тут имелись ведро с крышкой, в качестве pissota, и две голые полки из досок, служившие кроватями. В одном углу я также увидел нечто, напоминающее груду разбросанного постельного белья. Однако когда я приблизился, груда зашевелилась и поднялась. Это был человек.
– Шолом алейхем! – грубым голосом произнес он.
Приветствие прозвучало как чужеземное. Я всмотрелся и узнал рыжую с сединой копну волос и бороду. Это был тот самый иудей, чью публичную порку я наблюдал в столь знаменательный для меня день.
Глава 10
– Мордехай, – представился он. – Мордехай Картафило. – После чего спросил о том, о чем все узники спрашивают друг друга при первой встрече: – Ты здесь за что?
– За убийство, – сказал я, шмыгнув носом. – Думаю, что меня также обвинят в государственной измене, lesa-maest[60] и еще кое в чем.
– Убийства будет достаточно, – произнес он с легким ехидством. – Не волнуйся, парень. Тебе простят остальные незначительные проступки. Не могут же тебя наказать за них, раз ты будешь уже наказан за убийство. Это то, что называется риском дважды понести наказание за одно и то же преступление, здесь подобное запрещено законом.
Я злобно посмотрел на него:
– А ты шутник, старик.
Он пожал плечами.
– Каждый освещает тьму, как может.
Какое-то время мы молча предавались печали. Затем я произнес:
– Ты здесь за ростовщичество, так?
– Нет. Я здесь потому, что некая дама обвинила меня в ростовщичестве.
– Какое совпадение. Я здесь тоже, хотя и косвенно, из-за дамы.
– Ну, я сказал «дама» только для того, чтобы указать ее пол. В действительности она, – он плюнул на пол, – a shequesa karove.
– Я не понимаю твоих чужеземных слов.
– Язычница и putana cagna[61], – перевел он, опять сплюнув. – Она просила у меня взаймы денег и оставила в качестве залога на сохранение некие любовные письма. Когда она не смогла заплатить, а я отказался вернуть письма, она постаралась, чтобы я не отдал их кому-нибудь другому.
Я сочувственно покачал головой.
– Твой случай печальный, а вот мой – скорее нелепый. Моя дама попросила сослужить ей службу, предложив себя в качестве награды. Дело было сделано, но не мной. Тем не менее я здесь, и награда мне досталась совсем иная, но моя дама, возможно, еще даже и не знает об этом. Разве не смешно?
– Забавно. Иларию бы твоя история развеселила.
– Иларию? Ты знаешь эту даму?
– Что? – Он изумленно уставился на меня. – Твою karove тоже зовут Иларией?
Теперь уже я вытаращился на него.
– Как смеешь ты называть мою даму putana cagna?
Закончив наконец испепелять друг друга взглядами, мы уселись на нары и принялись сравнивать оба случая, после чего, увы, стало ясно, что и я, и Мордехай были знакомы с одной и той же донной Иларией. Я рассказал Картафило обо всем, заключив:
– Но ты упоминал о любовных письмах. Я никогда не посылал ей ни одного.
Он ответил:
– Мне жаль говорить тебе об этом, но они были подписаны совсем другим именем.
– Тогда получается, что у нее уже был любовник?
– Похоже на то.
– Она совратила меня, чтобы я сыграл для нее роль bravo. Я оказался самым настоящим простофилей. Исключительным глупцом.
– Похоже на то.
– А ту единственную записку, которую я все же написал, ту, которая теперь у Signori, она, должно быть, сунула в пасть льва. Но почему она так поступила со мной?
– Ей больше не нужен был bravo. Муж мертв, любовник в ее распоряжении, ты превратился для нее в обузу, которую надо устранить.
– Но я не убивал ее мужа!
– А кто же убил? Возможно, любовник. Так неужели ты ждешь, что она донесет на любовника, когда может вместо этого предложить тебя и тем самым спасти его?
У меня не было ответа на этот вопрос. Спустя мгновение сосед спросил меня:
– Ты когда-нибудь слышал о lamia?
– Lamia? Это значит ведьма, женщина-чудовище.
– Не совсем. Lamia может превратиться в юную и очень красивую ведьму. Она делает это для того, чтобы влюбить в себя молодых людей. Когда один из них попадает в ловушку, она занимается с ним любовью так сладострастно и усердно, что в конце концов тот изнемогает. Когда же юноша становится совсем беспомощным, lamia съедает его живьем. Это всего лишь миф, конечно, но удивительно живучий и широко распространенный. Я слышал его в каждой стране, где мне довелось побывать во время моего путешествия по Средиземноморью. А я много путешествовал. Просто удивительно, как много разных народов верят в то, что красота кровожадна.
Я принял это во внимание и сказал:
– Представь, она действительно улыбалась, когда наблюдала, как тебя пороли, старик.
– Меня это не удивляет. Возможно, она достигнет высот любовного экстаза, когда будет наблюдать, как тебя отправят к Мяснику.
– К кому?
– Так мы, старые обитатели тюрьмы, называем палача – Мясник. – Но меня не могут казнить! Я невиновен! Я знатный человек! Меня не должны были запирать вместе с иудеем! – закричал я, обезумев.
– О, простите меня, ваша светлость. Из-за того, что здесь плохое освещение, я не разглядел вас. Я принял вас за простого заключенного в pozzo Вулкано.
– Я не простой!
– Простите меня еще раз, – сказал еврей. Он засунул руку между нашими нарами, снял что-то с моей туники и поднес ко мне. – Всего лишь блоха. Обычная блоха. – Он раздавил ее ногтем. – Оказывается, она точно такая же, как и мои.
– С твоим зрением все в порядке, – проворчал я.
– Если ты действительно знатный человек, юный Марко, то должен сделать то же самое, что и остальные знатные заключенные. Потребовать камеру получше, одиночку с окошком на улицу или на воду. Ты сможешь спустить вниз веревку и посылать записки или поднимать наверх лакомства. Считается, что это не разрешено, но в случае со знатью правила не работают.
– В твоих устах это звучит так, словно я проведу здесь долгое время. – Нет, – вздохнул он. – Возможно, не очень долгое.
Смысл этой фразы заставил мои волосы зашевелиться.
– Я повторяю тебе, старый дурак, я невиновен!
Это засавило его ответить мне громким негодующим голосом:
– Почему ты говоришь это мне, несчастный mamzar?[62] Расскажи это Signori della Notte! Я тоже невиновен, но сижу здесь и здесь же сгнию!
– Погоди! У меня есть идея, – произнес я. – Мы оба здесь из-за того, что так пожелала Илария, из-за ее лжи. Если мы оба расскажем обо всем Signori, то, следовательно, они усомнятся в ее правдивости.
Мордехай в сомнении покачал головой.
– Кому они поверят? Эта женщина – почти что вдова дожа. А кто мы? Тебя обвиняют в убийстве, а меня – в ростовщичестве.
– Возможно, ты прав, – согласился я, совсем упав духом. – К несчастью, ты еще и иудей.
Он взглянул на меня вовсе даже не тусклыми глазами и произнес: – Люди всегда так говорят. Интересно, почему?
– Ну… только потому, что им кажется вполне естественным, что иудеи в первую очередь оказываются под подозрением.
– Я часто замечал это и все ломал голову, почему христиане так считают?
– Ну… вы же убили нашего Господа Иисуса Христа…
Он фыркнул и сказал:
– Ну а я, разумеется, главный убийца!
Словно испытывая ко мне отвращение, Мордехай повернулся ко мне спиной, растянулся на своей полке и укрылся своим огромным одеянием. Он пробормотал в стену:
– Вот и говори после этого с людьми по-хорошему… да уж…
После чего, по-видимому, уснул.
Время тянулось медленно, отверстие в двери уже потемнело, когда ее с шумом отперли и двое тюремщиков пролезли внутрь, таща за собой большой чан. Старый Картафило перестал храпеть и сел в нетерпении. Тюремщики дали каждому из нас по деревянной доске, на которую они положили из чана чуть теплую клейкую массу. Затем они оставили нам тускло горевшую лампу – миску с рыбьим жиром, в котором плавал кусок тряпки и больше чадил, чем давал света. После этого тюремщики вышли и закрыли дверь. Я с сомнением уставился на еду.
– Polenta, – сказал мне Мордехай, жадно зачерпывая ее двумя пальцами. – Молодой юнош, тебе лучше съесть это. Здесь кормят только один раз в день. Больше ты ничего не получишь.
– Я не голоден, – ответил я. – Если хочешь, можешь съесть и мою. Он чуть не выхватил у меня доску и жадно съел обе порции, причмокивая губами. Когда он покончил с едой, то сел и принялся ковыряться в зубах, словно не хотел потерять даром ни единой частички пищи. Потом старик уставился на меня из-под своих косматых бровей и наконец произнес:
– Что же ты обычно ешь на ужин?
– О… ну, например, тарелку tagliatelle[63]… или пью zabagion[64]…
– Bongusto[65], – произнес он сардонически. – Я не могу претендовать на то, что у меня такой изысканный вкус, но, может, ты предпочтешь это? – Он порылся в своей одежде. – Лояльные венецианские законы позволяют мне соблюдать некоторые религиозные ритуалы, даже в тюрьме.
Я не очень понял, как это связано с белыми квадратиками печенья из пресного теста, которые Мордехай вытащил и вручил мне. Я с радостью взял их и съел, хотя печенье оказалось почти безвкусным, после чего поблагодарил старика.
Когда на следующий день наступило время ужина, я уже достаточно проголодался, чтобы не привередничать. Я готов был съесть тюремную баланду хотя бы потому, что она означала перерыв в монотонном существовании. Заняться здесь было нечем, только сидеть или спать на голой жесткой лежанке, делать два-три шага туда-сюда, насколько позволяли размеры камеры, или беседовать с Картафило. Время шло, знаком чему служило лишь то, как светлело или темнело отверстие в двери, да то, что старый иудей молился три раза в день, ну и еще, конечно, нам каждый вечер приносили ужасную пищу.
Возможно, для Мордехая это было не таким уж тяжелым испытанием, ибо, насколько я мог судить со стороны, ранее он проводил все свои дни в молитвах, погрузившись в глубины своей похожей на монашескую келью лавки, расположенной на Мерчерии, а такой образ жизни мало чем отличался от заключения. Однако я сам был прежде свободным и веселым человеком и, оказавшись заключен в Вулкано, чувствовал себя похороненным заживо. Я понимал, что мне следует радоваться хоть какой-то компании в этой могиле, где времени не существовало: пусть даже это был иудей, беседы с которым не всегда оказывались слишком оживленными. Однажды я заметил ему, что наблюдал несколько разных наказаний у столбов между Марко и Тодаро, но никогда не видел казни.
Старик ответил:
– Это оттого, что большинство казней происходит внутри этих стен, иногда даже узники не знают об этом до самого последнего момента. Приговоренного помещают в одну из камер так называемых Giardini Foschi[66], окна в ней зарешечены. Мясник ждет снаружи, ждет терпеливо, когда человек в камере сделает движение, подойдет к окну и встанет к нему спиной. Тогда Мясник взмахивает своей garrotta[67] и через решетку захлестывает ее вокруг горла жертвы, сжимая до тех пор, пока не сломает несчастному шею или не задушит. Туманные сады выходят на канал. Там в коридоре также есть подвижная каменная плита. Ночью тело жертвы спускают сквозь это тайное отверстие в поджидающую лодку и отвозят к Sepoltura Publica[68]. Пока все это не завершено, о казни не сообщают. Все делается без суеты. Правители Венеции не хотят, чтобы стало широко известно о том, что старые римские legge[69] о смертной казни до сих пор применяются здесь. Таким образом, публичные казни немногочисленны. Им подвергают только тех, кто обвинен действительно в гнусных преступлениях.
– Преступлениях какого рода? – спросил я.
– Помню, когда я был молодым, одного мужчину приговорили к этому за изнасилование монахини, а другого – за то, что выдал секрет получения муранского стекла чужеземцу. Надо думать, убийство человека, избранного дожем, относится к таким преступлениям, если это то, о чем ты беспокоишься.
Я сглотнул.
– Расскажи, а как проходит публичная казнь?
– Преступника ставят на колени у столбов, и Мясник отрубает ему голову. Однако прежде он отрубает ту часть тела, которая виновна в преступлении. Насильнику монахини, разумеется, отсекли член. Стеклодуву отрезали язык. После этого приговоренный отправляется к столбам, а виновная часть тела висит на веревке, повязанной вокруг его шеи. В твоем случае, полагаю, это будет всего лишь рука.
– И еще моя голова, – произнес я хриплым голосом.
– Вот смеху-то будет! – произнес Мордехай. – Голова на веревке, повязанной вокруг шеи.
– Смеху?! – издал я душераздирающий крик, а затем все же рассмеялся, настолько нелепыми показались мне его слова. – Все бы тебе шутить, старик.
Он пожал плечами:
– Каждый делает то, что умеет.
Однажды монотонность нашего заключения была нарушена. Дверь открылась, чтобы впустить незнакомца. Это был светловолосый молодой человек, одетый не в форму надзирателя, а в одеяние Братства Правосудия. Он представился мне как fratello[70] Уго.
– Итак, – оживленно произнес он, – у нас есть довольно просторный casermagio[71] и отдельные нары в Государственной тюрьме. Если вы бедны, то можете рассчитывать на помощь Братства. Оно будет оплачивать ваш casermagio, пока будет длиться ваше заточение. У меня есть разрешение заниматься адвокатской практикой, и я буду защищать ваши интересы по мере моих сил. Также я буду передавать послания с воли и на волю и добиваться для вас некоторых маленьких удобств – соль для пищи, масло для лампы и остальные подобные мелочи. Я могу договориться, – он бросил взгляд на старого Картафило и легонько вздохнул, – о том, чтобы вам предоставили отдельную камеру.
Я ответил:
– Сомневаюсь, что буду счастливее где-нибудь еще, брат Уго.
Я, пожалуй, останусь в этой камере.
– Как пожелаете, – сказал он. – Я уже связался с Торговым домом Поло, титулованным главой которого, оказывается, номинально являетесь вы, хотя вы пока еще и несовершеннолетний. Если хотите, можете сами платить за тюремный casermagio, а также выбрать себе адвоката на свой вкус. Вам надо лишь выписать необходимый pagheri и приказать компании оплатить его.
Я сказал в нерешительности:
– Это станет для Торгового дома Поло публичным унижением.
Не уверен, имею ли я хоть какое-то право транжирить понапрасну деньги…
– Да, ваше дело проиграно, – закончил он, кивнув в знак согласия. – Я вполне понимаю.
Встревоженный, я принялся протестовать:
– Я не имел в виду, надеюсь…
– Тогда у вас есть другая возможность – принять помощь Братства Правосудия. Для возмещения убытков Братству позднее разрешат отправить двоих бедняков собирать милостыню: они будут просить горожан подать им из жалости к несчастному Марко П…
– Amordei! – воскликнул я. – Это будет еще унизительней!
– В этом случае у вас не будет выбора. Давайте лучше обсудим ваше дело. Как вы собираетесь защищаться?
– Защищаться? – возмутился я. – Я не буду защищаться, я буду протестовать! Я невиновен!
Брат Уго снова бросил бесстрастный взгляд на иудея, словно подозревал, что я уже получил от него совет. Мордехай в ответ лишь изобразил на лице скептическое изумление.
Я продолжил:
– Своим первым свидетелем я назову донну Иларию. Когда эту женщину заставят рассказать о нашей…
– Ее не заставят, – прервал меня брат. – Signori della Notte не допустят этого. Эта знатная дама недавно овдовела и до сих пор не пришла в себя от горя.
Я усмехнулся:
– Вы пытаетесь убедить меня, что она скорбит о своем муже?
– Ну… – ответил он задумчиво, – если и не о нем, то можете быть уверенным, донна Илария действительно очень сильно расстроена из-за того, что не стала догарессой Венеции.
Старый Картафило издал звук, похожий на приглушенный смешок. Меня же заявление монаха сильно удивило – поскольку с этой точки зрения я ситуацию не рассматривал. Должно быть, Илария просто кипела от разочарования и злости. Да уж, коварная женщина наверняка даже и не мечтала о той чести, которой вскоре должны были удостоить ее мужа, а вместе с ним – и ее. Теперь Илария склонна была забыть о собственной причастности к гибели супруга, ее снедало желание отомстить за то, что она лишилась титула. Не имело значения, на кого падет ее месть, а кто же был самой легкой мишенью, как не я?
– Если вы невиновны, молодой мессир Марко, – сказал Уго, – то кто же тогда убил того человека?
Я ответил:
– Думаю, это был священник.
Брат Уго бросил на меня долгий взгляд, затем постучал по двери тюремщику, чтобы тот его выпустил. Когда дверь раскрылась на уровне его колен, монах сказал мне:
– Полагаю, вам все же следует нанять другого адвоката. Если вы намереваетесь обвинить святого отца в убийстве, а вдову убитого – в подстрекательстве, вам потребуется самый лучший адвокат в Республике. Ciao!
Когда он вышел, я сказал Мордехаю:
– Все уверены в том, что мое дело проиграно, не важно, виновен я или нет. Наверняка должен быть какой-то закон, защищающий невиновных от несправедливых обвинений.
– Почти наверняка. Но существует старая поговорка: «Законы Венеции самые справедливые, и им усердно следуют… неделю». Не позволяй своим надеждам вознестись слишком высоко.
– Тут не надеяться надо, а действовать, – заметил я. – Ты бы мог помочь нам обоим. Передай брату Уго те письма, которые хранятся у тебя, и пусть он предъявит их в качестве доказательства. В конце концов, они бросят тень подозрения на Иларию и ее любовника.
Мордехай уставился на меня своими глазами, похожими на ягоды черной смородины, инстинктивно погладил всклокоченную бороду и сказал:
– Думаешь, это будет по-христиански?
– А почему нет? Ты спасешь мне жизнь и сам выйдешь на свободу.
Я не вижу в этом ничего, противоречащего христианской морали.
– Тогда прошу прощения, но я придерживаюсь другой морали и потому не могу так поступить. Я не использовал это, чтобы избежать frasta[72], и не сделаю этого теперь, ради нас обоих.
Я уставился на него неверящим взглядом.
– Но почему, во имя всего на свете?
– Моя торговля основывается на доверии. Я единственный из всех ростовщиков, кто ссуживает деньги под залог такого рода. Я смогу делать это только в том случае, если клиенты будут мне доверять и возвращать ссуды с процентами. Клиенты отдают под залог подобные бумаги, потому что уверены – я сохраню их в неприкосновенности. Ты думаешь, в противном случае женщины закладывали бы мне любовные письма?
– Полно, старик. Посмотри, ведь Илария отплатила тебе предательством. Не доказывает ли это, что она считает тебя ненадежным, не верит иудею?
– Конечно, это кое-что доказывает, да, – согласился он, скривившись. – Однако если я хоть раз позволю утратить доверие к себе, даже при самых ужасных обстоятельствах, то должен буду забыть об избранном мною деле. Не потому, что другие сочтут меня достойным презрения, а потому, что я сам буду презирать себя.
– Да какое дело, ты, старый дурак! Ты, может, теперь останешься здесь до конца дней своих! Ты сам сказал об этом. Ты не можешь вести себя так…
– Я веду себя в соответствии со своей совестью. Возможно, это маленькое утешение, но оно у меня единственное. Сидеть здесь, расчесывать укусы блох и клопов и наблюдать, как моя когда-то пышная плоть становится изможденной, но при этом чувствовать себя превыше христиан, которые, руководствуясь своей моралью, засадили меня сюда.
Я прорычал:
– Ты смог бы с тем же успехом заниматься этим и на воле…
– Zitto![73] Достаточно! Советы дураков обычно глупы. В дальнейшем мы больше не будем это обсуждать. Посмотри-ка лучше на пол, мальчик, здесь есть два огромных паука. Давай устроим между ними гонки и заключим пари с капризной фортуной. Ну, кто, по-твоему, окажется победителем? Выбирай себе паука…
Глава 11
Прошло еще несколько дней, унылых и монотонных, и вот в камере снова, пробравшись через низкое дверное отверстие, появился брат Уго. Я с угрюмым видом дожидался, что он скажет еще что-нибудь столь же удручающее, как и в прошлый раз, но монах сообщил новость, которая привела меня в изумление.
– Ваши отец с дядей вернулись в Венецию!
– Что? – выдохнул я, не в силах осознать услышанное. – Вы имеете в виду, что доставили их тела? Чтобы захоронить на родине?
– Я имею в виду, что они здесь! Живые и здоровые!
– Живые? После почти десяти лет полного молчания?
– Да! Все их знакомые удивлены не меньше вас. В гильдии купцов только и разговоров, что об этом. Говорят, эти люди теперь являются послами из далекой Татарии[74] к Папе Римскому. Но, к счастью – к вашему счастью, молодой мессир Марко, – они заехали домой, прежде чем отправиться в Рим.
– Почему это к моему счастью? – спросил я потрясенный.
– Просто удивительно, что им удалось приехать столь своевременно! Как раз теперь они отправились в Quarantia за разрешением увидеться с вами. Это не дозволяется никому, кроме адвоката. Может случиться, что ваши отец и дядя смогут заставить судей при рассмотрении вашего дела проявить к вам милосердие. Ну а если это им не удастся, то их присутствие на вашей казни послужит вам моральной поддержкой. И поможет вам достойно держаться, когда вы отправитесь к столбам.
И, сделав это оптимистическое заявление, адвокат отбыл. Мы с Мордехаем живо обсуждали его приход до глубокой ночи, до того времени, как прозвонили coprifuoco и тюремщик приказал нам через дверное отверстие погасить нашу тусклую лампу.
Прошло еще несколько дней – четыре или пять, – и все это время я просто сходил с ума от нетерпения. Но вот наконец дверь заскрипела, открываясь, и появился человек, такой здоровенный, что ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы пролезть в нее. Внутри камеры он встал и начал выпрямляться. Каким же он был высоким! Я плохо помню нашу первую встречу. Мне лишь врезалось в память, что он был настолько же волосат, насколько и огромен; черные локоны его были растрепаны, так же как и щетинистая иссиня-черная борода. Великан взглянул на меня с высоты своего огромного роста, и его голос был полон презрения, когда он громко зарокотал:
– Хм! Это и есть тот парень, что успел вляпаться в дерьмо?
Я кротко произнес: – Benvegnuo, caro padre[75].
– Я не твой дорогой батюшка, ты, лягушонок! Я твой дядя Маттео. – Benvegnuo, caro zio[76]. А мой отец не пришел?
– Нет. Нам удалось добиться разрешения только для одного. Брату пришлось удалиться, чтобы предаться скорби по твоей матери.
– О да. Понимаю.
– По правде говоря, он сейчас занят тем, что ухаживает за своей будущей женой.
Это заставило меня возмутиться:
– Что? Да как он может так поступать?
– А кто ты такой, чтобы выражать свое недовольство, ты, scagarn?[77]
Бедняга вернулся домой из дальних стран и обнаружил, что жена его давно похоронена, служанка исчезла, а ценный раб потерян. Дож, который являлся его другом, мертв, а сына, надежду всей семьи, заключили в тюрьму по обвинению в самом отвратительном убийстве в истории Венеции! – И громко, так, чтобы все в Вулкано могли слышать, он заорал: – Скажи мне правду! Ты это сделал?
– Нет, синьор дядюшка, – ответил я в страхе. – Но какое отношение все это имеет к повторной женитьбе отца?
Дядя ответил уже спокойней, но с ноткой осуждения:
– Твой отец – семейный человек. По какой-то причине ему нравится быть женатым.
– Он избрал странный способ доказать это моей матери, – заметил я, – уехав от нее.
– И он снова уедет от жены, – сказал дядя Маттео. – Именно поэтому ему и нужен кто-нибудь, чтобы с легким сердцем оставить этого человека блюсти семейные интересы. У него нет времени ждать, пока родится и вырастет другой сын. А стало быть, нужна другая жена.
– Зачем ему другой сын? – с жаром спросил я. – У него есть я! Дядя не сказал в ответ на это ни слова. Он просто оглядел меня с ног до головы, прищурившись, а затем его взгляд скользнул вокруг, по тесной, тускло освещенной, зловонной камере.
Вновь смутившись, я заметил:
– А я надеялся, что он вытащит меня отсюда.
– Нет. Ты должен выбраться из этого сам, – ответил дядя, и мое сердце упало. Однако он продолжил рассматривать камеру и сказал, словно размышляя вслух: – Из всех стихий, которые могли бы уничтожить наш город, Венеция всегда больше всего боялась сильного пожара. Особенно, если он угрожает Дворцу дожей и ценностям, находящимся в нем, или базилике Сан Марко и ее уникальным сокровищам. Поскольку дворец находится по соседству с тюрьмой, это с одной стороны, а церковь примыкает к тюрьме с другой, то тюремщики здесь, в Вулкано, привыкли к особенным мерам безопасности – воображаю, как они следят за каждой масляной лампой в этих камерах.
– Почему? Да, они…
– Заткнись. Они делают так потому, что если ночью зажечь такую лампу и, скажем, поднести ее к деревянным нарам, то узника придется вывести из горящей камеры, чтобы огонь можно было погасить. Тюремщики сразу же начнут кричать и бегать с ведрами воды. А затем, если в дыму и суматохе этому узнику удастся добраться до коридора Giardini Foschi, где рядом с тюрьмой протекает канал, он может решиться ускользнуть с помощью подвижной каменной панели в стене, которая ведет наружу. И если узник ухитрится сделать это, скажем, завтра ночью, то вполне возможно, что он найдет прямо там, на воде, пустую лодку.
Наконец Маттео снова остановил на мне свой взгляд. Я был слишком занят, размышляя обо всех этих возможностях, чтобы хоть что-нибудь сказать, но тут совершенно непрошено вмешался старый Мордехай:
– Так уже поступали раньше. И поэтому теперь существует закон: узник, предпринявший попытку поджога, независимо от его происхождения, сам будет приговорен к сожжению. С тех пор как издали этот закон, желающих сбежать подобным способом не находилось.
Дядя Маттео сардонически ответил:
– Спасибо тебе, Мафусаил. – Мне же он сказал: – Ну, ты только что слышал еще один хороший резон, чтобы не просто попытаться, а добиться успеха.
Он постучал по двери, вызывая тюремщика.
– Пока, племянник! Встретимся завтра ночью!
Я не мог заснуть почти до рассвета. И не потому, что требовалось хорошенько обдумать побег. Я просто лежал и наслаждался перспективой снова оказаться на свободе. Старый Картафило тоже внезапно проснулся, перестал храпеть и сказал:
– Надеюсь, твои отец с дядей знают, что делают. Ведь другой закон гласит, что ближайшие родственники заключенного несут ответственность за его поведение. Отец отвечает за сына – khas vesho-lem[78], – муж за жену, а хозяин за раба. Если заключенный сбежит, устроив поджог, тогда того, кто несет за него ответственность, сожгут вместо узника.
– Похоже, мой дядя не придает особого значения законам, – заметил я с гордостью, – и даже не боится быть сожженным. Но, Мордехай, я не могу проделать это один. Мы должны сбежать вместе. Что скажешь?
Какое-то время он хранил молчание, а затем пробормотал:
– Надо думать, сожжение предпочтительней медленной смерти от pettechie[79] – болезни заключенных. А я давно уже пережил всех своих родственников.
Наступила следующая ночь. Когда колокола прозвонили coprifuoco и тюремщики приказали нам погасить лампу, мы только прикрыли ее свет с помощью крышки от pissota. Стоило тюремщикам удалиться, как я вылил большую часть рыбьего жира из лампы на доски лежанки. Мордехай пожертвовал своей верхней одеждой, которая была зеленой от плесени, и пламя зачадило; мы бросили сверток под мою койку и подожгли его с помощью фитиля, сделанного из тряпки. Камера сразу же наполнилась удушливым дымом, и дерево занялось огнем. Мы с Мордехаем стали махать руками, загоняя дым в дверное отверстие, и подняли крик:
– Fuoco![80] Al fuoco!
В коридоре послышался топот ног.
Затем, как и предсказывал дядя, начались смятение и толчея, нас с Мордехаем вывели из камеры для того, чтобы люди с ведрами воды могли залезть в нее. Дым вырвался следом, и тюремщики убрали нас с дороги. В проходе их толпилось множество, но на нас они не обращали внимания. Скрываясь в дыму и темноте, мы украдкой пробрались по коридору и свернули за угол.
– Теперь сюда! – сказал Мордехай и помчался со скоростью, неожиданной для его возраста.
Он пробыл в тюрьме достаточно долго, чтобы изучить все проходы, и теперь вел меня то одним путем, то другим, пока мы не увидели свет, мерцавший в конце большого помещения. Он остановился там за углом, огляделся и помахал мне. Мы свернули в короткий коридор, освещенный двумя или тремя настенными лампами, абсолютно пустой.
Мордехай упал на колени, призывая меня помочь ему, и я увидел, что на одном из больших камней внизу стены имеются прикрученные к нему железные ручки. Иудей схватился за одну, я – за другую, мы напряглись, и камень начал поддаваться, оказавшись не таким мощным, как остальные. Великолепный свежий воздух, влага и запах соли проникли через отверстие. Я выпрямился, чтобы перевести дыхание, и тут же был сбит с ног. Откуда-то выскочил тюремщик и принялся звать на помощь.
Замешательство мое на этот раз оказалось сильней, чем раньше. Тюремщик бросился на меня, и мы покатились по каменному полу, в то время как Мордехай, согнувшись в отверстии, смотрел на нас, открыв рот и вытаращив глаза. В какой-то момент я оказался сверху и тут же воспользовался этим преимуществом. Я прижал тюремщика всем весом своего тела, надавив ему на грудь, а коленями пригвоздив его руки к полу. Обеими руками я зажал его широко раскрытый рот и, повернувшись к Мордехаю, выдохнул:
– Я не смогу удерживать его долго.
– Сюда, парень, – сказал Мордехай, – я сам им займусь.






