Честь Андреев Леонид
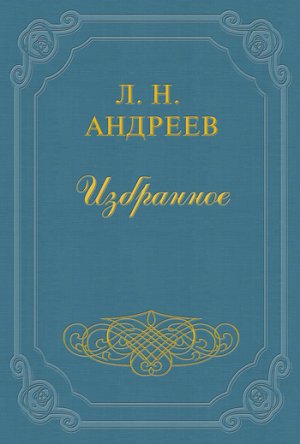
Elif Shafak
HONOUR
Copyright © Elif Shafak, 2012
All rights reserved
This edition by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC
© Е. Большелапова, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
Эсма
Лондон, 12 сентября 1992 года
Моя мать умерла дважды. Я обещала себе сделать все, чтобы история ее жизни не была забыта. Но до сих пор у меня не хватало времени, не хватало смелости, не хватало силы воли, чтобы написать об этом. К тому же еще совсем недавно я вовсе не была уверена, что когда-нибудь стану настоящим писателем. Теперь все иначе. С возрастом начинаешь сознавать, что твои возможности далеко не безграничны, и спокойнее относиться к собственным неудачам. Но мне было необходимо рассказать историю своей матери, пусть даже одному-единственному человеку. Я должна была поведать обо всем миру, отправить историю маминой жизни в свободное плавание, дабы она могла парить в каком-нибудь бесконечно далеком от нас уголке вселенной. Я должна была выпустить ее на свободу. Выполнить долг перед мамой. И закончить надо было именно в этом году. Прежде чем он выйдет из тюрьмы.
Через несколько часов я сниму с плиты миску с халвой из кунжута, оставлю ее остывать возле раковины и поцелую мужа, делая вид, что не замечаю тревогу в его глазах. Потом посажу в машину своих дочерей-двойняшек – они появились на свет семь лет назад с разницей в четыре минуты – и отвезу их на день рождения к подружке. По дороге они начнут бурно выяснять отношения, но на этот раз я не стану вмешиваться. Наверняка обе будут гадать, будет ли на дне рождения клоун, а еще лучше – фокусник.
– Как Гарри Гудини, – скажу я.
– Какой-какой Гарри?
– Мама же сказала, Гатини! Ты что, глухая?
– А кто это, мама?
Я почувствую боль. Острую, как укус пчелы. Но не поверхностную, а где-то глубоко-глубоко внутри. Я в очередной раз осознаю, что мои дети ничего не знают об истории своей семьи. Не знают, потому что я слишком мало им рассказывала. Пока они к этому не готовы. И я тоже. Но настанет день, когда все изменится.
Доставив девочек, я немного поболтаю с другими матерями. Напомню маме именинницы, что у одной из моих дочерей аллергия на орехи. Но постороннему человеку трудно понять, кто из них кто, поэтому проще следить, чтобы обе не ели ничего, где могут оказаться орехи, включая именинный торт. Конечно, немного несправедливая мера по отношению к той, у которой аллергии нет. Но когда растишь близнецов, этого никак нельзя избежать. Маленьких несправедливостей, я имею в виду.
После я вернусь к своей машине, красной «остин-монтего», которой мы с мужем пользуемся по очереди. Дорога от Лондона до Шрусбери занимает три с половиной часа. Скорее всего, где-то около Бирмингема мне придется заехать на заправку. Я включу в машине радио – ведь музыка помогает отогнать призраков.
Я бесконечное множество раз мечтала, как убью его. Строила хитроумные планы, в которых расправлялась с ним с помощью револьвера или яда. Но больше всего мне нравилось представлять, как я убиваю его ударом ножа с выкидным лезвием, одним стремительным взмахом восстанавливая справедливость. Не менее часто я мечтала, как прощу его, искренне и бесповоротно. Впрочем, ни одному из этих мечтаний не суждено было сбыться.
* * *
Добравшись наконец до Шрусбери, я оставлю машину напротив вокзала, пять минут пройдусь пешком и окажусь напротив мрачного здания тюрьмы. В ожидании его выхода я, наверное, буду ходить взад и вперед по улице или стоять, прислонившись к стене. Не знаю, как долго придется ждать. Не представляю, какова будет его реакция, когда он увидит меня. Я не навещала его больше года. Раньше я делала это регулярно, но, когда до освобождения оставалось уже немного, перестала к нему приезжать.
Настанет момент, когда тяжелая дверь распахнется и он выйдет на улицу. Первым делом посмотрит на затянутое тучами небо. За четырнадцать лет, проведенных в камере, он отвык видеть небесный простор над своей головой. Возможно, он даже заморгает, подобно всем детям тьмы, не привыкшим к дневному свету. Я тем временем буду молча стоять в стороне и считать до десяти, или до ста, или даже до трех тысяч. Мы не станем обниматься. Не станем пожимать друг другу руки. Мы ограничимся едва заметными кивками и едва слышными, сдавленными приветствиями. Когда мы дойдем до вокзала, он ловко прыгнет в машину. Про себя я с удивлением отмечу, что он в прекрасной физической форме. В конце концов, он по-прежнему молодой мужчина.
Если он захочет закурить, я не стану возражать, хотя ненавижу сигаретный дым и запрещаю мужу курить в машине и дома. Мы двинемся в путь по сельской местности, мимо сочных лугов и бескрайних полей. Думаю, он будет расспрашивать меня о детях. Я расскажу, какие замечательные у меня дочки и как они быстро растут. Он улыбнется, хотя понятия не имеет о том, что значит быть родителем. Я, в свою очередь, не стану задавать ему никаких вопросов.
Вместо этого я поставлю кассету c золотыми хитами группы «ABBA». Эти песни мама всегда напевала, когда готовила, убирала или шила. «Take a Chance on Me», «Mamma Mia», «Dancing Queen», «The Name of the Game». Уверена, в этот момент мама будет наблюдать за нами. Матери после смерти не возносятся на небеса. Бог дает им особое разрешение еще какое-то время оставаться рядом с детьми и присматривать за ними – и не важно, каковы были их взаимоотношения в течение столь короткой земной жизни.
Когда мы вернемся в Лондон, я, сердито бормоча себе под нос, буду долго искать место для парковки на Барнсбери-сквер. Вполне вероятно, начнется дождь, мелкий, моросящий. В конце концов мы отыщем свободное место, и я втиснусь в него путем долгих и сложных маневров. Я пребываю в плену самообмана, считая себя хорошим водителем, но, когда дело доходит до парковки, иллюзия моментально развеивается. Возможно, он даже станет насмехаться над моей чисто женской манерой вождения. Раньше он не упускал случая съязвить по этому поводу.
Мы пойдем к дому по тихой, ярко освещенной улице, невольно сравнивая окружающий пейзаж с тем, что остался в памяти о нашем старом доме в Хакни, на Лавендер-гроув. Поразительно, как быстро мчится время и как все меняется, в то время как мы остаемся прежними.
Дома мы снимем обувь и наденем домашние тапочки: он – шлепанцы моего мужа, черные, без всяких украшений, а я – свои пурпурные тапки с помпонами. Увидев их, он изменится в лице. Я поспешу успокоить его, сказав, что это подарок дочерей. Убедившись, что это не те, что носила она, он расслабится. Сходство – результат простого совпадения.
Через приоткрытую дверь он будет наблюдать, как я готовлю чай. Если в тюрьме его привычки не изменились, чай он будет пить без молока, но с большим количеством сахара. Я принесу кунжутную халву. Мы будем сидеть у окна, как благовоспитанные и малознакомые между собой люди, держа в руках фарфоровые чашки с блюдцами и наблюдая, как дождь поливает фиалки в садике за моим домом. Он похвалит халву, скажет, что очень по ней скучал, но вежливо откажется от добавки. В ответ я скажу, что в точности следую маминому рецепту, но халва никогда не получается такой же вкусной, как у нее. Это заставит его прикусить язык. Взгляды наши встретятся, и в воздухе повиснет напряженное молчание. Потом он попросит извинения и скажет, что очень устал и, если я не возражаю, хотел бы отдохнуть. Я провожу его в приготовленную комнату и тихо прикрою дверь.
Я оставлю его там. В нашем доме. В комнате, расположенной не слишком далеко и не слишком близко от моей собственной. Оставлю запертым в четырех стенах, между ненавистью и любовью, которые бьются в моем сердце, как в ловушке.
Как бы то ни было, он мой брат.
Как бы то ни было, он убийца.
Имена, сладкие, как сахар
Деревня неподалеку от реки Евфрат, 1945 год
Когда Пимби появилась на свет, Нази пришла в такое отчаяние, что позабыла о страданиях, которые вынесла за последние двадцать шесть часов, и, не обращая внимания на струящуюся по бедрам кровь, попыталась встать и уйти. Так, во всяком случае, говорили все, кто был возле роженицы в этот ветреный день.
Но осуществить свое желание Нази не удалось. К удивлению всех женщин, присутствовавших в комнате, и мужа Нази Берзо, который ждал во дворе, новая волна схваток опрокинула ее на кровать. Через три минуты показалась головка еще одного ребенка. Темные слипшиеся волосики, красная кожа, морщинистая и влажная: снова девочка, поменьше, чем первая.
На этот раз Нази даже не пыталась бежать. Она тихонько вздохнула, зарылась в подушку и повернулась к открытому окну, словно пытаясь разобрать в шуме ветра тихий шепот судьбы. Она не сомневалась: если слушать внимательно, небеса непременно дадут ей ответ. В конце концов, должна быть причина, неизвестная ей, но очевидная для Аллаха. Причина, по которой Он посылает им еще двух девочек, когда у них уже есть шесть дочерей и нет ни одного сына.
Нази плотно сжала губы, решив не произносить ни слова до тех пор, пока Аллах не даст ей самых исчерпывающих и убедительных объяснений. Даже во сне губы ее оставались плотно сомкнутыми. В течение следующих сорока дней и сорока ночей Нази хранила молчание. Она молчала, когда готовила бараний горох с жиром, натопленным из овечьих хвостов, молчала, когда купала шестерых старших дочерей в огромной круглой жестяной бадье, молчала, когда варила сыр с черемшой и травами, и не отвечала, даже когда муж спрашивал, как назвать новорожденных. Она была безмолвна, как могилы на кладбище у подножия холма, где лежали все ее предки и где предстояло лежать ей самой.
Все это происходило в бедной, далекой от цивилизации курдской деревушке, в которой не было ни электричества, ни дорог, ни врачей, ни школы. За плотную завесу изоляции не проникали никакие новости извне. Жители деревушки не слыхивали ни о последствиях Второй мировой войны, ни об атомной бомбе. Тем не менее они были убеждены, что в мире, раскинувшемся вдали от берегов Евфрата, творятся странные вещи. Желания познать этот неведомый мир у них не возникало, а дальние странствия представлялось им совершенно бессмысленным занятием. Все, что есть, было и будет в этом мире, человек видит вокруг себя, здесь и сейчас. Людям положено жить на одном месте, подобно деревьям и камням. Исключение составляют три категории: странствующие мистики, утратившие прошлое, глупцы, лишенные разума, и поэты, потерявшие своих возлюбленных.
Все прочие жители деревни, за исключением дервишей, чудаков и несчастных влюбленных, никогда ничему не удивлялись и все происходящее воспринимали как должное. Каждое событие, случившееся в деревушке, моментально становилось всеобщим достоянием. Секреты и тайны – роскошь, которую могут позволить себе только богачи, а в этой деревне, называвшейся Мала Кар Байан, что в переводе с курдского означает «Дом четырех ветров», богачей не было.
Старейшины деревни, трое иссохших, угрюмых на вид старцев, проводили почти все свое время в единственной деревенской чайной, где пили чай из чашек, тонких, как яичная скорлупа, и хрупких, как человеческая жизнь, и предавались размышлениям о величии Божественной мудрости и неразумии политиков. Узнав о принятом Нази обете молчания, они решили нанести ей визит.
– Мы пришли предостеречь тебя, ибо ты близка к тому, чтобы совершить святотатство, – произнес первый старец, такой древний, что казалось, легчайший ветерок мог сбить его с ног.
– Как смеешь ты ожидать, что всемогущий Аллах откроет тебе Свои помыслы? – вопросил второй старец, во рту которого осталось всего несколько зубов. – Или ты не знаешь, что Он беседует только с великими пророками, среди которых никогда не было женщин?
– Аллах хочет, чтобы ты заговорила, – воздев к небу кривые и узловатые, как древесные корни, руки, изрек третий старец. – Будь это иначе, Он бы превратил тебя в рыбу.
Нази слушала их, время от времени прикладывая к глазам края своего платка. В какой-то момент она представила себя плавающей в реке рыбой – крупной коричневой форелью со сверкающими в лучах солнца плавниками и переливающимися всеми цветами радуги чешуйками. Она ничуть не тревожится об участи своих детей и внуков, которым из поколения в поколение предстоит существовать в бескрайнем подводном мире рядом с великим множеством других рыб.
– Говори! – приказал первый старец. – Твое молчание противоречит законам природы. А то, что противоречит законам природы, противоречит воле Аллаха.
Но Нази продолжала молчать.
Когда почтенные гости покинули дом, она подошла к колыбели, в которой спали близнецы. Отсветы горящего очага окрасили комнату в золотистые тона, и казалось, кожа младенцев испускает мягкое свечение, которое делало их похожими на ангелов. Сердце Нази растаяло. Она повернулась к своим шестерым дочерям, которые выстроились перед ней в ряд – от самой старшей к самой маленькой. Когда Нази заговорила, голос ее звучал глухо и хрипло:
– Я знаю, как их назвать.
– Скажи нам, мама! – дружно воскликнули девочки, радуясь тому, что мать наконец прервала молчание.
Нази прочистила горло.
– Вот эту я назову Бекст, а вторую – Биз, – сказала она, и тон ее свидетельствовал о том, что она смирилась со своим поражением.
– Бекст и Биз, – хором повторили девочки.
– Да, дети мои.
Сказав это, Нази причмокнула губами, словно имена оставили у нее на языке особый привкус, соленый и острый. Курдские слова «Бекст» и «Биз», звучащие по-турецки как «Кадер» и «Етер», на всех прочих языках мира означают «Судьба» и «Достаточно». Назвав так своих дочерей, Нази хотела сообщить Аллаху, что, хотя она, как и подобает правоверной мусульманке, покорна своей судьбе, дочерей ей вполне достаточно. Нази знала, что следующая беременность будет последней, ибо ей исполнился сорок один год и лучшая пора ее жизни осталась далеко позади, а потому Аллах должен послать ей сына – только сына.
Вечером, когда отец вернулся домой, девочки окружили его, наперебой сообщая радостную новость:
– Папа! Папа! Мама заговорила!
Лицо Берзо, просиявшее при этом известии, омрачилось, когда он узнал, какие имена его жена выбрала для новорожденных. Он покачал головой и несколько томительно долгих минут хранил молчание.
– Судьба и Достаточно, – наконец пробормотал он себе под нос. – Но ведь это не имена для детей. Это просьба, обращенная к небу.
Нази, потупившись, смотрела вниз, на собственный палец, выглядывавший из дырки в шерстяном носке.
– Эти имена говорят о том, что мы чувствуем себя обиженными, а это может оскорбить Создателя, – продолжал Берзо. – Зачем нам навлекать на себя Его гнев? Лучше дать детям обычные имена и не подвергать их опасности.
Сказав так, он предложил имена, которые казались ему наиболее подходящими: Пимби и Джамиля, что в переводе с курдского означает «Розовая» и «Красивая». Имена, подобные кусочкам сахара, которые тают в чашке чая, сладкие, приятные, лишенные претензий.
Хотя Нази не стала спорить с решением мужа, забыть ее собственный выбор оказалось не так просто. Имена, которые она дала своим дочерям, прочно засели у всех в памяти, подобно бумажным змеям зацепились за ветви фамильного древа. В результате близнецы обрели двойные имена: Пимби Кадер и Джамиля Етер – Розовая Судьба и Достаточно Красивая. И никто не мог предугадать, что настанет день, когда одно из этих имен окажется на первых страницах газет всего мира.
Разные цвета
Деревня вблизи реки Евфрат, 1953 год
С самого раннего детства Пимби обожала собак. Ей нравилось, что они умеют заглядывать людям в души, даже когда спят с закрытыми глазами. Взрослые в большинстве своем были уверены, что собаки мало что понимают, но Пимби знала, что это неправда. Собаки понимают все. Просто они умеют прощать.
К одной овчарке Пимби была особенно привязана. Этот пес с висячими ушами, длинной мордой и косматой черной шкурой с белыми и коричневыми пятнами обладал покладистым нравом, любил гоняться за бабочками, с готовностью приносил брошенную палку и ел все без разбора. Звали его Китмир, но иногда называли Куто или Додо. В общем, имя его без конца менялось.
Однажды пес ни с того ни с сего начал вести себя странно, словно в него вселился злой дух. Когда Пимби попыталась погладить его по загривку, он с рычанием набросился на нее и укусил за руку. Ранка была неглубокой, но перемена в характере собаки не могла не тревожить. В последнее время несколько собак в округе заболели бешенством, и деревенские старейшины настояли на том, чтобы Пимби отправилась к доктору. Однако на шестьдесят миль вокруг не было ни одного врача.
Именно поэтому Пимби и ее отец Берзо сели сначала в маленький автобус, потом в большой автобус, который повез их в город Урфа. При мысли, что ей придется провести целый день в разлуке со своей сестрой-двойняшкой Джамилей, Пимби бросало в дрожь. Но все же она была очень рада, что весь день отец будет принадлежать лишь ей одной. Берзо был мужчиной крепкого сложения, с широкой костью, крупными чертами лица и большими крестьянскими руками, привыкшими к любой работе. Его густые усы уже начали седеть, так же как и волосы на висках. Взгляд его ореховых глаз лучился добротой. За исключением редких случаев, когда им овладевали вспышки гнева, он пребывал в спокойном расположении духа, несмотря на не покидавшую его печаль о сыне, которого ему не суждено было иметь, о сыне, благодаря которому род его не пресекся бы до конца этого мира. Берзо мало говорил, редко улыбался, но находил общий язык со своими детьми легче, чем жена. Все восемь его дочерей сражались за его любовь и внимание – подобно цыплятам, толкущимся у кормушки.
Путешествие в город было волнующим и увлекательным, чего никак нельзя было сказать про ожидание в больнице. В коридоре перед кабинетом врача сидели двадцать три человека; Пимби могла сказать это точно, ибо в отличие от других восьмилетних детей в их деревне они с Джамилей ходили в школу и умели считать. Путь до этого обшарпанного одноэтажного здания, расположенного в соседней деревне, занимал сорок минут. Посреди классной комнаты стояла жаровня, которая давала мало тепла, зато очень много дыма. Дети помладше сидели с одной стороны, постарше – с другой. Поскольку окна открывали редко, воздух в классе был спертым и тяжелым, как опилки.
До того как Пимби пошла в школу, она была уверена, что все люди в мире говорят по-курдски, но теперь знала, что это не так. Некоторые люди вообще не знали курдского. Например, школьный учитель. У него были короткие редеющие волосы и грустный взгляд, словно он тосковал по жизни, которую оставил в Стамбуле, и никак не мог смириться с тем, что оказался в этой дыре. Он раздражался всякий раз, когда дети его не понимали или же отпускали по-курдски какую-нибудь шутку на его счет. Недавно он ввел новое правило, согласно которому всякого позволившего себе хоть слово по-курдски ожидало наказание: он должен был стоять у доски на одной ноге и спиной к одноклассникам. Правда, мало кому приходилось стоять так более нескольких минут: провинившийся обычно получал прощение, при условии что впредь не совершит подобного промаха. Но иногда учитель забывал о наказанном, и тот был вынужден стоять у доски часами. Эта штрафная мера вызвала у близнецов разную реакцию. Джамиля теперь в школе вообще не открывала рта, отказываясь говорить на каком-либо языке, а Пимби старательно учила турецкий, надеясь таким способом завоевать сердце учителя.
Между тем Нази не видела никакого смысла в том, что дочери ходят в такую даль и тратят время, заучивая слова и цифры, от которых им в будущем не будет ни малейшего проку, поскольку в самом недалеком будущем обе выйдут замуж. Но ее муж настаивал на том, что девочки должны получить образование.
– Из-за того что они каждый день ходят в эту школу, обувь на них просто горит, – жаловалась Нази. – И зачем им эта морока?
– Зато они могут прочесть все, что написано в конституции, – возразил Берзо.
– А что это такое – конституция? – с подозрением поинтересовалась однажды Нази.
– Закон, серая ты женщина! Конституция – это огромная книга. В ней перечислено все, что разрешено делать, и все, что запрещено. А тот, кто этого не знает, может вляпаться в серьезные неприятности.
Нази прищелкнула языком. Слова мужа не слишком ее убедили.
– Вряд ли эта самая конституция поможет моим дочерям выйти замуж, – заметила она.
– Зря ты так думаешь. Тому, кто знает закон, живется легче. Например, если мужья будут плохо с ними обращаться, они не станут это терпеть. Просто заберут детей и уйдут.
– И куда, хотела бы я знать?
Об этом Берзо не задумывался.
– Найдут приют в доме своего отца, – наконец ответил он.
– А, так вот для чего они каждый день таскаются невесть куда и забивают головы всякой ерундой! Для того чтобы вернуться в дом, где родились!
– Иди-ка лучше принеси мне чаю, – отрезал Берзо. – Ты слишком много говоришь.
– Это ж надо такое придумать, – бормотала Нази, отправляясь в кухню. – Ни одна из моих дочерей не уйдет от своего мужа. А если она это сделает, я вытрясу из нее душу. Даже если к этому времени уже буду лежать в могиле. Дух мой вернется в этот мир и задаст мерзавке хорошую трепку.
Пустая угроза, произнесенная в сердцах, обернулась пророчеством. После того как Нази покинула этот мир, она еще долго приходила к своим дочерям – к одним чаще, к другим реже. Она была упрямой женщиной, никогда ничего не забывала и никогда ничего не прощала – в отличие от собак.
Сейчас, сидя в больничном коридоре, Пимби по-детски откровенно разглядывала ожидавших своей очереди мужчин и женщин. Кто-то курил, кто-то жевал принесенные из дома лепешки, некоторые потирали больные места и стонали от боли. Воздух насквозь пропах потом, дезинфекцией и микстурой от кашля.
Чем больше Пимби наблюдала за больными, тем сильнее она восхищалась доктором, с которым предстояло встретиться. Человек, способный излечить от всех этих тяжких недугов, наверняка не похож на других людей, решила она. Может быть, он пророк. Или маг. Не имеющий возраста волшебник, пальцы которого способны творить чудеса. Пимби изнемогала от любопытства и, когда их очередь наконец подошла, вслед за отцом с готовностью юркнула в дверь кабинета.
Внутри все оказалось белым. Но не таким белым, как мыльная пена на поверхности воды, когда они стирали одежду. Не таким белым, как снег, который покрывает землю зимними ночами. Не таким белым, как сыворотка, которую смешивают с черемшой, чтобы приготовить сыр. То был суровый, неестественный белый цвет, которого Пимби никогда раньше не видела. Такой холодный, что она задрожала. Стулья, стены, плитка на полу, смотровой стол и даже склянки и скальпели – все сверкало мертвенной белизной. Пимби прежде и в голову не приходило, что белый цвет может быть таким гнетущим, таким тягостным, таким пугающим.
Еще сильнее ее удивило, что доктор оказался женщиной, но женщиной, совершенно не похожей на ее мать, на ее теток и соседок. Точно так же, как кабинет поражал отсутствием цвета, доктор поражала отсутствием каких-либо привычных Пимби женских черт. Под белым халатом докторши она заметила серую юбку до колен, а на ногах тонкие мягкие шерстяные чулки и кожаные туфли. Квадратные очки делали женщину похожей на сердитую сову. Пимби никогда не видела сов, тем более сердитых, но была уверена, что они должны выглядеть именно так. Докторша разительно отличалась от женщин, которые работают в полях от рассвета до заката, покрываются морщинами, потому что им часто приходится щуриться на солнце, и рожают детей до тех пор, пока не произведут на свет достаточное число сыновей. Женщина, сидевшая перед Пимби, привыкла, чтобы все люди, включая мужчин, ловили каждое ее слово. Даже Берзо в ее присутствии поспешил снять шапку и смущенно опустил голову.
Доктор едва удостоила отца и дочь недовольным взглядом. Казалось, их присутствие в кабинете утомляет и раздражает ее. Ясно было, что в конце трудного дня ей вовсе не хочется возиться с такими жалкими людьми, как эти двое. Она не снизошла до разговора с ними, предоставив сестре задавать необходимые вопросы: «Какой породы собака? Не текла ли пена у нее из пасти? Не пугалась ли она при виде воды? Укусила ли она еще кого-нибудь? Осмотрели ли ее после случившегося?» Сестра говорила очень быстро, словно слышала тиканье часов, напоминавших, что время на исходе. Про себя Пимби порадовалась, что мать не поехала с ними. Нази не смогла бы поддержать разговор в таком темпе и наверняка еще больше встревожилась бы и поняла все неправильно.
Доктор выписала рецепт, а сестра сделала девочке укол в живот, отчего та заревела во все горло. Выйдя в коридор, Пимби все еще плакала, а любопытство, с которым на нее смотрели незнакомые люди, расстроило ее еще сильнее. Отец, который, выйдя из кабинета, поднял голову, распрямил плечи и снова стал прежним Берзо, постарался утешить дочку и шепнул ей на ухо, что она молодец и, если будет вести себя как хорошая девочка, он поведет ее в кино.
Слезы моментально высохли, и глаза Пимби радостно заблестели. Слово «кино» напоминало конфету в обертке: не знаешь, что скрывается внутри, но не сомневаешься, что это нечто восхитительное.
* * *
В городе было два зрительных зала. Один использовался в основном для выступлений заезжих политиков и редко предоставлял свою сцену для местных актеров и музыкантов. Перед выборами и после них здесь собиралась толпа мужчин, и ораторы произносили зажигательные речи, наполненные обещаниями и обличениями, которые носились в воздухе подобно сердитым пчелам.
Второй зал был значительно скромнее размерами, но пользовался не меньшей популярностью. Его владелец предпочитал кино политическим дебатам и выкладывал контрабандистам немалые деньги за новые фильмы, которые ему доставляли вместе с чаем, табаком и прочими товарами. Благодаря этому жители Урфы имели возможность посмотреть картины самых разных жанров – чуть ли не все вестерны Джона Уэйна, «Человека из Аламо», «Юлия Цезаря», а также «Золотую лихорадку» и прочие комедии, главным героем которых был маленький человечек с черными усиками.
В тот день показывали какой-то черно-белый турецкий фильм, который Пимби от первого до последнего кадра смотрела с открытым ртом. Главная героиня, очень красивая, но бедная девушка, влюбилась в богатого юношу, избалованного и эгоистичного. Но он изменился под действием волшебной силы любви. Все вокруг, начиная с родителей юноши, пытались помешать влюбленным и разлучить их, но они продолжали тайно встречаться под ивой на берегу реки. Во время свиданий они держались за руки и пели песни, исполненные печали.
Пимби понравилось в кино абсолютно все – нарядное фойе, тяжелый занавес, глухая, предвещающая чудо темнота в зале перед началом сеанса. Ей не терпелось рассказать Джамиле об этом новом чуде. В автобусе по пути домой она снова и снова пела песню из фильма:
- Твое имя начертано в книге моей судьбы,
- Твоя любовь течет в моих венах.
- Если ты улыбнешься другому,
- Я убью себя или умру от печали.
Распевая, Пимби покачивала бедрами и взмахивала руками. Все пассажиры хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Когда она наконец замолчала – скорее от усталости, чем от неожиданного стеснения, – Берзо расхохотался и смеялся так долго, что на глазах выступили слезы.
– Я и не знал, что у меня такая талантливая дочка, – сказал он, и в голосе его послышались нотки гордости.
Пимби уткнулась лицом в грудь отца, вдыхая запах лавандового масла, которым он смазывал усы. Тогда она даже не подозревала, что это одно из самых счастливых мгновений в ее жизни.
* * *
Вернувшись домой, они застали Джамилю в ужасном состоянии: глаза распухли, лицо покрыто красными пятнами. Весь день она простояла у окна, покусывая нижнюю губу и теребя в руках прядь волос. Потом, внезапно и без всякой причины, залилась слезами. Несмотря на все попытки матери и сестер успокоить ее, она продолжала рыдать.
– А когда Джамиля начала плакать? – спросила Пимби.
– Да где-то в полдень, – пожала плечами Нази. – Почему ты спрашиваешь?
Пимби не ответила. Она узнала то, что хотела узнать. Когда ей сделали укол и она заплакала, ее сестра-двойняшка, отделенная от нее расстоянием в десятки миль, заплакала тоже. Люди говорят, что у близнецов одна душа. Но, похоже, общего у них даже больше. Между их телами тоже существует связь. Судьба и Достаточно. Если одна из них закрывает глаза, другая перестает видеть. Если одна из них вдруг поранится, у другой течет кровь. Если одной из них снится кошмар, сердце другой бешено колотится.
В тот же вечер Пимби продемонстрировала Джамиле танец, который видела в кино. По очереди изображая героиню, они целовались и обнимались, как влюбленная парочка в фильме, и при этом беспрестанно хихикали.
– Что это вы расшумелись?
Голос Нази звучал недовольно и резко. Она перебирала рис, рассыпанный на большом плоском блюде.
Глаза Пимби расширились от обиды.
– Мы просто танцуем.
– С чего это вы решили заняться танцами? – буркнула Нази. – Вы что, намерены стать шлюхами?
Пимби не знала, кто такие шлюхи, но не осмелилась спросить. Горячая волна обиды захлестнула ее с головой. Почему песня, которая так понравилась пассажирам автобуса, вызвала у матери лишь раздражение? Почему чужие люди оказались более доброжелательными, чем самый близкий человек на свете? Пока она размышляла над этими вопросами, Джамиля сделала шаг вперед, виновато потупилась и пробормотала:
– Прости, мама. Мы больше не будем.
Пимби, ощущая, что ее предали, метнула на сестру возмущенный взгляд.
– Если я вас и останавливаю, то для вашего же блага, – проворчала Нази. – Тот, кто сегодня слишком много смеется, завтра будет плакать. За все приходится платить – помните об этом.
– Не понимаю, почему мы не можем смеяться сегодня, завтра и всегда, – заявила Пимби.
Теперь настал черед Джамили хмуриться. Дерзость, проявленная сестрой, не только изумила ее, но и подставила под удар. Джамиля затаила дыхание, ожидая дальнейшего развития событий. Сейчас мать возьмет в руки скалку. Когда одна из девочек совершала какую-то провинность, Нази лупила скалкой обеих. По лицу она никогда не била, памятуя о том, что красота заменяет девушке приданое, но спинам и задницам доставалось изрядно. Девочек всегда удивляло, как одна и та же скалка способна причинять такую боль и помогать в приготовлении аппетитных пирожков, которые они обожали.
Но в тот вечер Нази изменила своему обыкновению и не стала наказывать дочерей. Вместо этого она сморщила нос, покачала головой и уставилась в пространство, словно хотела оказаться где-нибудь далеко отсюда. Когда она заговорила вновь, голос звучал спокойно и ровно:
– Скромность – это щит, которым женщина может оградить себя. Зарубите на своих носах: если вы утратите скромность, цена вам будет меньше истертого куруса[1]. Этот мир жесток и безжалостен.
Мысленно Пимби подкинула монету в воздух и поймала в ладонь. У монеты всего две стороны. Ты можешь победить или потерпеть поражение – другого выбора нет. Можешь стяжать почет или позор и, если окажешься в проигрыше, не рассчитывать на сочувствие и сострадание.
Дело в том, продолжала Нази, что женщин Создатель скроил из тончайшего белого батиста, а мужчин из плотной темной шерсти. Одним предназначено господствовать над другими – такова воля Аллаха. А главная обязанность всякого человека – безропотно покоряться Его воле. Дело в том, что на черном пятна не видны, а на белом даже самое маленькое, слабое пятнышко бросается в глаза. Именно поэтому, стоит женщине лишь немного согрешить, это моментально становится всеобщим достоянием. От такой женщины все отворачиваются, ее выбрасывают из жизни, словно шелуху от зерна. Если девушка утратит девственность до брака, пусть даже подарив ее любимому человеку, она лишится будущего. Что касается мужчины, на него не упадет даже тень порицания.
Таков был мир, в котором родились Розовая Судьба и Достаточно Красивая. В этом мире слово «честь» было не просто словом, но и именем. Но это имя давали только мальчикам. Только мужчины имели честь, будь они стариками, мужами в расцвете лет или же юнцами, на губах которых еще не обсохло материнское молоко. У женщин чести не было. Честь им заменял стыд. Но носить такое имя, как Стыд, никому не пожелаешь.
Пимби слушала мать и представляла ослепительно-белый кабинет доктора. Неприятное чувство, которое она испытала там, овладело ею с новой силой. Есть столько всяких цветов, помимо черного и белого, думала она: фисташково-зеленый, орехово-коричневый, голубой, как цветы барвинка. А помимо батиста и шерсти, есть бархат, шелк, парча и еще много-много красивых тканей. Почему же она должна пренебречь всем этим богатством и жить в двухцветном мире, скучном и плоском, как блюдо, на котором рассыпан рис.
По иронии судьбы, так часто проявлявшейся в жизни Пимби, наставления, раздражавшие ее в устах матери, она много лет спустя слово в слово повторяла своей собственной дочери Эсме в Англии.
Аскандер… Аскандер
Деревня вблизи реки Евфрат, 1962–1967 годы
Пимби всегда имела склонность к тягостным раздумьям и необоснованным опасениям. Это свойство ее натуры с годами оставалось неизменным. Более того, она стала суеверной, причем внезапно, всего за одну ночь, ту ночь, когда родился Искендер.
Пимби было семнадцать, когда она стала матерью – молодой, красивой, но исполненной тревожных предчувствий. Сидя в залитой сумеречным светом комнате, она не сводила глаз с колыбели, словно никак не могла поверить, что это она произвела на свет младенца с крошечными розовыми пальчиками, прозрачной кожей и багровым пятнышком на переносице; что с этого дня он принадлежит ей, лишь ей одной. Теперь у нее был сын, о котором ее мать напрасно мечтала и тщетно молила всю свою жизнь.
Произведя на свет Розовую Судьбу и Достаточно Красивую, Нази забеременела еще раз. Она не сомневалась, что наконец родит мальчика, иначе просто и быть не могло. Аллах обязан послать ей сына, ведь Он у нее в долгу. Нази не осмеливалась говорить об этом вслух, потому что знала: подобные заявления люди воспримут как богохульство. Тем не менее между ней и Аллахом существовало тайное соглашение. После стольких девочек Он непременно пошлет ей сына. Ее уверенность в этом была настолько велика, что все одеяльца, носочки и кофточки, предназначенные для своего долгожданного мальчика, она вязала исключительно из темно-голубой шерсти. Никаких возражений Нази не слушала. Словам повивальной бабки, осмотревшей ее после отхождения вод и приглушенным голосом сообщившей, что ребенок лежит неправильно, она тоже не придала значения. Меж тем повитуха настоятельно советовала Нази ехать в город. Время еще есть, говорила она. Если они поедут прямо сейчас, то окажутся в больнице как раз к началу схваток.
– Глупости, – отрезала Нази и обожгла повитуху сердитым взглядом.
Она не сомневалась, что все будет хорошо. Все в руках Аллаха. Ей сорок девять лет, это ее последний, вымоленный ребенок. И она родит его здесь, в своем доме, на своей кровати – на той самой кровати, где родила всех своих детей. Только на этот раз у нее будет мальчик.
Роды были мучительными. Ребенок оказался слишком крупным и к тому же лежал у матери поперек живота. Тянулись томительные часы. Никто не считал, сколько времени прошло, потому что во время родов это приносит несчастье. Кроме того, один лишь Аллах, величайший часовщик, имеет власть над временем. То, что смертным кажется невыносимо долгим, для Него всего лишь мгновение. Поэтому часы на стене завесили черным бархатом, так же как и все зеркала в доме – ведь каждое зеркало открывает путь в неизведанное.
– Она больше не может тужиться, – заметила одна из женщин, стоявших у постели роженицы.
– Значит, мы ей поможем, – заявила повитуха. Голос ее звучал решительно, но в глазах метался тщательно скрываемый страх.
Повитуха запустила руку в утробу Нази и ощутила под пальцами нечто склизкое и извивающееся. Сердцебиение было совсем слабым, как мерцание догорающей свечи. Повитуха попыталась повернуть ребенка внутри матки. Одна попытка… Вторая… Третья… Теперь она действовала более жестко, понимая, что времени осталось немного. Ей удалось слегка повернуть ребенка по часовой стрелке, но этого оказалось недостаточно. Головка ребенка давила на пуповину, сокращая тем самым количество поступающего через нее кислорода.
Нази потеряла много крови и то впадала в забытье, то ненадолго приходила в себя и снова проваливалась в небытие. Лицо ее было белым как снег. Нужно было срочно делать выбор. Повитуха понимала: сохранить жизнь удастся либо матери, либо ребенку. Спасти обоих невозможно. На душе у повитухи было сумрачно, как безлунной ночью. Решение пришло внезапно. Она спасет женщину.
В это мгновение Нази, лежавшая с опущенными веками, под которыми плясали кровавые тени смерти, приподняла голову:
– Не вздумай это сделать, гадина!!!
Крик был таким пронзительным и резким, что казалось, исходил не от человеческого существа. Женщина, извивавшаяся на окровавленных простынях, превратилась в дикое животное, измученное, отчаявшееся, готовое наброситься на всякого, кто попытается к нему подойти. Впервые в жизни Нази ощутила себя свободной – свободной, как зверь, который продирается сквозь лесные заросли, залитые солнцем, окрасившим листья в золотистый цвет. Все, кто собрался в комнате, решили, что она сошла с ума. Только сумасшедшая может так кричать.
– Режь меня, идиотка! Вытаскивай ребенка! – приказала Нази и расхохоталась, словно переступив порог, за которым все происходящее в этом мире кажется шуткой. – Как ты не понимаешь, это же мальчик! Он должен родиться! Должен! Что ты стоишь на месте, глупая завистливая тварь?! Давай! Бери ножницы и разрезай мне живот! Доставай моего сына!
Мухи носились в комнате роями, подобно стервятникам, кружащим над добычей. Здесь было слишком много крови. Слишком много ярости и отчаяния. Ярость и отчаяние насквозь пропитали постель, ковер, стены. Воздух стал тяжелым, тягучим и вязким. Мухи жужжали все громче, и избавиться от них было невозможно.
Нази умерла, вскоре за ней последовал и ребенок, относительно пола которого она жестоко ошиблась. Ее девятое дитя, убившее свою мать и тоже покинувшее этот мир, оказалось девочкой.
Поэтому ноябрьской ночью 1962 года, лежа без сна на кровати, где она родила своего первенца, Пимби предавалась горьким размышлениям о несправедливости Аллаха. Ей всего семнадцать, и она уже кормит грудью новорожденного сына. Пимби не могла отделаться от ощущения, что с небесных высот, из-за прозрачных облаков на нее с завистью смотрит мать: «Восемь детей, пять выкидышей, один мертворожденный – и ни одного сына… А у моей пустоголовой дочери уже есть прекрасный здоровый мальчик. Почему Ты так поступил со мной, Аллах? Почему?»
Голос Нази звучал у Пимби в ушах резко и настойчиво, до тех пор пока не превратился в колючий ком, который терзал ей грудь и перекатывался в желудке. Пимби изо всех сил пыталась отогнать тревогу прочь, но борьба была обречена на поражение. Тревога волчком вертелась в ее сознании. Взгляд покойной матери, исполненный злобы и зависти, жег ей сердце, и от этого взгляда невозможно было скрыться. Однажды ощутив этот взгляд, Пимби теперь чувствовала его постоянно: и когда толкла в каменной ступке пшеничные зерна и орехи кешью – эта смесь способствовала приливу молока и делала его более питательным, – и когда смотрела на капли дождевой воды, стекающие по оконным стеклам… Этот взгляд не оставлял Пимби и тогда, когда она смазывала только что вымытые волосы оливковым маслом или следила, как булькает на плите густой молочный суп.
– О милосердный Аллах, прошу Тебя, сделай так, чтобы моя мать наконец успокоилась в своей могиле и закрыла глаза. Прошу Тебя, позволь моему сыну вырасти здоровым и сильным, – молилась Пимби, раскачиваясь взад и вперед, словно сама была ребенком, которого нужно уложить спать.
* * *
В ночь, когда родился Искендер, Пимби приснился очередной кошмар – они преследовали ее в течение всей беременности. Но на этот раз видение было таким отчетливым, что, проснувшись, она так и не сумела до конца убедить себя, что это всего лишь сон. Какая-то часть ее существа навсегда осталась в призрачной реальности ужасного кошмара.
Ей приснилось, что она лежит навзничь на покрытом затейливыми узорами ковре. Глаза ее широко открыты, живот вздулся горой. Над ней – высокое небо, по которому время от времени проплывают облака. Ей жарко, очень жарко. Внезапно она понимает, что ковер расстелен на воде и под ним бурлит река. «Странно, почему же я не иду ко дну?» – спрашивает она себя. Внезапно небеса разверзаются и к ней простираются чьи-то руки. Руки Аллаха? Или ее покойной матери? Ответа нет. Эти руки разрезают ей живот. Она не испытывает никакой боли, только ужас. Ей хочется закрыть глаза и не видеть того, что происходит, но это невозможно. Руки извлекают ребенка из ее живота. Это пухленький мальчик с глазами цвета горного хрусталя. Пимби хочет прижать его к себе, хотя бы до него дотронуться, но руки бросают ребенка в воду. Он не тонет, а уплывает от нее прочь на какой-то плавучей коряге, как пророк Моисей в корзине.
Этим кошмаром Пимби поделилась с одним-единственным человеком. Когда она рассказывала свой сон, глаза ее лихорадочно блестели. Джамиля внимательно выслушала и, охваченная желанием избавить сестру от докучливого призрака матери, тут же нашла ночному кошмару объяснение.
– Я так думаю, ты обидела какого-нибудь джинна, – заявила она.
– Джинна?
– Да, лапочка. Разве ты не знаешь, что джинны обожают дремать на креслах и диванах? Взрослые джинны при виде людей быстро вскакивают и убегают, а вот маленькие джинны не такие проворные. Наверное, ты села на какого-нибудь малютку-джинна и раздавила его. Ты ведь сейчас неуклюжая и громоздкая, как все беременные.
– О Аллах всемогущий! – только и могла воскликнуть Пимби.
Джамиля сморщила нос, словно почувствовала неприятный запах:
– Наверняка мать этого джинненка решила тебе отомстить и навести на тебя порчу.
– И что же теперь делать?
– Не переживай. Есть много способов ублажить джинна, даже если он в ярости, – с видом знатока заявила Джамиля.
После рождения Искендера Джамиля заставляла молодую мать проделывать различные необычные вещи: кидать куски сухого хлеба стае бродячих собак и убегать не оглядываясь; бросать щепотку соли через левое плечо и щепотку сахара через правое; разгуливать босиком по свежевспаханному полю и проходить под кружевами паутины; заливать освященную розовую воду во все щели в доме. К тому же в течение сорока дней Пимби носила на шее амулет. Джамиля надеялась, что благодаря всему этому ее сестра-двойняшка избавится от страхов и тревог, которые порождала мысль о покойной матери. Но в результате Пимби оказалась во власти суеверий. Она и прежде догадывалась о существовании особой двери, за которой скрывается мир суеверий, но до сих пор не осмеливалась переступить порог.
Меж тем Искендер подрастал. Родильные пятна быстро сошли, и кожа ребенка приобрела оттенок теплого песка. У него были темные волнистые волосы, блестящие, как звездная пыль, глаза светились озорством, а сияющая улыбка покоряла сердца. Чем красивее становился ее сын, тем сильнее Пимби боялась катастроф и бедствий, от которых не могла его защитить: землетрясений, оползней, наводнений, пожаров, эпидемий. Но больше всего она боялась зависти собственной матери и мести матери ненароком погубленного малютки-джинна. Мир всегда был местом, полным опасностей, но теперь все эти опасности стали слишком близкими и реальными.
Тревога за сына, терзающая Пимби, была так велика, что она даже отказалась дать ему имя. Таким образом она надеялась защитить его от Азраила, ангела смерти. Пока у ребенка нет имени, Азраил при всем желании не сумеет его найти. Так что свой первый год на земле безымянный мальчик был подобен конверту без адреса. Точно так же он провел свой второй, третий и четвертый год. Когда его хотели позвать, то окликали: «Сынок!» или «Эй, парень!»
Почему муж Пимби, Эдим, не попытался ее вразумить? Почему не настоял на своем и не дал сыну имя, как это делали все прочие мужчины? Имелось некое обстоятельство, которое его удерживало, – обстоятельство более важное, чем его вспыльчивый нрав и мужская гордость, обстоятельство, которое делало его уязвимым и безропотным. Тайная страсть к азартным играм влекла его прочь из дома, в подвальные притоны Стамбула, где он мог хотя бы на одну ночь ощутить себя владыкой мира.
Только когда мальчику исполнилось пять, Эдим решился положить конец безумию и заявил, что больше так продолжаться не может. Скоро мальчик пойдет в школу, и если он не сможет сказать, как его зовут, другие дети решат, что родители дали ему невероятно смешное или неблагозвучное имя. Пимби была вынуждена уступить, но только при одном условии. Она отвезет сына в родную деревню, чтобы ее сестра-двойняшка и прочие родственники благословили мальчика. К тому же она поговорит с тремя деревенскими старейшинами, древними, как гора Арарат, но по-прежнему готовыми дать совет, исполненный глубокой мудрости.
* * *
– Ты поступила правильно, что пришла к нам, – изрек первый из мудрецов, такой дряхлый, что дверь, хлопнувшая поблизости, заставила содрогнуться все его хилое тело.
– Ты поступила правильно, что решила не выбирать имя для сына сама, как делают в нынешние времена многие женщины, – добавил второй мудрец, во рту у которого остался всего один зуб – маленькая жемчужина, сверкавшая, как первый зуб младенца.
Настал черед третьего мудреца, но голос его был так тих, а слова столь невнятны, что никто не смог разобрать, что он именно сказал.
Посоветовавшись еще немного, старейшины вынесли решение: имя ребенку должен дать посторонний человек, чужак, не знающий ничего о семье его матери и, уж конечно, не ведающий о призраке Нази.
Пимби ничего не оставалось, кроме как согласиться с планом, который предложили ей старцы. В нескольких милях от деревни протекала река, мелководная зимой и бурная летом. Местные жители переправлялись через нее на самодельной лодке, привязанной к канату, протянутому меж берегами. Переправа была рискованной, и не проходило года, чтобы несколько человек не упали в воду. Решено было, что Пимби будет ждать на берегу и попросит первого человека, который высадится из лодки, дать имя ее сыну. Деревенские старейшины спрячутся в кустах поблизости и в случае необходимости придут ей на помощь.
Итак, Пимби с сыном отправилась на берег и стала ждать. Ради столь важного события она надела ярко-алое платье, закрывавшее лодыжки, и черную кружевную шаль. На мальчике был его единственный выходной костюмчик, в котором он выглядел маленьким мужчиной. Время тянулось медленно, и долгое ожидание утомило ребенка. Чтобы развлечь сына, Пимби принялась рассказывать ему занимательные истории. Одна из этих историй навсегда запала ему в память.
– Когда Ходжа Насреддин был маленьким мальчиком, его мать дорожила им как зеницей ока… – начала Пимби.
– У нее что, были в глазах синицы?
– Это просто такое выражение, мой султан. Оно означает, что она любила его больше всего на свете. Они жили вдвоем в маленькой хижине на окраине города.
– А где же был его отец?
– Ушел на войну. Слушай и не перебивай. Как-то раз мать Ходжи Насреддина отправилась на базар. Перед тем как уйти, она сказала сыну: «Не выходи из дома и следи за дверью. Если увидишь, что к нам ломится вор, кричи во все горло. Это его отпугнет. А я вернусь до полудня». Мать ушла, а Ходжа Насреддин сел перед дверью, не сводя с нее глаз.
– И он ни разу не захотел пописать?
– У него был горшок.
– А если бы ему захотелось есть?
– Мать оставила ему еду.
– Пирожки?
– Да, и кунжутную халву, – ответила Пимби, хорошо знавшая вкусы своего сына. – Прошел час, и вдруг кто-то постучал в дверь. Это был дядя Насреддина, который пришел проведать их с матерью. Он спросил у мальчика, где мать, а узнав, что она пошла на базар, сказал: «Иди отыщи ее, скажи, чтобы быстрее возвращалась домой и приготовила обед. Сегодня я приду к вам в гости вместе со всей своей семьей!»
– Но Насреддин караулил дверь!
– Именно так. Поэтому он немного растерялся. Мать велела ему делать одно, а дядя – совсем другое. Он не хотел ослушаться никого из них. Тогда он снял дверь с петель, взвалил ее себе на спину и отправился на поиски матери.
Мальчик расхохотался. Отсмеявшись, он произнес с неожиданной серьезностью:
– Я бы никогда так не сделал. Мама важнее какого-то дяди.
Только он сказал это, до них донесся шум. Кто-то переправился через реку и приближался к ним. Через несколько мгновений, к великому удивлению Пимби – и деревенских старейшин! – выяснилось, что это старуха. Старуха с невероятно огромным крючковатым носом, морщинистыми впалыми щеками, желтыми кривыми зубами и беспрестанно бегающими маленькими глазками-бусинками.
Пимби разъяснила ей, что ее сыну необходимо дать имя, и попросила оказать любезность и посодействовать в разрешении этой проблемы. О таких деталях, как призрак Нази и деревенские старейшины, скрывающиеся в кустах, она сочла за благо умолчать. Старуха ничуть не удивилась. Опираясь на палку, она невозмутимо размышляла, как будто к ней едва ли не каждый день обращались с такими просьбами.
– Мама, кто это? – спросил мальчик.
– Тише, мой львенок. Эта милая бабушка сейчас выберет тебе имя.
– Но она жутко страшная!
Притворившись, что ничего не слышала, старуха приблизилась к мальчику и вперила в него изучающий взгляд.
– Значит, ты до сих пор еще не нашел свое имя? – спросила она.
Мальчик сердито вскинул бровь, отказываясь отвечать.
– Знаешь, я хочу пить, – сказала старуха, указывая на то место, где водный поток образовывал небольшую заводь. – Не мог бы ты принести мне стакан воды?
– У меня нет стакана.
– Но ты можешь принести воды в ладонях, – настаивала старуха.
Ребенок, хмурясь все сильнее, посмотрел на старуху, потом перевел взгляд на мать и снова взглянул на старуху.
– Нет, – ответил он, и в голосе его послышался вызов. – Почему это я должен ходить тебе за водой? Я тебе не слуга.
Старуха склонила голову набок, словно старясь избежать удара:
– Значит, он не любит служить другим. Он любит, чтобы служили ему.
К этому времени Пимби уже не сомневалась, что со странницей им не повезло. Пытаясь разрешить ситуацию мирно, она предложила:
– Давайте я принесу вам воды.
Но старуха не стала пить воду, которую в ладонях принесла Пимби. Глядя на воду, она стала читать по ней, как по книге судьбы:
– Доченька, этот мальчик будет долго оставаться ребенком. Он повзрослеет, лишь достигнув середины жизни. Да, ему понадобится очень много времени, чтобы стать мужчиной.
Пимби затаила дыхание. Она чувствовала, старуха собирается открыть тайну, которую ей вовсе не хотелось знать.






