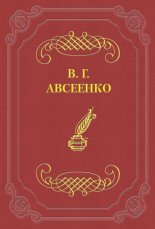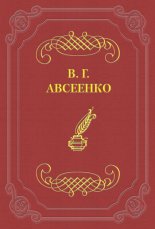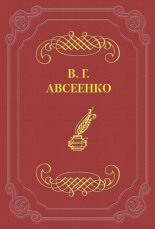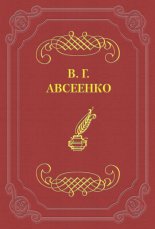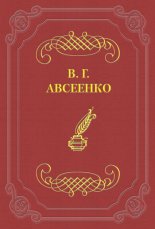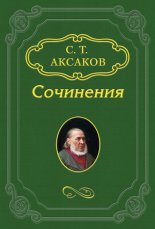Золото (сборник) Мамин-Сибиряк Дмитрий

– У них теперь никого и дома-то нет, кроме старухи, – говорила провожавшая ее Марфа Петровна. – Мужики на Смородинке, Дуня в лавке, Нюша у Пятовых, надо полагать… В добрый час, Пелагея Миневна!.. Господи благослови!..
Торжественный вид, с которым вошла Пелагея Миневна на половину Татьяны Власьевны, даже немного испугал последнюю: она по глазам видела, зачем пришла Пелагея Миневна. Усадив гостью и заказав Маланье самовар, Татьяна Власьевна принялась беседовать о том и о сем, точно не понимала, зачем явилась гостья. Покалякали бабьим делом, посудачили, поперемывали косточки, кто подвернулся под руку, а сами все ни с места. Пелагея Миневна выпила две чашки чаю, похвалила стряпню Маланьи и вообще довольно тонко польстила хозяйке.
– Какая наша стряпня, Пелагея Миневна, – скромничала довольная Татьяна Власьевна. – Маланья стара стала да упряма, все поперек хочет делать.
– Что вы это говорите, Татьяна Власьевна?.. У вас теперь и замениться есть кем: две снохи в доме… Мастерицы-бабочки, не откуда-нибудь взяты! Особенно Ариша-то… Ведь Агнея Герасимовна первая у нас затейница по всему Белоглинскому, ежели разобрать. Против нее разе только у вас состряпают, а в других прочих домах далеко не вплоть.
Татьяна Власьевна промолчала. Гостья задела неловко наболевшее место о недавней ссоре с Савиными и Колобовыми.
– Ах, голубушка Татьяна Власьевна, а вот мне так и замениться-то некем… – перешла в минорный тон Пелагея Миневна, делая то, что в периодах называется понижением. – Плохая стала, Татьяна Власьевна, здоровьем сильно скудаюсь, особливо к погоде… Поясницу так ломит другой раз – страсти!.. А дочерей не догадалась наростить, вот теперь и майся на старости лет…
Это в диалектическом отношении был очень ловкий приступ, и Татьяне Власьевне стоило только сказать, что, мол, «Пелагея Миневна, вашему горю и помочь можно: сын на возрасте, жените – и заменушку в дом приведете…». Но важеватая старуха, конечно, ничего подобного не высказала, потому что это было неприлично, – с какой стати она сама стала бы навязываться Пазухиным?..
– А Марфа Петровна? – уклончиво спросила Татьяна Власьевна. – Кабы у меня были такие золотые руки, да я бы, кажется, еще сто лет прожила…
– Это вы справедливо, Татьяна Власьевна… Точно, что наша Марфа Петровна целый дом ведет, только ведь все-таки она чужой человек, ежели разобрать. Уж ей не укажи ни в чем, а боже упаси, ежели поперешное слово сказать. Склалась, только ее и видел. К тем же Шабалиным уйдет, ей везде дорога.
– Что говорить, что говорить!.. – покачивая головой, согласилась Татьяна Власьевна. – Тоже вот и язычок у Марфы-то Петровны…
– Ох, и не говорите, Татьяна Власьевна! Стыдно сказать, а грех утаить: плачу я от ее языка, слезно плачу… Конечно, про себя перенесешь – и молчок, не в люди же нести свою сухоту. Донимает она меня этим своим язычком, так донимает… А я сама-то стара становлюсь, ну и терпишь.
Гостья так расчувствовалась, что даже вытерла глаза уголком своего кисейного передника, подвязанного, конечно, под самые мышки. Старушки еще побеседовали, а потом Пелагея Миневна начала прощаться.
– Заболталась я у вас, Татьяна Власьевна… Извините уж на нашей простоте! К нам-то когда вы пожалуете?
– А вот соберемся как-нибудь… Спасибо, что нас грешных не забываете, Пелагея Миневна. Нынче как-то и не применишься к людям… Гордость всех одолела…
Пелагея Миневна, накидывая в передней платок на голову, с соболезнованием покачала только головой: очевидно, Татьяна Власьевна намекала на недоразумения с Савиными и Колобовыми. Накидывая на плечи свою беличью шубейку, Пелагея Миневна чувствовала, как все у нее внутри точно похолодело, – наступил самый критический момент… Скажет что-нибудь Татьяна Власьевна или не скажет? Когда гостья уже направилась к порогу, Татьяна Власьевна остановила ее вопросом:
– А где у вас Алексей-то Силыч? Что-то ровно его не видать…
– Да при лавке больше, Татьяна Власьевна. Он ведь домосед у нас, сами знаете, не любит больно-то расхаживать.
– Смиренный парень, что говорить… Надо вам за него Бога молить, Пелагея Миневна. Этаких-то кротких да послушных по нынешним временам надо с огнем поискать!..
Этого было совершенно достаточно… Татьяна Власьевна сама вызывала на сватовство последним отзывом, и Пелагея Миневна вышла в сени в радостном волнении, от которого у ней кружилась голова. «Устрой, Господи, все на пользу!» – шептала она про себя, спускаясь по лесенке во двор. Пелагея Миневна в своем радужном настроении дошла до самых ворот и только хотела взяться за кольцо калитки, как она растворилась сама, а в калитке показалась женская высокая фигура в двух шубах с наглухо завернутой головой в несколько шалей.
– Алена Евстратьевна!.. – проговорила Пелагея Миневна, пристально вглядываясь в стоявшую неподвижно женскую фигуру. – Откуда Бог несет?
– Из Верхотурья приехала, – как-то нехотя ответила Алена Евстратьевна, оглядывая Пелагею Миневну с ног до головы.
– Аль не узнали меня-то?
– Что-то как будто запамятовала…
– Пазухиных-то, может, еще не забыла, Алена Евстратьевна? Суседи в прежнее время были с вами…
– Да-да… помню.
Алена Евстратьевна даже не подала руки Пелагее Миневне, а только сухо ей поклонилась, как настоящая заправская барыня. Эта встреча разом разбила розовое настроение Пелагеи Миневны, у которой точно что оборвалось внутри… Гордячка была эта Алена Евстратьевна, и никто ее не любил, даже Татьяна Власьевна. Теперь Пелагея Миневна постояла-постояла, посмотрела, как въезжали во двор лошади, на которых приехала Алена Евстратьевна, а потом уныло поплелась домой.
«И принесло же ее ни раньше ни после… – сердито думала Пазухина, подходя к своему дому. – Пожалуй, все наше дело испортит. Придется погодить, видно, как она в свое Верхотурье уберется…»
Марфа Петровна видела, как приехала Алена Евстратьевна, и все поняла без объяснений: случай вышел не в руку; ну да все под Богом ходим, не век же будет жить в Белоглинском эта гордячка.
Появление Алены Евстратьевны произвело в брагинском доме настоящий переворот, хотя там ее никто особенно не жаловал. Раньше она редко приезжала в гости и оставалась всего дня на два, на три; но на этот раз по всем признакам готовилась прогостить вплоть до последнего санного пути.
– На наше золото прилетели, Алена Евстратьевна? – язвительно спрашивал Зотушка, кутивший все праздники.
– Какое золото? – удивилась Алена Евстратьевна.
– Отец-то разве не описывал тебе ничего? – спрашивала Татьяна Власьевна: она называла Гордея отцом, как большака в семье.
– Ничего мы не получали. А я прихворнула перед Рождеством-то, а то бы раньше приехала…
«Врет, все врет наша Аленушка… – думал пьяный Зотушка, улыбаясь хитрой улыбкой. – На жилку ворона прилетела, только не даром ли крыльями, милая, махала?..»
Алене Евстратьевне было за сорок; это была полная, высокая женщина, с красивым лицом, на котором тенью лежало что-то фальшивое и хитрое. Серые большие глаза Алены Евстратьевны смотрели прямо и нахально, особенно когда она улыбалась. Одевалась она всегда по моде, то есть носила платья, шляпки, воротнички, корсет и т. д. Муж Алены Евстратьевны хотя и занимался подрядами и числился во второй гильдии, но, попав в земские гласные, перевел себя совсем на господскую руку, то есть он в этом случае, как миллионы других мужей, только плясал под дудку своей жены, которая всегда была записной модницей.
Алена Евстратьевна до страсти любила распоряжаться и совать свой нос решительно везде; потому, едва успев переодеться с дороги, она начала производить строгую ревизию по всему дому, причем находила все не так, как тому следовало бы быть. Особенно досталось от нее невесткам; Алена Евстратьевна умела подносить самые горькие пилюли с ласковой улыбкой. Нюша попробовала было вступить с тетушкой зуб за зуб, но была разбита и уничтожена. В каких-нибудь три дня гостья овладела всем домом и распоряжалась в нем, как победитель в завоеванной провинции. Даже сам Гордей Евстратыч, недолюбливавший сестричку за ее характер, теперь как-то совсем поддался ей и даже заметно ухаживал за ней. Татьяна Власьевна удивлялась такой перемене и в то же время сама начала относиться к нелюбимой дочери с большим уважением и даже раза два советовалась с ней.
– Как это вы живете, Гордей Евстратыч? – говорила Алена Евстратьевна. – Разве это порядок в доме? Точно какие-нибудь прасолы… Всякий, как в комнаты зашел, сейчас и видит вашу необразованность!
– Ладно нам, Алена Евстратьевна… Куда уж нам за богатыми гоняться! – ответил Гордей Евстратыч. – Век прожили не хуже других…
– Вам-то хорошо так говорить, а дети как? Тоже в необразованности хотите оставить, на посмеяние всем?.. Или взять Нюшу теперь… Девушка невеста, а порядочному жениху стыдно в дом приехать… Это какая-то лачуга, а не дом. Вон Вукол Логиныч устроил себе домик, так хоть кого не стыдно в нем принять. Взять эти ваши сарафаны… Кроме Белоглинского завода, во всем свете больше не увидишь, чтобы девушки или молодые женщины в сарафанах ходили… Взять хоть наше Верхотурье… Нет, братец, по вашим теперешним достаткам так жить невозможно! Уж вы как там хотите с маменькой, а только это не порядок в доме… Спросите у кого угодно, как по другим-прочим местам богатые люди живут.
Гордей Евстратыч для видимости противоречил, но внутренно был совершенно согласен с сестрой: так жить дальше было невозможно, совестно, взять хоть супротив того же Вукола Логиныча. У того вон как все устроено в дому, вроде как в церкви.
– Вон у нас какая печка безобразная стоит, Гордей Евстратыч, – не унималась Алена Евстратьевна. – Весь дом портит…
– Ну уж это ты напрасно… Печку не уберу! Лучше другой дом выстрою. Дай срок, вот золота летом намоем, тогда такую музыку заведем…
– В том-то и дело, Гордей Евстратыч, чтобы от других не отстать… А то совестно к вам приехать!.. И компания у вас тоже самая неподходящая: какие-то Пазухины… Вы должны себя теперь очень соблюдать, чтобы перед другими было не совестно. Хорошему человеку к вам и в гости прийти неловко… Изволь тут разговаривать с какой-то Пелагеей Миневной да Марфой Петровной. Это непорядок в доме…
– А я печку не буду ломать, – продолжал Гордей Евстратыч, отвечая самому себе, – вот полы перестлать или потолки раскрасить – это можно. Там из мебели что поправить, насчет ковров – это все сделаем не хуже других… А по осени можно будет и дом заложить по всей форме.
Одним словом, Аена Евстратьевна пошла кутить и мутить, точно ее бес подмывал. Большаки слушали ее потому, что боялись, как бы не отстать от других; молодые хоть и недолюбливали ее, но тоже слушали, потому что Алена Евстратьевна была записная модница и всегда ходила в платьях и шляпках.
А на Смородинке золото так и лезло из земли – что неделя, то и два да три фунта. После Крещенья Гордей Евстратыч еще сгонял в город и еще сдал золота. А Алена Евстратьевна живет себе да поживает у милого братца и, видимо, желания никакого не имеет убраться в свое Верхотурье. Двенадцатого января Татьяна Власьевна была именинница. Этот день праздновался в брагинском доме очень скромно и по-старинному: накануне о. Крискент служил всенощную, утром женщины шли в церковь к обедне, потом к чаю собирались кой-кто из знакомых старушек, съедали именинный пирог, и тем все дело кончалось. И на этот раз все устроилось так же. Только после обедни не пришли ни от Савиных, ни от Колобовых, что очень огорчило Татьяну Власьевну; из посторонних были только Пелагея Миневна с Марфой Петровной да еще стрекоза Феня. Мужчины хотели приехать с прииска только к вечеру, потому работа не ждала. Прибрел еще о. Крискент в своей фиолетовой ряске. За чаем сидели и калякали о разных разностях, главным образом за всех говорила модная Алена Евстратьевна, которая распространялась все насчет настоящих порядков в доме. Отец Крискент благочестиво соглашался, склонял головку набок и шептал: «Да, да!»
– Баушка, ведь это к нам! – крикнула Нюша, бросаясь к окну.
К воротам брагинского дома лихо подкатили лакированные сани станового, заложенные парой наотлет; в них с Плинтусовым сидел мировой Липачек.
– Видно, к Гордею Евстратычу, – сообразила Татьяна Власьевна.
Все женщины поспешили перебраться из парадных комнат на половину Татьяны Власьевны; остались на своих местах только о. Крискент да Алена Евстратьевна.
– Милости просим, милости просим. Только вот Гордея Евстратыча нет дома: еще не приехал с прииска…
– А мы не к нему, а к вам, Татьяна Власьевна, – говорил Плинтусов, щелкая каблуками. – Нарочно приехали поздравить вас с днем вашего тезоименитства.
Плинтусов фатовато прищурил свои сорочьи глаза и еще раз щелкнул каблуками; Липачек повторил то же самое. Татьяна Власьевна была приятно изумлена этой неожиданностью и не знала, как и чем ей принять дорогих гостей. На этот раз Алена Евстратьевна выручила ее, потому что сумела занять гостей образованным разговором, пока готовилась закуска и раскупоривались бутылки.
«И меня, старуху, вспомнили», – думала Татьяна Власьевна, польщенная этим вниманием.
– Мы еще третьего дня сговорились ехать к вам вместе, – докладывал Плинтусов, выплескивая в свою пасть первую рюмку.
– Как же это вы так надумали?.. Напрасно только себя беспокоили, – точно оправдывалась Татьяна Власьевна. – Мы маленькие люди…
– Ах, маменька, какие вы, право, – жеманно возражала Алена Евстратьевна, совсем сконфуженная незнанием Татьяны Власьевны светских приличий. – Это везде так принято в порядочном обществе…
Плинтусов и Липачек не успели выпить по второй рюмке, как подкатил на своем сером Шабалин, а вслед за ним Пятов. Словом, гостей набрался полон дом.
– Вот мы и поздравим старушку соборне, – кричал Вукол Логиныч, хлопая Татьяну Власьевну по плечу. – Так ведь, отец Крискент?.. Я хоть и не вашей веры, а выпить вместе не прочь…
Все наперерыв старались выразить свое уважение не только Татьяне Власьевне, но и Алене Евстратьевне. Даже неразговорчивый Липачек и тот повторял каждое слово Плинтусова.
– Ведь их надо будет оставить обедать, – соображала Татьяна Власьевна, считая гостей по пальцам. – Ох, горе мое, а у нас и стряпни никакой не заведено!..
Но Алена Евстратьевна успокоила маменьку, объяснив, что принято только поздравить за закуской и убираться восвояси. Пирог будет – и довольно. Так и сделали. Когда приехал с прииска Гордей Евстратыч с сыновьями, все уже были навеселе порядком, даже Нил Поликарпыч Пятов, беседовавший с о. Крискентом о спасении души. Одним словом, именины Татьяны Власьевны отпраздновались самым торжественным образом, и только конец этого пиршества был омрачен ссорой Нила Поликарпыча с о. Крискентом.
Дело вышло из-за церковного староства. Отец Крискент политично завел разговор на тему, что Нил Поликарпыч уже поработал в свою долю на дом Божий и имеет полное право теперь отдохнуть.
– Надо и другим в свою долю поработать, Нил Поликарпыч, – пояснил свою мысль о. Крискент с вкрадчивой улыбкой.
– Не пойму я вас что-то, отец Крискент.
– А очень просто… Мы выберем в старосты Гордея Евстратыча – пусть его постарается для Бога.
– А… так вы вот как, отец Крискент!.. Значит, вам не служба дорога, а деньги.
И пошел, и пошел. Старик не на шутку разгорячился и даже покраснел. Бедный о. Крискент весь съежился и лепетал что-то такое несообразное в свое оправдание. Даже Липачек и Плинтусов не могли унять расходившегося старика…
– Правду, видно, старинные люди сказывали, – кричал Нил Поликарпыч, горячась и размахивая руками, – что, мол, прежде сосуды по церквам были деревянные, да попы золотые, а нынче сосуды стали золотые, так попы деревянные.
Отец Крискент обиделся в свою очередь на такое оскорбление. Гордей Евстратыч хотел помирить своих гостей; но это вмешательство окончательно взбесило Нила Поликарпыча.
– Нет, Гордей Евстратыч, видно, нам не приходится водить с вами компанию… – заявил Пятов, хватаясь за шапку. – Вы богатые стали, лучше нас найдете.
– Что вы, Нил Поликарпыч, батюшка… – заголосила Татьяна Власьевна, удерживая Нила Поликарпыча за руку. – Отец Крискент!.. Нил Поликарпыч!..
– Мамынька, оставь!.. – грозно приказал Гордей Евстратыч.
Из старых друзей остались только о. Крискент да Пазухины… Вот тебе и бабушкины именины, – нечего сказать, отпраздновали!..
XI
Наступала весна. Дорога почернела; с крыш капала вода, а по ночам стоки и капельники обрастали ледяными сталактитами. Солнце разъедало снег, который чернел от пропитывавшей его воды и садился все ниже и ниже, покрываясь сверху мусорным налетом. Горные речонки начали набухать и пожелтели от выступивших наледей; сочившаяся из почвы весенняя вода точила дряблый лед, образуя черневшие промоины и широкие полыньи. По взлобочкам и прикрутостям, по увалам и горовым местам выглянули первые проталинки с всклоченной, бурой прошлогодней травой; рыжие пятна таких проталин покрывали белый саван точно грязными заплатами, которые все увеличивались и росли с каждым днем, превращаясь в громадные прорехи, каких не в состоянии были починить самые холодные весенние утренники, коробившие лед и заставлявшие трещать бревна. В воздухе наливалась и росла та сила, которая, точно сознательно, уничтожала шаг за шагом остатки суровой северной зимы. Даже холод, достигавший по ночам значительной силы, не имел уже прежней всесокрушающей власти: земля сама давала ему отпор накопившимся за день теплом, и солнечные лучи смывали последние следы этой борьбы. Несколько раз принимался идти мягкий пушистый снег, и народ называет его «сыном, который пришел за матерью», то есть за зимой.
Только в лесу еще лежал глубокий снег, особенно по логам и дремучим лесным гущам. Здесь солнце не в силах его достать и может только растопить лежавший на ветвях белый пушистый слой, превратив его в ледяные сосульки, которыми мохнатые зеленые лапы елей и сосен были изувешаны, как брильянтовыми подвесками и поднизями. Стройные ели и пихты, опушенные утренним инеем, стояли осыпанные брильянтами, как невесты; этот подвенечный наряд таял и снова нарастал каждую ночь, как постоянно возобновлявшаяся красота. Темная зелень хвои сливалась в необыкновенную гармонию с искрившейся белизной снежных покровов, создавая неувядавшую гармонию красок и тонов, особенно рядом с мертвыми остовами осин, берез и черемух, которые так жалко таращили свои набухавшие голые ветви. Самые дикие лесные уголки дышали великой и могучей поэзией, разливавшейся в тысячах отдельных деталей, где все было оригинально, все полно силы и какой-то сказочной прелести, особенно по сравнению с жалкими усилиями человека создать красками или словом что-нибудь подобное. Вторжение человека в жизнь природы с целью воспроизвести ее красоты, тем или другим путем, каждый раз разбивается самым беспощадным образом, как галлюцинации сумасшедшего. Воровство, сшитое на живую нитку, трещит и рвется по всем швам, обнажая наше самоуверенное и самодовольное невежество. Достаточно указать на тот факт, что наш вкус находит дисгармонию в сочетаниях зеленого и голубого цветов, а природа опровергает наши художественные настроения на каждом шагу, сочетая синеву неба с зеленью леса и травы почти в музыкальную мелодию, особенно на севере, где природа так бедна красками.
С наступлением весны работа на Смородинке закипела. Заканчивали маленькую плотинку, которою речка Смородинка запруживалась; ставили паровую машину, били третью шахту и т. д. Картина нового прииска представляла самый оживленный лесной уголок: лесная гуща точно расступилась, образовав неправильную площадь, поднимавшуюся от Смородинки на увал; только что срубленные и сложенные в костры деревья образовали по краям что-то вроде той засеки, какая устраивалась в прежние времена на усторожливых местечках на случай нечаянного неприятельского нападения; новенькая контора точно грелась на самом угоре; рядом с ней выросли амбары и людская, где жили кучера и прислуга. Отвалы из промытых песков и просто земли, добытой из шахты, образовали несколько отдельных гряд, точно валы какой-то земляной крепости. Деревянный сарай над жилкой, дробильная машина и главный корпус, где совершалась промывка золота, дополняли картину прииска, на котором теперь работало до трехсот человек.
Гордей Евстратыч живмя жил на прииске и выезжал домой очень редко. Михалко и Архип были неотлучно при нем, заменяя приисковых служащих. Михалко наблюдал за рабочими, рассчитывал их по субботам, а по праздникам ездил в Белоглинский завод производить необходимые покупки из харчей, одежды и всякого другого припаса, который требовался на прииске; Архип занимался больше письменной частью и старательно вел приисковые книги. Работы всем было по горло, и Гордей Евстратыч заметно похудел за это время, а на лбу у него появилось несколько морщин. По целым часам он высиживал в своей конторе со счетами в руках, делая сметы и необходимые соображения. Золото шло богатое, но чем больше получалась дневная выручка, тем задумчивее и суровее становился Гордей Евстратыч: ему все было мало, и на головы Михалка и Архипа сыпалось бесконечное ворчанье.
– Ничего вы не смотрите, дармоеды! – ругался Гордей Евстратыч, шагая по конторке. – Ну какой у нас порядок? По миру скоро все пойдем… Вот Шабалин не по-нашему поворачивается с приисками!..
Михалко и Архип больше отмалчивались в этих случаях и в душе проклинали жилку, которая душила их бесконечной работой. Ими еще не овладел тот бес наживы, который мучил Гордея Евстратыча, не давая ему покоя ни днем ни ночью. Брагину все было мало; его жадность росла вместе с приливавшим богатством. К Пасхе он положил в банк двадцать тысяч и не испытывал никакой радости, потому что можно было бы заработать в зиму в два раза двадцать. Ведь наживается же Шабалин и другие, а чем он, Брагин, грешнее этих других? Кроме этого, Гордей Евстратыч сделался крайне подозрительным и недоверчивым человеком, потому что везде видел обман и подвохи: даже родным детям он не доверял теперь и постоянно их поверял. Рабочие являлись в его глазах скопищем воров и разбойников, которые тащат на сторону его золото…
Даже те расходы, которые производились на больного Маркушку, заметно тяготили Гордея Евстратыча, и он в душе желал ему поскорее отправиться на тот свет. Собственно расходы были самые небольшие – рублей пятнадцать в месяц, но и пятнадцать рублей – деньги, на полу их не подымешь. Татьяне Власьевне приходилось выхлопатывать каждый грош для Маркушки или помогать из своих средств.
– Чтой-то, милушка, какой ты скупой стал! – мягко упрекала сына Татьяна Власьевна. – Ведь Маркушка не чужой нам, можно его успокоить… Да и недолго он натянет: доживет не доживет до полой воды!
– Ну, мамынька, он еще нас переживет, Маркушка-то… Чего ему не жить: харч готовый, все готовое. Ты к нему каждую неделю ездишь – это тоже денег стоит, потому лошади лишних полпуда овса могут стравить. Так я говорю, мамынька? На нашей шее немало дармоедов сидит… Хоть взять Зотея: ну что он за человек таков? Ест наш хлеб, и все тут, а пользы никакой. Теперь бы вот на прииски его поставить, а разве ему можно довериться? Только попади денежки в руки – и пошел чертить. Вот оно, мамынька, и подумаешь с подушечкой… Всем подай, обо всех позаботься, а карман один.
– Как же раньше-то, Гордей Евстратыч, ты ничего не говорил про Зотушку? – удивлялась Татьяна Власьевна. – Уж не объест же он нас… Чужим людям подаем, а своего не гнать же.
– Мало ли чего прежде-то было, мамынька… Дураками мы жили, вот что! Надо за ум взяться… Ты вот за снохами-то присматривай: товару в лавке много, пожалуй, между рук не ушел бы!
– Что ты, что ты, милушка! Христос с тобой… Да разве они воровки какие?
– Я не говорю, мамынька, что воровки, а говорю: «Мамынька, смотрите в оба…» После смерти не покаешься.
Сначала такие непутевые речи Гордея Евстратыча удивляли и огорчали Татьяну Власьевну, потом она как-то привыкла к ним, а в конце концов и сама стала соглашаться с сыном, потому что и в самом деле не век же жить дураками, как прежде. Всех не накормишь и не пригреешь. Этот старческий холодный эгоизм закрадывался к ней в душу так же незаметно, шаг за шагом, как одно время года сменяется другим. Это была медленная отрава, которая покрывала живого человека мертвящей ржавчиной.
– И в самом-то деле, что это мы больно раскошелились?.. – удивлялась Татьяна Власьевна, точно просыпаясь от какого-то долгого сна. – Ведь Шабалины не кормят всяких пропойцев, да не хуже других живут…
– Верно, мамынька, – подтверждал Гордей Евстратыч. – Ты рассуди только то, что открой Маркушка кому другому жилку, да разве ему какая бы польза от этого была?.. Ну а мы свое дело сделали…
– А клятва-то, милушка?
– Клятва – другое, мамынька… Мы за него вечно будем Богу молиться, это уж верно. А насчет харчу и всякого у нас и клятвы никакой не было… Так я говорю, мамынька?
– Так, милушка… Только как будто страшно: ведь ежели разобрать, так жилка-то все-таки от Маркушки нам досталась.
– Ах, мамынька, мамынька! Да разве Маркушка сам жилку нашел? Ведь он ее вроде как украл у Кутневых; ну а Господь его не допустил до золота… Вот и все!.. Ежели бы Маркушка сам отыскал жилку, ну, тогда еще другое дело. По-настоящему, ежели и помочь кому, так следовало помочь тем же Кутневым… Натурально, ежели бы они в живности были, мамынька.
– Все перемерли, все!.. – с какой-то радостью подхватила старуха и после короткого раздумья прибавила: – А ведь ты верно, милушка, насчет Маркушки-то все обсказал…
– Уж я тебе говорю, мамынька: вернее смерти.
А виновник этих забот и разговоров, кажется, не подозревал совсем той перемены, какая произошла в Брагиных по отношению к нему. В лихорадочно работавшем мозгу Маркушки назревала отчаянная идея, о которой он пока еще никому не говорил. Она обдумывалась в течение полугода, в бессонные зимние ночи, когда Маркушка оставался в своем балагане один-одинешенек. Тянулись бесконечные мучительные часы, дни, недели, месяцы, а Маркушка все обдумывал одно и то же, не имея сил сдвинуться в которую-нибудь сторону. Идея Маркушки росла и крепла в его душе так же, как вырастает растение из маленького зернышка, пуская корни и разветвления все глубже и глубже.
В конце этого психологического процесса Маркушка настолько сросся с своей идеей, что существовал только ею и для нее. Он это сам сознавал, хотя никому не говорил ни слова. Удивление окружавших, что Маркушка так долго тянет, иногда даже смешило и забавляло его, и он смотрел на всех как на детей, которые не в состоянии никогда понять его.
– Вот вода тронется с гор, тогда и ты помрешь, – утешал кривой Потапыч больного. – Уж это завсегда так бывает…
Кайло и Пестерь были того же мнения и мрачно покуривали свои носогрейки. Эти благочестивые люди в последнее время находились особенно в мрачном настроении, потому что «язвы», то есть Окся, Лапуха и Домашка, окончательно бросили Полдневскую, переселившись на Смородинку, где нашли десятки новых обожателей. Полное одиночество нагоняло на Кайло и Пестеря философские мысли о суете сует этого грешного мира. Только когда они напивались, сейчас брели на Смородинку и затевали отчаянную драку с своими счастливыми соперниками, причем были биты много и очень долго. «Язвы» щеголяли напропалую в новых кумачных сарафанах и с новыми синяками по всему телу, точно последним путем им выделывали кожу для какого-то особенного употребления. Маркушка еще раз мог убедиться, что Окся и Лапуха никогда этим путем не достигнут селения праведных.
– Ну что, били? – иногда спрашивал он своих благоприятелей.
– Погоди, еще не уйдут от наших рук, – мрачно отвечал Кайло.
– Надо их хорошенько отлупить… – советовал Маркушка, вздыхая. – И Домашку и ту надо взлупить.
– И Домашку взлупим, Маркушка. Мы ей ноги выдергаем…
Маркушка от этих разговоров испытывал неприятное волнение и страшно завидовал Пестерю и Кайло, которые могли получить удовлетворение оскорбленной чести; а он должен был оставаться безучастным зрителем этой драмы. Курсы полдневских женщин действительно поднялись на небывалую высоту в силу того экономического закона, по которому превышение спроса увеличивает цену предметов потребления. Но Маркушка, как Пестерь и Кайло, совсем были незнакомы с основными аксиомами политической экономии и одинаково были далеки как от христианского смирения, так и от безропотного повиновения железным законам природы.
– Вы их заманите обманом… – советовал несколько раз Маркушка.
– Нейдут, шельмы!.. Пестерь обещал Домашке новый сарафан, да нейдет.
Маркушка опять волновался. Его воображение мучили самые ревнивые картины, перед которыми отступала на мгновение даже мысль о смерти. А смерть стояла за плечами… Маркушка чувствовал ее приближение своим немевшим разбитым телом. Наступление весны убеждало его в этом еще более. Когда и в его лачугу заползал солнечный луч, долго игравший на грязном полу, Маркушка чувствовал, что никакому солнцу уже не согреть его, как чувствовал то, что последний запас жизненной силы уйдет от него вместе с вешней водой. Эта вешняя вода и пугала и радовала его. Лежа с закрытыми глазами, Маркушка часто испытывал совершенно особенное чувство: его именно подхватывала эта вешняя вода и с увеличивающейся быстротой начинала нести вперед, как несет пловца быстрая река. Кругом Маркушки неслось все, и он просыпался с глухим стоном и, как утопающий, с радостью коснеющими руками хватался за впечатления действительности. С наступлением весны эти мучительные сны стали повторяться чаще, стоило только Маркушке закрыть глаза. Вода журчала на полу его лачуги, пенистые валы разбивались о стены, на улице бушевал бурный клокочущий потоп, и беспощадная стихийная сила подступала все ближе и ближе, подмывая существование Маркушки. Даже открыв глаза, он долго не мог освободиться от страшных звуков: вода продолжала у него журчать в ушах и точно переливалась в самом мозгу.
С другой стороны, Маркушка страстно желал, чтобы вода скорее тронулась с гор: дотянуть до этого момента было его заветной мечтой. Только бы стаял снег и высыпала первая травка по проталинкам. Маркушка чувствовал обновляющуюся природу, как чувствовал и то, что сам он не может принять участия в этом обновлении, и каждую минуту готов был отлететь в сторону, отвалившись мертвым куском от общей живой массы, совершившей установленный круговорот. Какая-то страшная сила выталкивала его за черту органического существования, в темное безграничное пространство, ужасавшее его своим бессознательным существованием.
«Только бы до травы…» – думал Маркушка, заглядывая в слепое окошко своей лачуги.
А там, за стенами Маркушкиной избушки, уже гудела в воздухе закипавшая жизнь. На прогнившей крыше этой избушки часто садились прилетевшие скворцы, и их свист заставлял Маркушку вздрагивать. Больной слышал трудовую возню воробьев, которые теребили мох из его избушки и радостно щебетали и чирикали словно сумасшедшие. Солнечные лучи все глубже и глубже заглядывали в избушку, точно они выщупывали в ней своими сверкавшими пальцами; они подолгу оставались на закоптелых стенах, делая их еще чернее. В отворенную дверь тянуло свежей струей воздуха, которая раздражала Маркушку; в воздухе пахло водой… Когда северная весна пошла вперед быстрыми шагами, Маркушка уже еле дышал. Кашель усилился. Его душила скоплявшаяся внутри мокрота, будто на его груди была положена тяжелая чугунная доска.
Раз в светлый теплый весенний денек Маркушка пригласил к себе своих приятелей, Пестеря и Кайло, и предложил им нечто от «воды веселия и забвения». Эта порция водки была им куплена давно и хранилась под кроватью. Пестерь и Кайло пили стакан за стаканом и удивлялись щедрой проницательности Маркушки: именно в этот день они умирали от жажды, и Маркушка их спас… Совсем расчувствовавшийся Пестерь долго смотрел в упор на Маркушку и наконец проговорил:
– Что ты, шайтан, долго не помираешь?.. И вода с гор прошла, а ты все еще кочетыржишься!
– Вот что, братцы… – заговорил Маркушка, собираясь с силами. – Не ходите вы завтра робить на Смородинку…
– И не пойдем, – согласился Кайло, чуявший какую-то новую поживу. – Ноне этот Гордей Евстратыч совсем изварначился…
– А что?
– Рабочих поедом съел… Все ему не ладно, все не так… Ругается… Намедни нас с Пестерем обыскивал… Ей-богу!..
Маркушка давно слышал о перемене в характере Брагина, на которого все рабочие начали громко жаловаться, но всегда отмалчивался.
– Да разве мы… ах, милосливый Господи!.. – ожесточенно выкрикивал Кайло, ударяя себя в грудь кулаком. – Маркушка… да ужли уж мы… Вот спроси Пестеря… а-ах!..
– Обнаковенно… ежели бы мы захотели украсть, так не попались бы, – согласился угрюмо Пестерь, мотая головой. – Комар носу бы не подточил… А то обыскивать!
– А, поди, крепко воруете? – спрашивал Маркушка, косвенно защищая Брагина.
– Маркушка… Да разве нам можно не воровать… а?.. Человек не камень, другой раз выпить захочет, ну… А-ах, милосливый Господи! Точно, мы кое-что бирали, да только так, самую малость… ну, золотник али два… А он обыскивать… а?!. Ведь как он нас обидел тогда… неужли на нас уж креста нет?
– Вот что, братцы, вы завтра робить не ходите… – говорил Маркушка. – Я хочу беспременно поглядеть на Смородинку… так вы меня туда и снесите.
– Представим, Маркушка.
– Я вам заплачу, братцы…
– И так снесем. Все равно помрешь… Потапыча прихватим на всякий случай!..
Старатели пьянствовали в лачуге всю ночь напролет… Пестерь, умиленный выпитой водкой, долго горланил песню, которую когда-то в Полдневской пели «язвы»:
- Я без пряничка не сяду,
- Без орешка не ступлю;
- Я без милого не лягу,
- Без надежи не усну…
Песня была веселая, и Кайло грузно отплясывал под пение Пестеря, шлепая своими грязными лаптями. Маркушка хрипел и задыхался и слышал в этой дикой песне последний вал поднимавшейся воды, которая каждую минуту готова была захлестнуть его. В ужасе он хватался рукой за стену и бессмысленно смотрел на приседавшего Кайло. И Кайло, и Пестерь, и Окся с Лапухой, и Брагин – все это были пенившиеся валы бесконечной широкой реки…
Утром на другой день Кайло смастерил из двух палок и пихтовой хвои носилки. На этих носилках старатели и потащили Маркушку на Смородинку. День был солнечный, ясный; воздух был пропитан смолистыми испарениями. По голубому небу торопливо бежали гряды белоснежных облаков; где-то заливались безыменные лесные птички. Приисковая дорога, проведенная из Полдневской на Смородинку, походила на корыто, по которому сбегала красноватая вода. Пестерь и Кайло сосредоточенно шлепали своими лаптями по лужам и несколько раз садились отдыхать где-нибудь в сторонке. Ноша была нелегкая, особенно при такой дороге. Маркушка лежал неподвижно как труп; он был страшен на свежем воздухе, и только открытые глаза оставались еще живыми.
– Эй ты, шайтан, умер, что ли? – несколько раз окликал свою ношу Кайло.
Вместо ответа Маркушка только кашлял и глухо хрипел. Сколько тысяч раз он прошел по этим местам, а дорогу к Заразной горе он прошел бы с завязанными глазами: все горы в окрестностях на пятьдесят верст кругом были исхожены его лаптями, а теперь Маркушка, недвижимый и распростертый, как пласт, только мог повторять своим обессиленным телом каждый толчок от своих неуклюжих носильщиков. Иногда он стонал, когда Кайло и Пестерь перепрыгивали через рытвины; но больше крепился, закрывая глаза от слепившего его солнца. Носильщики все время пути жаловались на Брагина, притеснявшего старателей, ругались самыми живописными сравнениями, сквернословили и несколько раз принимались корить Маркушку, зачем он «просолил жилку» Брагину.
– Тебе хорошо, черту… Умрешь, и вся тут, а мы как? – соображал Кайло, раздражаясь все больше и больше. – Шайтан ты, я тебе скажу… Не нашел никого хуже-то, окаянная душа! Он тебя и отблагодарил, нечего сказать… От этакого богачества мог бы тебе хошь десять рублей в месяц давать, а то…
Молчание Маркушки еще сильнее раздражало его приятелей, которые теперь от души жалели, что Маркушка не может головы поднять; а то они здорово бы полудили ему бока… Особенно свирепствовал Пестерь, оглашая лес самой неистовой руганью.
Но вот и Заразная, до самого верха обросшая дремучим ельником; вот и последний увал, вот и знакомый гул, доносившийся от нового прииска. Где-то в лесу звонко рубил топор сырое смолевое дерево; пахнло дымом и смешанным гулом самых разнородных звуков, точно в лесу варился громадный котел. Кайло и Пестерь остановились наверху увала, откуда отлично можно было рассмотреть весь прииск. Маркушка приподнял голову и помутившимися глазами жадно смотрел под гору, где стояли конторка, дробилка, промывальная машина и десятки старательских вашгердов. Он не узнал своей жилки, хотя сердце у него забилось от радости при виде с детства знакомой картины.
– Ну, шайтан, гляди, это твоя работа… – корили Маркушку приятели. – Теперь Брагин будет раздуваться, как пузырь, нашим-то золотом.
– Пусть его… – прохрипел Маркушка. – На его душе грех…
Заветная идея Маркушки осуществилась наконец: он увидел свою жилку, которую хоронил и вынашивал в своей душе целых пятнадцать лет.
На другой день вечером Маркушка умер.
XII
Брагины загремели на целую «округу». Слава об их богатстве, окрыленная тысячью самых фантастических добавлений, облетела сотни верст, везде возбуждая зависть к этим счастливцам. Вместо старых знакомых нашлись десятки новых. В Белоглинский завод приезжали издалека разные проходимцы и искатели приключений, жаждавшие приклеиться всеми правдами и неправдами к брагинской жилке. Так, приезжал какой-то смышленый немец, предлагавший Гордею Евстратычу открыть в Белоглинском заводе заведение искусственных минеральных вод; потом пришел пешком изобретатель новых огнегасителей, суливший золотые горы; затем явилась некоторая дама заграничного типа с проектом открыть ссудную кассу и т. д., и т. д. В брагинской доме от новых знакомых отбоя не было: все спешили принести сюда посильную дань уважения добродетелям редкой семьи. Горные инженеры, техники, доктора, купцы, адвокаты – всех одинаково тянуло к всесильному магниту, не говоря уже о бедности, которая поползла к брагинскому дому со всех углов, снося сюда в одну кучу свои беды, напасти и огорчения… Горькая нужда в тысячах разновидностей точно тронулась и нарочно обнажила свои язвы. Вдовы, сироты, калеки, несчастные всех видов молили о помощи и готовы были по крохам разнести брагинские богатства. Почти каждый день приносили на имя Гордея Евстратыча десятки писем, в которых неизвестные лица, превзошедшие своими несчастиями даже Иова, просили, молили, требовали немедленной помощи. Все это делалось даже страшным, потому что для покрытия вопиющей нужды недостало бы золотых гор.
– Мамынька, да что же это такое? – спрашивал Гордей Евстратыч, отчаянно боровшийся с своей скупостью.
– Ничего, милушка, потерпи, – отвечала Татьяна Власьевна. – В самом-то деле, ведь у нас не золотые горы, – где взять-то для всех?.. По своей силе помогаем, а всех не ублаготворишь. Царь богаче нас, да и тот всем не поможет…
Брагины теперь походили на тех счастливцев, которые среди открытого океана спасались сами на обломках разбитого корабля. Кругом них мелькали в воде утопающие, к ним тянулись руки с мольбой о помощи, их звал последний крик отчаяния; но они думали только о собственном спасении и отталкивали цеплявшиеся за них руки, чтобы не утонуть самим в бездонной глубине. Эта картина скоро притупила их нервы настолько, что они отнеслись даже к смерти благодетеля Маркушки совсем безучастно. Кайло и Пестерь похоронили «шайтана» на свои гроши, а Гордей Евстратыч прогнал их с работы как свидетелей собственной несправедливости, которые мозолили ему глаза.
– Деньги – вода, – объяснял Гордей Евстратыч сыновьям, – пришла – ушла, только ее и видел… А ты копейку недосмотрел, она у тебя рубль из карману долой.
Михалко и Архип были слишком оглушены всем происходившим на их глазах и плохо понимали отца. Они понимали богатство по-своему и потихоньку роптали на старика, который превратился в какого-то Кощея. Нет того чтобы устроить их, как живут другие… Эти другие, то есть сыновья богатых золотопромышленников, о которых молва рассказывала чудеса, очень беспокоили молодых людей.
Работы и заботы всем было по горло в брагинском доме: мужики колотились на прииске, снохи попеременно торговали в лавке, а «сама» с Нюшей с ног сбилась с гостями. А тут еще Дуня затяжелела, за ней глаз был нужен; у Ариши Степушка все прихварывал зимой; Зотушка чаще обыкновенного начал зашибаться водкой. Алена Евстратьевна толклась всю зиму-зимскую. Все нужно было досмотреть, везде поспеть. А тут еще Гордей Евстратыч затевал старый дом перестраивать: крыша деревянная ему помешала – загорелось налаживать непременно железную, потом палубить снаружи да красить внутри. Все это подбивала Гордея Евстратыча милая сестричка Алена Евстратьевна, которая совсем угорела от чужого золота. Татьяна Власьевна частенько про себя жалела о Колобовых и Савиных. Новые заботы иногда делались ей не под силу, и она нуждалась в постороннем совете, а к кому теперь пойдешь, кроме о. Крискента. Особенно ее беспокоила судьба Нюши. Пазухины пропустили рождественский мясоед и не заслали сватов, потому что Пелагея Миневна боялась модницы Алены Евстратьевны; а после Пасхи уже наверно подошлет кого-нибудь. Дело нешуточное, и посудить да порядить об нем не с кем, кроме о. Крискента, который со всеми всегда соглашается. Тоже вот и невестки кручинятся по своим-то, сильно кручинятся, а чем им поможешь? Марфа Петровна прямо говорит, что эти Колобовы да Савины все ногти себе обгрызли от зависти и постоянно судачат на них, то есть на Брагиных.
– Старухи-то еще что говорят, – прибавляла уж от себя словоохотливая Марфа Петровна, – легкое-то богатство, говорят, по воде уплывет… Ей-богу, Татьяна Власьевна, не вру! Дивушку я далась, с чего это старухи такую оказию придумали!..
Татьяна Власьевна строго подбирала губы и ничего не отвечала. Этот отзыв кровно ее обижал, потому что попадал в самое больное место: она сама иногда боялась своего легкого богатства. А тут еще эти старухи принялись каркать… Именно, зависть их одолела, точно от брагинского несчастья им легче будет. Снохи Татьяны Власьевны по-прежнему дулись одна на другую, и Татьяна Власьевна подозревала, что и это недаром делается, а родимые матушки надувают в уши дочкам. Уж это верно, потому где бы молоденьким бабенкам сердце выдержать на целых полгода: не вытерпели бы и помирились. Это все старухи расстраивают бабенок: хотят не мытьем, так катаньем взять. Этот ряд мыслей окончательно утвердился в голове Татьяны Власьевны, и она с особенным вниманием выслушивала сплетни Марфы Петровны.
Только одна Нюша оставалась прежней Нюшей – развей горе веревочкой, – хотя и приставала к бабушке с разговорами о платьях. Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Феня остались нерзлучны по-прежнему и частили одна к другой, благо свободного времени не занимать стать. Эти молодые особы смотрели на совершившееся около них с своей точки зрения и решительно не понимали поведения стариков, которые расползлись в разные стороны, как окормленные бурой тараканы.
– Просто спятили с ума на старости лет, – говорила откровенная Феня. – Нашли чего делить… Жили-жили, дружили-дружили, а тут вдруг тесно показалось. И мой-то тятенька тоже хорош: все стонал да жаловался на свое староство, а тут поди ты как поднялся. С ними и сама с ума сойдешь, Нюша, только послушай.
– А баушку так и узнать нельзя стало, – жаловалась Нюша. – Все считает что-то да бормочет про себя… Мне даже страшно иногда делается, особенно ночью. Либо молится, либо считает… И скупая какая стала – страсть! Прежде из последнего старух во флигеле кормила, а теперь не знает, как их скачать с рук.
– А Гордей Евстратыч?
– И не говори… К нему и подойти теперь боязно. На снох дуется, Михалку с Архипом заморил на прииске, на Зотушку ворчит, со мной тоже не много разговаривает. Скучища у нас теперь…
– Гостей зато много бывает.
– Да и гости такие, что нам носу нельзя показать, и баушка запирает нас всех на ключ в свою комнату. Вот тебе и гости… Недавно Порфир Порфирыч был с каким-то горным инженером, ну, пили, конечно, а потом как инженер-то принялся по всем комнатам на руках ходить!.. Чистой театр… Ей-богу! Потом какого-то адвоката привозили из городу, тоже Порфир Порфирыч, так тово уж прямо на руках вынесли из повозки, да и после добудиться не могли: так сонного и уволокли опять в повозку.
Все подобные рассуждения доказывали только полную непрактичность болтавших девушек, которые не в состоянии были понять многого, что творилось на их глазах. Они еще не покрылись той житейской ржавчиной, которая живых людей превращает в ходячие трупы. Зеленая юность тем и счастлива, что не знает, не хочет знать этих разъедающих ум и душу расчетов, которые опутывают остальных людей непроницаемой сетью. Произведенные Маркушкиной жилкой превращения для Нюши и Фени были глупой и смешной загадкой; скрывавшийся под ними старческий эгоизм, корыстные расчеты и расшевеленное самолюбие были далеки от этих юных душ, еще не тронутых житейской горечью.
Ожидаемое сватовство Нюши наконец состоялось. Сватами явились купец Сорокин, дядя Алеши Пазухина по матери, и заводский надзиратель Потемкин. Люди были почтенные, обычливые и заявились в брагинский дом по всем правилам сватовского искусства, памятуя золотое правило, что свату первая чарка и первая палка. Конечно, завели они речь издалека, что послал их князь поискать жар-птицы, что ходили они, гуляли по зеленым садам, напали на след и след привел их прямо к брагинскому двору и т. д. Сваты были опытные и наговаривали в голос, только слушай. Даже Татьяна Власьевна осталась довольна их разговором и ответила им в том же тоне.
– Какой же вы след видели, добрые люди? – спрашивала Татьяна Власьевна.
– А тот след, Татьяна Власьевна, – отвечал осанистый старик Сорокин, разглаживая свою русую бороду, – летела жар-птица из зеленого сада да ронила золотое перо около вашего двора – вот тебе и первый след…
Гордей Евстратыч был дома и принял сватов довольно сухо, предоставив Татьяне Власьевне вести все дело. Сваты посидели, поболтали и пошли ни с чем, потому что первых сватов засылают только на разведки, почему их и называют пустосватами. В случае отказа сватам на юге кладут в экипаж тыкву, а на севере привязывают к экипажу шест. Приехать с шестом для свата, конечно, большое бесчестье. Татьяна Власьевна не сказала своим сватам ни да ни нет, потому что нужно было еще посоветоваться с отцом. Такой совет состоялся, как и по поводу Маркушкиной жилки, из Гордея Евстратыча, Татьяны Власьевны и Зотушки.
– Ну, так как ты думаешь, Гордей Евстратыч? – спрашивала Татьяна Власьевна, когда они чинно уселись по местам.
– Что тут думать-то, мамынька? Конечно, худой жених доброму путь кажет. Спасибо за честь, а только родниться нам с Пазухиными не рука.
– Пошто же не рука, Гордей Евстратыч? Люди хорошие, обстоятельные, и семья – один сын на руках. Да и то сказать, какие женихи по нашим местам; а отдать девку на чужую-то сторону жаль будет. Не ошибиться бы, Гордей Евстратыч. Я давно уже об этом думала…
– А я, мамынька, другое на уме держу! Пазухиных хаять не хочу; а для Нюши почище жениха сыщем. Не оборыши, слава богу, какие и не браковку замуж отдаем… Не по себе дерево Пазухины выбрали, мамынька, прямо сказать.
– Ох, Гордей Евстратыч, Гордей Евстратыч… Всякий лучше выбирает, да только не всякому счастки выпадают. Может, и мы не по себе дерево ищем…
Последняя фраза задела Гордея Евстратыча за живое, и он сердито замолчал. Зотушка, сгорбившись, сидел в уголке и смиренно ждал, когда его спросят. Глазки у него так и светились; очевидно, ему что-то хотелось сказать.
– Ну, а ты, Зотушка, как думаешь? – спросила Татьяна Власьевна, чтобы перевести разговор.
– Я, мамынька, думаю заодно с тобой… За большим погонишься, пожалуй, и малого не увидишь.
– Опять дурак!.. – загремел Гордей Евстратыч, накидываясь на брата; он рад был хоть на нем сорвать сердце. – Ни уха ни рыла не понимаешь, а туда же…
– Вы, братец, напрасно такие слова выговариваете, – со смирением возражал Зотушка. – Я дурак про себя, а не про других. Вы вот себя умным считаете, а такую ошибочку делаете…
– Ты меня учить… а?!. Вон, пьяница и дурак!.. Из дома моего вон!.. И чтобы духу твоего не было!.. Слышал?..
– Гордей Евстратыч… – пробовала было заступиться Татьяна Власьевна за своего любимца. – Милушка, что это ты говоришь?
– Мамынька, оставь нас… Я долго терпел, а больше не могу. Он живет дармоедом, да еще мне же поперечные слова говорит… Я спустил в прошлый раз, а больше не могу.
– И я, братец, тоже больше не могу… – с прежним смирением заявил Зотушка, поднимаясь с места. – Вы думаете, братец, что стали богаты, так вас и лучше нет… Эх, братец, братец! Жили вы раньше, а не корили меня такими словами. Ну, Господь вам судья… Я и так уйду, сам… А только одно еще скажу вам, братец! Не губите вы себя и других через это самое золото!.. Поглядите-ка кругом-то: всех разогнали, ни одного старого знакомого не осталось. Теперь последних Пазухиных лишитесь.
– Ладно, ладно, разговаривай… Лучше найдем.
– Я ведь не о себе, братец… Польстились вы на золото, – как бы старых пожитков не растерять. И вы, мамынька, тоже… Послушайте меня, дурака.
– Зотушка… Гордей Евстратыч… – плакалась Татьяна Власьевна, бросаясь между братьями. – Побойтесь вы Бога-то!
– Я грешный человек, мамынька, да про себя… – смиренно продолжал Зотушка, помаленьку отступая к дверям. – Других не обижаю; а братец разогнал всех старых знакомых, теперь меня гонит, а будет время – и вас, мамынька, выгонит… Я-то не пропаду: нам доброго не изжить еще, а вот вы-то как?..
Гордей Евстратыч ринулся было на брата с кулаками, но Татьяна Власьевна опять удержала его, и он заскрежетал зубами от бессильного гнева. Когда Зотушка вышел, Татьяна Власьевна тихо заплакала, а Гордей Евстратыч долго бегал по своей горнице и кричал на мать:
– Это все от тебя, мамынька! Да… Разве это порядок в дому… а? Правду сестра-то Алена говорит, что мы дураками живем… Кто здесь хозяин?
– Гордей Евстратыч… да ведь Зотей-то тебе не чужой. Чего с него взять-то, ежели его Господь обидел?..
– Он мне хуже в десять раз чужого, мамынька… Я десять человек чужих буду кормить, так по край мере от них доброе слово услышу. Зотей твой потвор всегда был, ну, ты ему и потачишь…
Эти слова точно укололи старуху. Она поднялась с своего места, выпрямилась во весь рост и грозно проговорила:
– Гордей Евстратыч!.. ты и в самом деле, видно, хочешь меня из родительского гнезда выжить?..
– Ах, мамынька, мамынька!.. – застонал Гордей Евстратыч, хватаясь в отчаянии за голову. – Ведь это что же такое будет… а? Мамынька, прости на скором слове!..
Гордей Евстратыч повалился в ноги к мамыньке, а та рукой наклоняла его голову к самому полу и приговаривала:
– Ниже, ниже, милушка, кланяйся матери-то… Кабы покойник-отец был жив, да он бы тебя за такие скорые речи в живых не оставил. Ну, ин, Бог простит…
Поднявшись с земли, Гордей Евстратыч какими-то дикими глазами посмотрел на мать, а потом, махнув рукой, ничего не сказав, вышел из комнаты. Татьяна Власьевна долго смотрела кругом, точно припоминая, где она; а потом, пошатываясь, побрела на свою половину. В ее ушах еще стояли пророческие слова Зотушки, и она теперь боялась их, припоминая страшное лицо Гордея Евстратыча, когда он поднялся с земли. Маркушкино золото точно распаяло те швы, которыми так крепко была связана брагинская семья: все поползли врозь, то есть пока большаки, а за ними, конечно, поползут и остальные. Сознание происходившего ошеломило Татьяну Власьевну, как человека, который, неожиданно взглянув вниз, увидал под ногами бездонную пропасть. Еще один шаг – и общая гибель неизбежна.
– Господи помилуй! – крестилась старуха, хватаясь за косяк двери: ее даже качнуло в сторону, как пьяную. – Зотушка… милушка…
Это была тяжелая минута. Татьяна Власьевна на мгновение увидела разверзавшуюся бездну в собственной душе, потому что там происходило такое же разделение и смута, как и между ее детьми. «Аще разделится дом на ся – погибнуть дому сему», – вот те роковые слова, которые жгли ее возбужденный мозг, как ударившая в сухое дерево молния. Она уже не была прежней богомолкой и спасенной душой, а вся преисполнилась земными мыслями, которые теперь начинали давить ее мертвым гнетом. Именно теперь припоминала Татьяна Власьевна и свою скупость, и то, как ей было всего мало, и смерть брошенного на произвол судьбы Маркушки, и ссору с Колобовыми, Савиными и Пятовым. Последним звеном в этой роковой цепи являлся выгнанный на улицу Зотушка, а затем естественный разрыв с Пазухиными, которые, конечно, будут обижены неудачным своим сватовством. Чем дальше думала Татьяна Власьевна, тем делалось ей тяжелее, точно ее душу охватывала какая-то кромешная тьма. Она прибегла к своему единственному средству утешения, то есть к молитве, и простояла на поклонах до третьих петухов. Нюше тоже не спалось. Она знала, зачем приезжали Сорокин с Потемкиным, но боялась спросить бабушку о результатах их совещания. Зачем выгнал отец Зотушку? зачем он кричал на бабушку? зачем бабушка так усердно откладывает поклоны перед своим иконостасом? Нюшино сердце чуяло что-то недоброе, и она потихоньку всплакнула в свою подушку.
– Баушка… а баушка, – нерешительно спросила она молившуюся старуху.
– Ты разве не спишь, милушка? – удивилась Татьяна Власьевна.
– Нет, баушка…
Старуха подошла к Нюше, села на ее постель и долго гладила своей морщинистой рукой, с тонкой старой кожей, ее темноволосую красивую голову, пытливо глядевшую на нее темными блестевшими глазами. Эта немая сцена сказала обеим женщинам больше слов; они на время слились в одну мысль, в одно желание и так же молча встали на молитву. Татьяна Власьевна раскрыла книгу, зажгла несколько новых свеч пред образами и мерным ровным голосом начала говорить канун. Нюша стояла рядом с ней и со слезами молилась, отбивая по лестовке бесконечные поклоны. Минуту назад им было так тяжело, а теперь они, умиленные, растроганные, далеко оставили там, где-то внизу, все беды-напасти, точно их окрылила какая-то высшая сила.
– Баушка, как же… что давеча-то тятенька сказал? – спрашивала Нюша, когда молитва была кончена.
– Ох, милушка, милушка… Не судьба тебе, милушка, видно, за Алешей Пазухиным быть. Отец и слышать не хочет… Молись Богу, голубушка.
Нюша уткнулась головой в подушку и горько зарыдала. Это было первое горе, которое разразилось над ее головой.
Зотушка, когда вышел из братцевой горницы, побрел к себе в флигелек, собрал маленькую котомочку, положил в нее медный складень – матушкино благословение – и с этой ношей, помолившись в последний раз в батюшкином дому, вышел на улицу. Дело было под вечер. Навстречу Зотушке попалось несколько знакомых мастеровых, потом о. Крискент, отправлявшийся на своей пегой лошадке давать молитву младенцу.
– Куда, Зотей Евстратыч? – окликнул его о. Крискент. – Садись, подвезу.