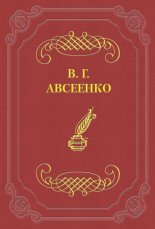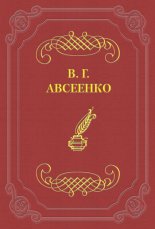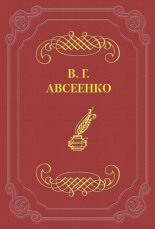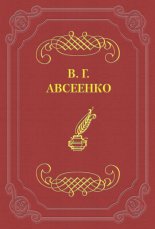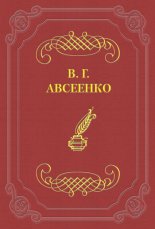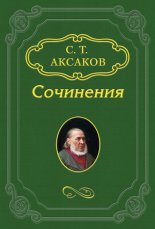Золото (сборник) Мамин-Сибиряк Дмитрий

ДИКОЕ СЧАСТЬЕ
I
– Господи Исусе Христе, помилуй нас…
– Аминь! Кто там крещеной? Никак ты, Михалко?
– Он самый… Отворяй ворота скорей, дядя. Насквозь изняло дождем, – во как зарядил!
– Откедова Бог несет?
– В Полдневскую гонял… Дельце маленькое вышло.
Дядя Зотушка ничего не ответил и молча принялся отодвигать тяжелый деревянный запор, которым были крепко заперты шатровые крашеные ворота. Засов отсырел от дождя, и дядя Зотушка принужден был навалиться на него всей чахоточной грудью, чтобы выдвинуть его из крепких железных скоб. «Ишь ведь взяло его…» – ворчал Зотушка, когда конец мокрого запора наконец поддался его усилиям и выдвинулся настолько, что можно было отворить маленькие ворота. В глубине темного двора как бешеная металась пестрая собака Соболько; заслышав хозяина, она радостно взвизгнула и еще неистовее принялась греметь своей железной цепью.
– Ну, едва тебя Бог простил с запором-то… – проговорил Михалко, въезжая в ворота верхом.
– Ты востер больно… Ишь закипело комариное-то сало!
Дядя Зотей еще раз навалился на упрямый запор и зашлепал по дощатому мокрому полу босыми ногами. Михалко не торопясь спустился с тяжело дышавшей лошади, забрызганной липкой осенней грязью по самые уши.
– Ладно, как пересобачил лошадь-ту, – говорил дядя Зотей, оглядывая лошадь, покрытую сплошным слоем грязи.
– За долгами отец посылал, – коротко ответил Михалко, расправляя на себе смятый кожан, насквозь пропитанный холодной дождевой водой. – В два-то конца все сорок верст сделал. А ты, дядя, выводи лошадь-то, больно заморилась…
– Знамо дело, не так же ее бросить… Не нашли с отцом-то другого времени, окромя распутицы, – ворчал добродушно Зотушка, щупая лошадь под потником. – Эх, как пересобачил… Ну, я ее тут вывожу, а ты ступай скорей в избу, там чай пьют, надо полагать. В самый раз попал.
– Так ты уж тово, Зотушка… Сперва выводи, а потом к столбу привяжи гнедка. Пусть хорошенько выстоится.
– Ладно, ладно… Без тебя знаем. Ступай. Ученого учить – только портить.
Зотушка посмотрел на широкую спину уходившего Михалка и, потянув лошадь за осклизлый повод, опять зашлепал по двору своими босыми ногами. Сутулая, коренастая фигура Михалки направилась к дому и быстро исчезла в темных дверях сеней. Можно было расслышать, как он вытирал грязные ноги о рогожу, а затем грузно начал подниматься по ступенькам лестницы.
«Этакой медведь этот Михалко! – думал Зотушка, таская за собой тяжело шагавшую лошадь. – Нет чтобы дать дяде пятачок… А-ах, чтоб тебя расстреляло!»
Голова Зотушки, с липкими жиденькими прядями волос, большим лбом, большими ушами, жиденькой бородкой, длинным носом и узенькими черными глазками, трещала со вчерашнего похмелья по всем швам. Ныла каждая косточка, каждая жилка, и так воротило с нутра, что Зотушка несколько раз начинал сердито отплевываться, приговаривая: «А-ах, Боже мой… помилуй нас грешных! Ведь всего один пятачок. Поправился бы, и шабаш. Ни-ни… Просил даве у старухи червячка заморить – в шею выгнала… Нюша дала бы, да у самой денег нет. Эх, жисть!..» В душе Зотушки родилась слабая надежда, что авось, если выводит лошадь, ему вышлют стаканчик. А славный стаканчик есть у старухи, еще дедовский, граненый, с плоским донышком. Не чета нынешним, из которых щенка не напоишь! А дождь продолжал частить, мерно осыпая железную крышу дробившимися каплями; с потолка глухо бежала вода, хлюпая в старой деревянной кадочке. Осенний темный вечер наступил незаметно и затянул все кругом беспросветной мглой – угол навеса, под которым стояли поленницы дров, амбары, конюшни, флигелек, где у старухи Татьяны Власьевны был устроен приют для старух и где в отдельной каморке ютился Зотушка. Из мрака выделялся темной глыбой только большой старинный дом, глядевший на двор своими небольшими освещенными окнами. Зотушка мог видеть в окна, что чай уже отпили, когда в комнату вошел Михалко, потому что старуха ушла на свою половину. «Сам», то есть Гордей Евстратыч, сидел еще за столом, слушая болтовню черноволосой Нюши, которая вертелась около него мелким бесом. Старшая невестка Ариша, жена Михалки, сосредоточенно перемывала чайную посуду, взмахивая концом полотенца: сегодня ее очередь чаем всех поить.
– Нет, видно, не вышлют… – решил Зотушка, когда Михалко не торопясь выпил два стакана чаю и поднялся из-за стола. – Вот тебе и утка с квасом!..
Против окна теперь стоял Гордей Евстратыч, хозяин дома и брат Зотушки; он степенно разглаживал свою окладистую бороду, красиво исчерченную выступавшей сединой. Михалко, видимо, отчитывался ему в своей поездке, откладывая что-то на пальцах. В такт цифрам он встряхивал своими подстриженными в скобу волосами, а потом добыл из кармана пиджака потертый бумажник и вынул из него пачку засаленных кредиток. «Рублей тридцать будет», – подумал Зотушка про себя и еще раз усомнился: вынесут ему стаканчик или нет. Ведь если по-человечеству-то разобрать, так он уж сколько времени вываживает лошадь, а на дворе вон какая непогода – всего промочило до нитки.
На этот раз Зотушка не дождался стаканчика и, выводив лошадь, привязал ее к столбу выстаиваться, а сам ушел в свою конуру, где сейчас же и завалился спать.
К ужину в небольшой проходной комнате, выходившей окнами на двор, собралась вся семья: Татьяна Власьевна, Гордей Евстратыч, старший сын Михалко с женой Аришей, второй сын Архип с женой Дуней и черноволосая бойкая Нюша. Гордей Евстратыч был вдовец, и весь дом вела его мать, Татьяна Власьевна, высокая, ширококостная старуха раскольничьего склада; она строго блюла за порядком в доме, и снохи ходили у ней по струнке. Издали эта крепкая купеческая семья могла умилить самого завзятого поклонника патриархальных нравов, особенно когда все члены ее собирались за столом. Обеды и ужины проходили в торжественном молчании, точно совершалось таинство. Разговаривать могли только «сам» и «сама», а молодые должны были только отвечать на вопросы. Впрочем, для Нюши и старшей невестки Ариши делалось исключение, и они могли иногда ввернуть свое словечко, хотя «сама» и подбирала строго каждый раз свои сухие, бесцветные губы. Сегодняшний ужин походил на все другие. Мужчины в одних ситцевых рубашках занимали одну половину длинного стола, женщины другую. Татьяна Власьевна была одета в свой неизменный косоклинный кубовый сарафан с желтыми проймами и в белую холщовую рубаху; темный старушечий платок с белыми горошинами был повязан на голове кикой, как носят старухи-кержанки. Невестки и Нюша, в ситцевых сарафанах, таких же рубахах и передниках, были одеты как сестры; строгая Татьяна Власьевна не хотела никого обижать, показывая костюмом, что для нее все равны. Только бабьи повязки невесток выделяли их положение в семье; непокрытая голова Нюши с черной длинной косой говорила о ее непокрытой девичьей вольной волюшке.
Обеденный стол был накрыт синей пестрядевой скатертью; все ели из одной чашки деревянными ложками. День был постный, и стряпка Маланья, кривая старая девка в кубовом синем сарафане, подала на стол только постные щи с поземиной да гречневую кашу с конопляным маслом. Больше ничего не полагалось, а Татьяна Власьевна для постного дня даже к поземине не прикоснулась, потому что это все-таки рыба, хотя и сушеная. Маланья была свой человек в доме, потому что жила в нем четвертый десяток; такая прислуга встречается в хороших раскольничьих семьях, где вообще к прислуге относятся особенно гуманно, хотя по внешнему виду и строго.
Сегодня Гордей Евстратыч был особенно в духе, потому что Михалко привез ему из Полдневской один старый долг, который он уже считал пропащим. Несколько раз он начинал подшучивать над младшей невесткой Дуней, которая всего еще полгода была замужем; красивая, свежая, с русым волосом и ленивыми карими глазами, она только рдела и стыдливо опускала лицо. Красавец Архип, муж Дуни, любовался этим смущением своей молодайки и, встряхивая своими черными, подстриженными в скобу волосами, смеялся довольной улыбкой.
– Будет вам лясы-то точить, – строго заметила Татьяна Власьевна, останавливая эту сцену. – Ведь за столом сидим, Гордей Евстратыч. Тебе бы других удержать от лишнего слова, а ты сам первый затейщик…
– Ну не буду, мамынька, – оправдывался Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. – Пошутил, и кончено…
– Уж бабушка всегда у нас такая… – прибавила Нюша.
– Какая такая? – сердито заговорила Татьяна Власьевна. – Ну, говори, верченая!..
– Да такая… слово сказать нельзя.
– Ох, ты-то – невитое сено!.. У тебя и на уме-то все одни хи-хи да смехи. Погоди, вот…
Татьяна Власьевна недосказала конца фразы, хотя все хорошо поняли, что она хотела сказать: «Погоди, вот выйдешь замуж-то, так не до смеху будет… Востра больно!» Это была стереотипная угроза, которая слишком часто повторялась, чтобы испугать бойкую и неугомонную Нюшу. На ворчанье бабушки у нее был отличный ответ, который она, к сожалению, могла говорить только про себя: «Нашла чем пугать… У меня жених давно приготовлен, только дорогу перейти – тут и жених. А зовут его Алешкой Пазухиным!..» Невестки хотя и дружили с Нюшей, особенно Ариша, но внутренне были против нее, потому что Нюша все-таки была «отецкая», баловная дочка, и Татьяна Власьевна ворчала на нее только для видимости. Существование Алешки Пазухина не было тайной ни для кого в семье, хотя об этом никто не говорил ни слова: парень был подходящий, хорошей «природы», как говорила про себя степенная Татьяна Власьевна.
После ужина все, по старинному прадедовскому обычаю, прощались с бабушкой, то есть кланялись ей в землю, приговаривая: «Прости и благослови, бабушка…» Степенная, важеватая старуха отвечала поясным поклоном и приговаривала: «Господь тебя простит, милушка». Гордею Евстратычу полагались такие же поклоны от детей, а сам он кланялся в землю своей мамыньке. В старинных раскольничьих семьях еще не вывелся этот обычай, заимствованный из скитских «метаний».
Когда все начали расходиться по своим углам, молчавший до последней минуты Михалко проговорил:
– А у меня, тятенька, до тебя дельце есть небольшое…
Он замялся и почесал у себя в затылке.
– Пойдем ко мне в горницу, – проговорил Гордей Евстратыч, удивленный «дельцем» Михалки.
Дом хотя был и одноэтажный, но делился на много комнат: в двух жила Татьяна Власьевна с Нюшей; Михалко с женой и Архип с Дуней спали в темных чуланчиках; сам Гордей Евстратыч занимал узкую угловую комнату в одно окно, где у него стояла двухспальная кровать красного дерева, березовый шкаф и конторка с бумагами. Лучшие комнаты, как во всех купеческих домах, стояли совсем пустыми, потому что служили парадными приемными при разных торжественных случаях. Вся семья жалась по крошечным клетушкам целый год, чтобы два или три раза в год принять гостей по-настоящему, как принимали все другие. Эти «другие», «как у других» – являлось железным законом.
– Ну что, Миша?.. – спрашивал Гордей Евстратыч, притворяя за собой дверь.
– Да вот, тятенька… я тебе привез гостинец от старателя Маркушки, – неторопливо проговорил Михалко, добывая из кармана штанов что-то завернутое в смятую серую бумагу.
– Это из Полдневской?
– Да. От Маркушки… Он сильно скудается здоровьем-то. «Вот, – говорит, – увидишь отца, отдай ему, пусть поглядит, а ежели, – говорит, – ему поглянется – пусть приезжает в Полдневскую, пока я не умер». У Маркушки водянка, сказывают. Весь распух, точно восковой.
Гордей Евстратыч осторожно развернул бумагу и вынул из нее угловатый кусок белого кварца с желтыми прожилками. В его трещинах и ноздринках блестело желтоватыми искорками вкрапленное в камень золото. В одном месте из белой массы вылезали два золотых усика, в другом несколько широких блесток были точно приклеены к гладкому камню. Повертывая кусок кварца перед лампой, Гордей Евстратыч рассмотрел в одном углублении, где желтела засохшая глина, целый самородок, походивший на небольшой боб; один край самородка был точно обгрызен. Да, это было золото, настоящее, червонное золото. Один самородок весил не меньше ползолотника… Гордей Евстратыч не мог оторвать глаз от заветного камешка, который точно приковал его к себе.
– Жилка… – в раздумье проговорил Гордей Евстратыч, чувствуя, как у него на лбу выступил холодный пот. – Видишь, Миша?
Михалко хотел взять в руки кусок кварца, но Гордей Евстратыч отстранил его и опять внимательно принялся рассматривать его перед огнем. Но теперь он уже любовался куском золотоносной руды, забыв совсем о Михалке, который выглядывал из-за его плеча.
– Так Маркушка-то зачем послал с тобой жилку-то? – спрашивал Гордей Евстратыч, приходя в себя. – За долг?
– Нет, про долг он ничего не говорил, а только наказывал, чтобы ты приехал в Полдневскую. «Надо, – говорит, – мне с Гордеем Евстратычем переговорить…» Крепко наказывал.
– А про жилку-то он тебе говорил или нет?
– Только всего и сказал: «Покажи, – говорит, – тятеньке скварец; ежели поглянется, пусть приезжает скорее…» А когда стал жилку в бумагу завертывать, прибавил еще: «Ох, хороша штучка!»
– Так он, Маркушка-то, сильно, говоришь, болен? – спрашивал Гордей Евстратыч, соображая совсем о другом.
– Да, совсем в худых душах…[1] Того гляди, душу Богу отдаст. Кашель его одолел. Старухи пользуют чем-то, да только легче все нет.
Гордей Евстратыч не слыхал последних слов, а схватившись за голову, что-то обдумывал про себя. Чтобы не выдать овладевшего им волнения, он сухо проговорил, завертывая кварц в бумагу:
– Все это вздор, Миша… Ступай, спи с Богом. Маркушка не нас первых с тобой обманывает на своем веку.
II
К девяти часам вечера все в доме были на своих местах, потому что утром нужно рано вставать. Татьяна Власьевна всех поднимает на ноги чем свет и только одной Арише позволяет понежиться в своей каморке лишний часок, потому что Ариша ночью возится с своим двухмесячным Степушкой.
Две комнаты, в которых жила Татьяна Власьевна, напоминали скорее монастырскую келью. Низкие потолки, оклеенные дешевыми обоями стены; выкрашенные синей краской дверные косяки и широкие лавки около стен; большой иконостас в углу с неугасимой лампадой; несколько окованных мороженым железом сундуков, сложенных по углам в пирамиду, – вот и все. На полу были постланы чистые половики, тканные из пестрой ветошки, на окнах белели кисейные занавески; около кровати, где спала Нюша, красовался старинный туалет с вычурной резьбой. В этих двух комнатах всегда пахло росным ладаном, горелым деревянным маслом, геранью, желтыми восковыми свечами, которые хранились в длинном деревянном ящике под иконостасом, и тем специфическим, благочестивым по преимуществу запахом, каким всегда пахнет от старых церковных книг в кожаных переплетах, с медными застежками и с закапанными воском, точно вылощенными, страницами. До старинных книг Татьяна Власьевна была великая охотница, хотя и считалась давно уже единоверкой; она никогда не упускала случая приобрести такую книгу, чтобы иметь возможность почитать ее наедине. Из этих книг составилась у ней маленькая библиотека, которая и хранилась в особом шкафике, висевшем на стене рядом с иконостасом. К старине Татьяна Власьевна питала почти болезненную слабость, все равно, в каких бы формах ни проявлялась эта старина: она хранила как зеницу ока все сарафаны, полученные ею в приданое, старинные меха, шубы, крытые излежавшейся материей, даже изъеденные молью лоскутки и разное тряпье.
После ужина Татьяна Власьевна молилась бесконечной старинной молитвой с лестовкой в руках. Поклоны откладывались по уставу, как выучили Татьяну Власьевну с детства раскольничьи «исправницы». Засыпая в своей кровати крепким молодым сном, Нюша каждый вечер наблюдала одну и ту же картину: в переднем углу, накрывшись большим темным шелковым платком, пущенным на спину в два конца, как носят все кержанки, бабушка молится целые часы напролет, откладываются широкие кресты, а по лестовке отсчитываются большие и малые поклоны. Глядя на высохшее желтое лицо бабушки, с строгими серыми глазами и прямым носом, Нюша часто думала о том, зачем бабушка так долго молится? Неужели у ней уж так много грехов, что и замолить нельзя? Девушка иногда сердилась на упрямую старуху, особенно когда та принималась ворчать на нее, но когда бабушка вставала на молитву – это была совсем другая женщина, вроде тех подвижниц, какие глядят строгими-строгими глазами с икон старинного письма. Конца бабушкиной молитвы Нюша не могла никогда дождаться и засыпала сладким сном под мерный шепот бесконечных канунов. На этот раз девушка особенно долго болтала, мешая старухе молиться.
– А ты, баушка, на меня не сердишься? – спрашивала Нюша впросонье.
– Отстань, – с фальшивой строгостью отвечала бабушка, путаясь в счете поклонов.
– В то воскресенье мы к Пятовым пойдем, баушка… Пойдем?.. Фене новое платье сшили, называется бордо, то есть это краска называется, баушка, бордо, а не материя и не мода. Понимаешь?
– Отстань!..
– Феня такая счастливая… – с подавленным вздохом проговорила Нюша, ворочаясь под ситцевым стеганым одеялом. – У ней столько одних шелковых платьев, и все по-модному… Только у нас у одних в Белоглинском заводе и остались сарафаны. Ходим как чучелы гороховые.
– Ты у меня помели еще, безголовая! О Господи! согрешила я, грешная, с этой девкой… Ох, ужо повесят тебя на том свете прямо за язык!
Молчание. Опять поклоны. Неугасимая лампада горит неровным пламенем, разливая кругом колеблющийся неверный свет. Желтые полосы света бродят по выбеленному потолку, на мгновение выхватывают из темноты угол старинной печи и, скользнув по полу, исчезают. Нюша долго наблюдает эту игру света, глаза у ней слипаются, начинает клонить ко сну, но она еще борется с ним, чтобы чуточку подразнить строгую бабушку.
– Баушка, Вукол-то Логиныч, сказывал даве Архип, зонтик себе в городе купил, – начинает Нюша, сладко позевывая. – А знаешь, сколько он за него заплатил?
– Отстань…
– Шелковый зонтик-то, баушка! А ручка точеная из слоновой кости. Только Архип сказывает, что выточена такая фигура, что девушкам и смотреть совестно.
– Тьфу!.. тьфу!.. – отплевывалась старуха. – Провались ты с своим Вуколом Логинычем… Нашла важное кушанье!.. Срамник он, Вукол-то Логиныч… Тьфу!..
– Баушка, да ведь он за зонтик-то заплатил семьдесят целковых… Ей-богу! Хоть сама спроси у Архипа.
– Как семьдесят?
– Право, баушка, семьдесят целковых за один зонтик…
– Ох, дурак, дурак этот Вукол… Никого у них в природе-то таких дураков не было. Ведь Шабалины-то по нашим местам завсегда в первых были, особливо дедушка-то, Логин. Богатые были, а чтобы таких глупостев… семьдесят целковых! Это на ассигнации-то считать, так чуть не триста рублевиков… Ох-хо-хо!.. Уж правду сказать, что дикая-то копеечка не улежит на месте.
Взволнованная семидесятирублевым зонтиком, Татьяна Власьевна позабыла свои кануны и принялась рассказывать поучительные истории о Шабалиных, Пятовых, Колобовых, Савиных и Пазухиных. Вон какой народ-то, все как на подбор! Таких с огнем поискать, и не в Белоглинском заводе. Крепкий народ, по всему Уралу знают белоглинских-то. Даже из Москвы выезжают за нашими невестами. Вот оно что значит природа-то… Теперь взять хоть Настю Шабалину – вышла за сарапульского купца; Груня Пятова в Москву вышла; у Савиных дочь была замужем за рыбинским купцом, да умерла, сердечная, третий годок пойдет с зимнего Николы. А Вукол Логиныч что? Он только свою природу срамит… Семьдесят рублей зонтик! Да и другие-то, глядя на него, особливо которые помоложе, – пошаливают. Вон у Пятовых сынок-то в Ирбитской что настряпал! Легкое место сказать… А всему заводчик Вукол, чтобы ему ни дна ни покрышки. В допрежние времена таких дураков и не бывало. Так, дурачили промежду себя, только чтобы зонтиков покупать в семьдесят целковых – нет, этого не бывало.
Последние фразы Татьяна Власьевна говорила в безвоздушное пространство, потому что Нюша, довольная своей выходкой с зонтиком, уже спала крепким сном. Ее красивая черноволосая головка, улыбавшаяся даже во сне, всегда была набита самыми земными мыслями, что особенно огорчало Татьяну Власьевну, тяготевшую своими помыслами к небу. Прочитав еще два кануна и перекрестив спавшую Нюшу, Татьяна Власьевна осмотрела, заперты ли окошки на болты, надела на себя пестрядевый пониток и вышла из комнаты. Не торопясь, вышла она и заперла за собой тяжелую дверь на висячий замок, притворила осторожно сени и заглянула на двор. Дождь перестал, по небу мутной грядой ползли низкие облака, в двух шагах трудно было что-нибудь отличить; под ногами булькала вода. Перекрестив дом и двор, старуха впотьмах побрела к воротам. Чтобы не упасть, ей приходилось нащупывать рукой бревенчатую стену. Отворив калитку, Татьяна Власьевна еще раз благословила спавший крепким сном весь дом, а потом заперла калитку на тяжелый висячий замок и осторожно принялась переходить через улицу. В одном месте она черпнула воды своим низким башмаком без каблука, в другом обеими ногами попала в грязь; ноги скоро были совсем мокры, а вода хлюпала в самых башмаках. Но старуха продолжала идти вперед; Старая Кедровская улица была ей знакома как свои пять пальцев, и она прошла бы по ней с завязанными глазами. Недаром она выжила в этой улице пятьдесят лет. Вот через дорогу дом Пазухиных; у них недавно крышу перекрывали, так под самыми окнами бревно оставили плотники, – как бы за него не запнуться. От дома Пазухиных вплоть до Гнилого переулка идет одно прясло, а повернешь в переулок – тут тебе сейчас домик о. Крискента. Славный домик, с палисадником и железной крышей; в третьем годе, когда у о. Крискента родился мертвенький младенец, дом опалубили и зеленой краской выкрасили. Татьяна Власьевна по Гнилому переулку вышла на большую заводскую площадь, посредине которой неправильной глыбой темнела выступавшая углами, вновь строившаяся единоверческая церковь. Когда старуха взяла площадь наискось, прямо к церкви, небо точно прояснилось, и она на мгновение увидела леса и переходы постройки. Где-то брехнула собака. Редкие капли дождя еще падали с неба, точно серые нависшие тучи отряхивались, роняя на землю последние остатки дождя.
– Слава тебе, Господи! – прошептала Татьяна Власьевна, когда переступила за черту постройки.
Помолившись на восток, она отыскала спрятанную под тесом носилку для кирпичей, надела ее себе на плечи, как делают каменщики, и отправилась с ней к правильным стопочкам кирпича, до которого добралась только ощупью. Сложив на свою носилку шесть кирпичей, Татьяна Власьевна надела ее себе на спину и, пошатываясь под этой тяжестью, начала с ней подниматься по лесам. Кругом было по-прежнему темно, но она хорошо знала дорогу, потому что вот уже третью неделю каждую ночь таскала по этим сходням кирпичи. Раньше ночи были светлые, и старуха знала каждую доску.
– Господи Исусе Христе, Сыне Божий… – шептала Татьяна Власьевна, поднимаясь по сходням кверху.
Доски были мокры от недавнего дождя, и нога скользила по ним; прикованные гвоздями поперечные дощечки, заменявшие ступеньки, кое-где оборвались с своих мест, и приходилось ощупывать ногой каждый шаг вперед, чтобы не слететь вниз вместе с своей тридцатифунтовой ношей. Но эта опасность и придавала силу работавшей старухе, потому что этим она выполняла данное обещание поработать Богу в поте лица. Давно было дано это обещание, еще в молодые годы, а исполнять это приходилось теперь, когда за спиной висели семьдесят лет, точно семьдесят тяжелых кирпичей. Да, много было прожито и пережито, и суровая старуха, сгибаясь под ношей, тащила за собой воспоминания, как преступник, который с мучительным чувством сосущей тоски вспоминает мельчайшие подробности сделанного преступления и в сотый раз терзает себя мыслью, что было бы, если бы он не сделал так-то и так-то. «Господи помилуй!.. Господи помилуй!» – шептала Татьяна Власьевна от сознания своей человеческой немощи. Но вот первая ноша поднята, вот и карниз стены, который выводят каменщики; старуха складывает свои кирпичи там, где завтра должна продолжаться кладка. Небо все еще обложено темными тучами, но в двух или трех местах уже пробиваются неясные светлые пятна, точно небо обтянуто серой материей, кое-где сильно проношенной, так что сквозь образовавшиеся редины пробивается свет. После двух подъемов на леса западная часть неба из серой превратилась в темно-синюю – сверкнула звездочка, пахнуло ветром, который торопливо гнал тяжелые тучи. Татьяна Власьевна присела в изнеможении на стопу принесенных кирпичей, голова у ней кружилась, ноги подкашивались, но она не чувствовала ни холодного ветра, глухо гудевшего в пустых стенах, ни своих мокрых ног, ни надсаженных плеч. Вон из осенней мглы выступают знакомые очертания окрестностей Белоглинского завода, вон Старая Кедровская улица, вон новенькая православная церковь, вон пруд и заводская фабрика… Выглянувший из-за туч месяц ярко осветил всю картину спавшего завода – ряды почерневших от недавнего дождя крыш, дымившиеся на фабрике трубы, домик о. Крискента, хоромины Шабалиных. Все это были немые свидетели долгой-долгой жизни, свидетели, которые не могли обличить словом, но по ним, как по отдельным ступенькам лестницы, неугомонная мысль переходила через длинный ряд пережитых годов. Все это было, и Татьяна Власьевна переживает свою жизнь во второй раз, переживает вот здесь, на верху постройки, откуда до неба, кажется, всего один шаг. Но именно этот шаг и пугает ее; она хватается за голову и со слезами на глазах начинает читать вырвавшийся из больной души согрешившего царя крик: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей!»
Но нужно носить кирпичи; до утра осталось часа три; Татьяна Власьевна спускается вниз и поднимается с тяжелой ношей почти машинально, как заведенная машина. Именно такой труд, доводящий старое тело почти до полного бесчувствия, – именно такой труд дает ее душе тот покой, какого она страстно домогается и не находит в обыкновенных христианских подвигах, как пост, молитва и бесконечные поклоны. Да, по мере того как тело становится лишней тягостью, на душе все светлее и светлее… Татьяна Власьевна видит себя пятнадцатилетней девушкой – она такая высокая, рослая, с румянцем во всю щеку. Все на нее заглядываются, даже старики. Ей никто не нравится, хотя она не прочь поглазеть на молодых парней. Ох-хо-хо!.. Никем-то никого не осталось из бывших молодцев, точно они уплыли один за другим. Да, никого не осталось в живых, только она одна, чтобы замаливать свои и чужие грехи. На шестнадцатом году Таню выдали замуж за вдовца-купца по фамилии Брагин; до венца они не видали друг друга. Ей крепко не понравился старый муж, но стерпела и помирилась с своей судьбой, благо вышла в достаточную семью на свое хозяйство, не знала свекровушкиной науки, а потом пошли детки-ангелочки… Все девичье глупое горе износилось само собой, и подумала Татьяна Власьевна, что так она и век свой изживет со старым нелюбимым мужем. Конечно, завидно иногда было, глядя на чужих молодых мужей, но уж кому какое счастье на роду написано. Венец – суд Божий, не нам его пересуживать. Так думала Татьяна Власьевна, да не так вышло. Уж прожила она замужем лет десять, своих детей растила, а тут и подвернись случай… И какой случай!.. Господи, прости меня, окаянную… Да, были и раньше случаи, засматривались на красавицу-молодку добрые молодцы, женатые и холостые, красивые были, только никому ничего не досталось: вздохнет Татьяна Власьевна, опустит глаза в землю – и только всего. Один особенно тосковал по ней и даже чуть рук на себя не наложил… Прости и его согрешения, Господи… А горе пришло нежданно-негаданно, как вор, когда Татьяна Власьевна совсем о том и не думала. Приехал в Белоглинский завод управитель Пятов, отец Нила Поликарпыча. Ну, познакомился со всеми, стал бывать. И из себя-то человек – глядеть не на кого: тощий, больной, все кашлял, да еще женатый, и детишек полный дом. Познакомился этот Пятов с мужем Татьяны Власьевны так, что и водой не разольешь: полюбились они друг другу. На именинах, по праздникам друг к дружке в гости всегда ездили. Жена у Пятова была тоже славная такая, хоть и постарше много Татьяны Власьевны. Вот однажды приехал Пятов на Масленице в гости к Брагиным, хозяина не случилось дома, и к гостю вышла сама Татьяна Власьевна. Посидели, поговорили. А Пятов нет-нет да и взглянет на нее, таково ласково да приветливо взглянет; веселый он был человек часом, когда в компании…
– Что это ты на меня так глядишь, Поликарп Семеныч? – спросила Татьяна Власьевна. – Точно сказать что-то хочешь…
– Хочу сказать, Татьяна Власьевна, давно хочу… – ответил Пятов и как будто из себя немного замешался.
– Ну так говори…
– А вот что я скажу тебе, Татьяна Власьевна: погубила ты меня, иссушила!.. Господь тебе судья!..
Тихо таково вымолвил последнее слово, а сам все на хозяйку смотрит и смеется. У Татьяны Власьевны от этих слов мороз по коже пошел, она хотела убежать, крикнуть, но он все смотрел на нее и улыбался, а у самого так слезы и сыплются по лицу.
– Гоните меня, Татьяна Власьевна… – тихо заговорил Пятов, не вытирая слез. – Гоните…
От этих слов у Татьяны Власьевны точно что оборвалось в груди: и жаль ей стало Поликарпа Семеныча, и как-то страшно, точно она боялась самой себя. А Пятов все смотрит на нее… Красивая она была тогда да молодая, – кровь с молоком бабенка! А в своем синем сарафане и в кисейной рубашке с узкими рукавами она была просто красавица писаная. Помутилось в глазах Пятова от этой красавицы, от ясных ласковых очей, от соболиных бровей, от белой лебяжьей груди, – бросился он к Татьяне Власьевне и обнял ее, а сам плачет, плачет и целует руки, шею, лицо, плечи целует. Онемела Татьяна Власьевна, жаром и холодом ее обдало, и сама она тихо-тихо поцеловала Поликарпа Семеныча, всего один раз поцеловала, а сама стоит пред ним, как виноватая.
– Насмеялся ты надо мной, Поликарп Семеныч, – заговорила она, когда немного пришла в себя. – Опозорил мою головушку… Как я теперь на мужа буду глядеть?
– Голубушка, Татьяна Власьевна… Мой грех – мой ответ. Я отвечу за тебя и перед мужем, и перед людьми, и перед Богом, только не дай погибнуть христианской душе… Прогонишь меня – один мне конец. Пересушила ты меня, злая моя разлучница… Прости меня, Татьяна Власьевна, да прикажи мне уйти, а своей воли у меня нет. Что скажешь мне, то и буду делать.
– Уходи, Поликарп Семеныч… Бог тебе судья!..
Побелел он от этих слов, затрясся.
– Прощай, чужая жена – моя погибелюшка, – проговорил он, поклонился низко-низко и пошел к дверям.
Опять сделалось страшно Татьяне Власьевне, страшнее давешнего, а он идет к дверям и не оглядывается… Подкосились резвые ноги у красавицы-погибелюшки, и язык сам сказал:
– Поликарп Семеныч!.. воротись!
Ох, вышел грех, большой грех… – пожалела Татьяна Власьевна грешного человека, Поликарпа Семеныча, и погубила свою голову, навсегда погубила. Сделалось с нею страшное, небывалое… Сама она теперь не могла жить без Поликарпа Семеныча, без его грешной ласки, точно кто ее привязал к нему. Позабыла и мужа, и деток, и свою спобедную головушку для одного ласкового слова, для приворотного злого взгляда.
Так они и зажили, а на мужа точно слепота какая нашла: души не чает в Поликарпе Семеныче; а Поликарп Семеныч, когда Татьяна Власьевна растужится да расплачется, все одно приговаривает: «Милушка моя, не согрешишь – не спасешься, а было бы после в чем каяться!» Никогда не любившая своего старого мужа, за которого вышла по родительскому приказанию, Татьяна Власьевна теперь отдалась новому чувству со всем жаром проснувшейся первой любви. В качестве запретного плода эта любовь удесятерила прелесть тайных наслаждений, и каждый украденный у судьбы и людей час счастья являлся настоящим раем. Плодом этой преступной связи и был Зотушка, нисколько не походивший на своего старшего брата Гордея и на сестру Алену.
Муж Татьяны Власьевны промышлял на Белоглинском заводе торговлей «панским», то есть ситцами, сукном и т. д. Дело он вел хорошо, и трудовое богатство наливалось в дом как вода. А тут старший сын начал подрастать и отцу в помощь пошел: все же кошку в лавку не посадишь или не пошлешь куда-нибудь. Из Гордея вырабатывался не по летам серьезный мальчик, который в тринадцать лет мог править дело за большого. Все шло как по маслу. Брагины начали подниматься в гору и прослыли за больших тысячников, но в один год все это благополучие чуть не пошло прахом: сам Брагин простудился и умер, оставив Татьяну Власьевну с тремя детьми на руках. Этот неожиданный удар совсем ошеломил молодую вдову как Божеское наказание за ее грехи. Постылый старый муж, который умер с спокойной совестью за свое семейное счастье, теперь встал пред ней немым неотступным укором. После девятин Татьяна Власьевна пригласила к себе в дом Поликарпа Семеныча и сказала ему, опустив глаза:
– Ну, Поликарп Семеныч, теперь уже прощай… Будет нам грешить. Если не умела по своему малодушию при муже жить, так надо теперь доучиваться одной.
– Как же это, Таня…
– Я тебе не Таня больше, а Татьяна Власьевна. Так и знай. Мое слово будет свято, а ты как знаешь… Надо грех замаливать, Поликарп Семеныч. Прощай, голубчик… не поминай лихом…
Голос у Татьяны Власьевны дрогнул, в глазах все смешалось, но она пересилила себя и не поддалась на «прелестные речи» Поликарпа Семеновича, который рвал на себе волосы и божился на чем свет стоит, что сейчас же наложит на себя руки.
– А я буду молиться за тебя Богу, – уже спокойно ответила Татьяна Власьевна, точно она замерла на одной мысли.
Этим все и кончилось.
Татьяна Власьевна как ножом обрезала свою старую жизнь и зажила по-новому, «честной матерной вдовой», крепко соблюдая взятую на себя задачу. В это время ей всего было еще тридцать лет, и она, как одна из первых красавиц, могла выйти замуж во второй раз; но мысли Татьяны Власьевны тяготели к другому идеалу – ей хотелось искупить грех юности настоящим подвигом, а прежде всего поднять детей на ноги. Время бежало быстро, дети выросли. Старший, Гордей, был вылитый отец – строгий, обстоятельный, деляга; второй, Зотей, являлся полной противоположностью, и как Татьяна Власьевна ни строжила его, ни началила – из Зотея ничего не вышло, а под конец он начал крепко «зашибать водкой», так что пришлось на него совсем махнуть рукой. Татьяна Власьевна должна была примириться с этим как с Божеским наказанием за свой грех и утешилась старшим сыном, которого скоро женила. Внучата на время заставили Татьяну Власьевну отложить мысль о подвиге, тем более что жена Гордея умерла рано и ей пришлось самой воспитывать внучат.
Вот те мысли, которые мучительно повертывались клубком в голове Татьяны Власьевны, когда она семидесятилетней старухой таскала кирпичи на строившуюся церковь. Этот подвиг был только приготовлением к более трудному делу, о котором Татьяна Власьевна думала в течение последних сорока лет, это – путешествие в Иерусалим и по другим святым местам. Теперь задерживала одна Нюша, которая, того гляди, выскочит замуж, – благо и женишок есть на примете.
«Вот бы только Нюшу пристроить, – думала Татьяна Власьевна, поднимаясь в десятый раз к кирпичам. – Алексей у Пазухиных парень хороший, смиренный, да и природа пазухинская по здешним местам не последняя. Отец-то, Сила Андроныч, вон какой парень, под стать как раз нашему-то Гордею Евстратычу».
Старуха проработала до четырех часов, когда на фабрике отдали первый свисток на работу. Она набожно помолилась в последний раз и поплелась домой, разбитая телом, но бодрая и точно просветленная духом. Кругом было все темно, но в избах уже мелькали яркие огоньки: это топились печки у заботливых хозяев. Вон у о. Крискента тоже искры сыплются из трубы, – значит, стряпка Аксинья рано управляется. У Пазухиных темно: у них подолгу спят. Подходя к своему дому, Татьяна Власьевна заметила в окне горницы Гордея Евстратыча огонь.
«Уж не болен ли? – подумала старуха и торопливо зашагала через улицу. – Куда ему эку рань подниматься?.. Может, надо малиной или мятой его напоить».
Гордей Евстратыч действительно не спал, но только не по нездоровью, а от одолевших его мыслей, которые колесом вертелись кругом привезенной Михалком жилки. Сначала он пытался заснуть и лежал с закрытыми глазами часа два, но все было напрасно – сон бежал от Гордея Евстратыча, оставляя в душе мучительно сосавшую пустоту. Зачем старатель Маркушка желает видеть его и зачем он послал с Михалком эту проклятую жилку? А жилка богатейшая… Может быть, Маркушка нашел эту жилку и хочет продать ему… Все может быть, только не нужно упускать случая. Мало ли бывало таких случаев. Эти старатели все знают, а Маркушка совсем прожженный.
Занятый этими мыслями, он не обратил внимания даже на то, как осторожно отворилась калитка и затем заскрипела дверь в сенях.
– Ты что это, Гордей? – спрашивала Татьяна Власьевна, появляясь в дверях его комнаты. – Уж не попритчилась ли какая немочь?
– Нет, мамынька… Так, не поспалось что-то, клопы, надо полагать. Скажи-ка стряпке насчет самоварчика, а потом мне надо будет ехать в Полдневскую.
– Да ведь Михалко вчера в Полдневскую гонял?
– Гонял, да без толку… Самому надо съездить.
III
Напившись чаю, Гордей Евстратыч сам сходил во двор посмотреть, отдохнула ли лошадь после вчерашней езды, и велел Зотушке седлать ее.
– Я сам поеду, – прибавил Гордей Евстратыч, похлопывая гнедка по шее.
Последнее настолько удивило Зотушку, что он даже раскрыл рот от удивления. Гордей Евстратыч так редко выезжал из дома – раз или два в год, что составляло целое событие, а тут вдруг точно с печи упал: «Седлай, сам поеду…» Верхом Гордей Евстратыч не ездил лет десять, а тут вдруг в этакую распутицу, да еще на изморенной лошади, которая еще со вчерашнего не успела отдышаться. Действительно, Гордей Евстратыч был замечательный домосед, и ехать куда-нибудь для него было истинным наказанием, притом он ездил только зимой по удобному санному пути – в Ирбит на ярмарку и в Верхотурье, в гости к сестре Алене. Сборов на такую поездку хватало на целую неделю, а тут на-кася, свернулся в час места… Все эти мысли промелькнули в маленькой головке Зотушки во мгновение ока, и он перебирал их все время, пока седлал гнедка. Куда мог ехать Гордей Евстратыч в такую непогодь?
– Значит, какое-нибудь дело завелось, – решил наконец Зотушка с глубокомысленным видом, когда лошадь была готова.
Татьяна Власьевна была удивлена этой поездкой не менее Зотушки и ждала, что Гордей Евстратыч сам ей скажет, зачем едет в Полдневскую, но он ничего не говорил.
– Зачем в Полдневскую-то наклался? – спросила старуха, когда Гордей Евстратыч начал прощаться.
– Дельце есть маленькое… После, мамынька, все обскажу. Благослови в добрый час съездить.
– Ну, Бог тебя благословит, милушка. А послал бы ты лучше Архипа, чем самому трястись по этакой грязище.
– Нельзя, мамынька. Стороной можно проехать… Михалко сегодня в лавке будет сидеть, а Архипа пошли к Пятовым, должок там за ними был. Надо бы книгу еще подсчитать…
– Подождите с книгой-то, Гордей Евстратыч. У нас теперь своя работа стоит. Нюше к зиме шубку ношобную справляем…
– Обождем, ничего. Да пошли еще, мамынька, Зотушку к Шабалиным.
– Ох, нельзя, милушка! Ведь только он едва успел выправиться, а как попадет к Шабалиным – непременно Вукол Логиныч его водкой поить станет. Уж это сколько разов бывало, и не пересчитаешь!.. Лучше я Архипа спосылаю… По пути и забежит, от Пятовых-то.
– Как знаешь.
Гордей Евстратыч сел в мягкое пастушье седло и, перекрестившись, выехал за ворота. Утро было светлое; в воздухе чувствовалась осенняя крепкая свежесть, которая заставляет барина застегиваться на все пуговицы, а мужика – туже подпоясываться. Гордей Евстратыч поверх толстого драпового пальто надел татарский азям, перехваченный гарусной опояской, и теперь сидел в седле молодцом. Выглянувшая в окно Нюша невольно полюбовалась, как тятенька ехал по улице.
Нужно было ехать по Старой Кедровской улице, но Гордей Евстратыч повернул лошадь за угол и поехал по Стекольной. Он не хотел, чтобы Пазухины видели его. Точно так же объехал он рынок, чтобы не встретиться с кем-нибудь из своих торговцев. Только на плотине он попал как кур в ощип: прямо к нему навстречу катился в лакированных дрожках сам Вукол Логиныч.
«Ох, нелегкая бы тебя взяла!» – подумал про себя Гордей Евстратыч, приподнимая свою суконную фуражку с захватанным козырьком.
Серая в яблоках громадная лошадь, с невероятно выгнутой шеей и с хвостом трубкой, торжественно подкатила Шабалина, который сидел на дрожках настоящим чертом: в мохнатом дипломате, в какой-то шапочке, сдвинутой на затылок, и с семидесятирублевым зонтиком в руках. Скуластое, красное лицо Вукола Логиныча, с узкими хитрыми глазами и с мясистым носом, все лоснилось от жира, а когда он улыбнулся, из-за толстых губ показались два ряда гнилых зубов.
– Куда Бог несет, Гордей Евстратыч? – издали кричал Шабалин, высоко поднимая свою круглую шапочку. – Я не знал, что ты таким молодцом умеешь верхом ездить… Уж не на охоту ли собрался?
– Какая у нас охота, Вукол Логиныч… – ответил Брагин недовольным тоном: он обиделся глупым вопросом Шабалина, который всегда смелет что-нибудь самое несуразное.
Эта встреча очень не понравилась Гордею Евстратычу, и он, поднимаясь с плотины в гору, на которой красовалась пятиглавая православная церковь, даже подумал, уж не воротиться ли назад. Оглянувшись, Брагин с сожалением посмотрел «за реку», то есть по ту сторону пруда, где тянулась Старая Кедровская улица. С горки отлично можно было рассмотреть старый брагинский дом, который стоял на углу; из одной трубы винтом поднимался синий дым, значит старуха затеяла какую-нибудь стряпню. «На охоту поехал… – припомнил Брагин со злостью слова Шабалина. – Тьфу ты, греховодник… Нашел охотника!..» С другой стороны, Брагину показалось, что действительно у него сегодня такой глупый вид, точно он «ангела потерял», как говорила Татьяна Власьевна про ротозеев. Приосанившись в седле и подтянув поводья, Брагин пустил своего гнедка ходой, чтобы скорее выехать за «жило». Ему пришлось проехать мимо шабалинского дома, и он невольно полюбовался на него. Дом стоял на горе, над прудом, и ярко белел своими пятью колоннами. Эти колонны особенно нравились Брагину, потому что придавали дому настоящий городской вид, как рисуют на картинках. Зеркальные стекла в окнах, золоченая решетка у балкона между колоннами, мраморные вазы на воротах, усыпанный мелким песочком двор – все было хорошо, форменно, как говорил Зотушка про шабалинский дом.
«А все золото поднимает… – подумал невольно Брагин, щупая лежавшую за пазухой жилку. – Вуколу-то Логинычу красная цена расколотый грош, да и того напросишься, а вон какую хоромину наладил! Кабы этакое богачество да к настоящим рукам… Сказывают, в одно нонешнее лето заробил он на золоте-то тысяч семьдесят… Вот лошадь-то какая – зверь зверем».
Белоглинский завод, совсем затерявшийся в глуши Уральских гор, принадлежал к самым старинным уральским поселениям, что можно было даже заметить по его наружному виду, то есть по почерневшим старинным домам с высокими коньками и особенно по старой заводской фабрике, поставленной еще в 1736 году. Место под завод было выбрано самое глухое, настоящий медвежий угол: горы, болота, леса; до официального основания заводского действия здесь, с разным лесным зверьем, хоронились одни раскольники, уходившие в уральскую глушь от петровских новшеств. Между прочим, свили они себе гнездо и на берегу глухой горной речонки Белой Глинки, пока их не отыскали подьячие и заводские приказчики. Река была перехвачена плотиной, разлился пруд, и задымилась фабрика. Около пруда рассажались заводские домики, вытянувшись «по планту» в широкие правильные улицы. Теперь Белоглинский завод представлял собой такую картину: во-первых, «заречная» низкая сторона, где, собственно, находилось первоначальное раскольничье поселенье и где теперь проходила Старая Кедровская улица; дома здесь старинные, и люди в них старинные – отчасти раскольники, отчасти единоверцы; во-вторых, «нагорная» сторона, где красовалась православная церковь и хоромины Шабалина. В нагорной жили большею частью православные, позднейшее этнографическое население. Это деление на «нагорную» и «заречную» стороны продолжалось и ниже заводской фабрики, где Белая Глинка разливалась в низких глинистых берегах. В этой части завода стоял деревянный господский дом с железной крышей, в котором жили Пятовы, и несколько домиков «на городскую руку», выстроенных заводскими служащими. В заречной находилась единственная заводская площадь, в одном конце которой сбились в кучу деревянные лавки, а в другом строилась единоверческая церковь. Старинные семьи, вроде Колобовых, Савиных, Пазухиных и др., все жили в заречной, в крепких старинных домах, в которых на вышках еще сохранились рамы со слюдой вместо стекол. Шабалины жили тоже там, пока Вукол Логиныч не облюбовал себе местечко на нагорной стороне. Это ренегатство очень огорчило всех блюстителей старины вроде Татьяны Власьевны, но Вукол Логиныч был отпетая башка – и взять с него было нечего.
В солнечный день вид на завод представлял собой довольно пеструю картину и, пожалуй, красивую, если бы не теснившийся со всех сторон лес и подымавшиеся кругом лесистые горы, придававшие всей картине неприветливый траурный характер. Впрочем, так казалось только посторонним людям, а белоглинцы, конечно, не могли даже себе представить чего-нибудь лучше и красивее Белоглинского завода. К таким людям принадлежал и Гордей Брагин, бывавший не только в Ирбите и в Верхотурье, но и в Нижнем.
Дорога в Полдневскую походила на те прямоезжие дороги, о которых поется в былинах: горы, болота, гати и зыбуны точно были нарочно нагромождены, чтобы отбить у всякого охоту проехаться по этой дороге во второй раз, особенно осенью, когда лошадь заступает в грязь по колено, вымогаясь из последних сил. Верхом на лошади эти двадцать верст едва можно было проехать в четыре часа. С непривычки к верховой езде Гордей Евстратыч на половине пути почувствовал, как у него отнимается поясница и ноги в стременах начинают деревенеть. А впереди косогор за косогором, гора за горой… Лес стоит кругом темный, настоящий дремучий ельник, которому, кажется, не было конца-краю. Около самой дороги, где лес был немного прочищен, лепились кусты жимолости и малины да молоденькие березки, точно заблудившиеся в этой лесной трущобе; теперь листья уже давно пожелтели и шелестели мертвым шепотом, когда по ним пробегал осенний порывистый ветер. Земля была покрыта шуршавшей под ногой лиственной шелухой, и только кое-где из-под нее пробивались зеленые кустики сохранившейся еще травы, да на опушке леса ярко блестела горькая осина, точно обрызганная золотом и кровью.
Верст не полагалось, и версты отсчитывались по разным приметам: от Белоглинского до Пугиной горы – восемь верст, две версты подался – ключик из косогора бежит, значит – половина дороги, а там через пять верст гарь на левой руке. Брагин почти все время ехал шагом, раздумывая бесконечную дорожную думу, которая блуждала по своим горам и косогорам, тонула в грязи и пробиралась по узким тропинкам. То он видел пред собой Шабалина в его круглой шапочке и начинал ему завидовать; то припоминал разные случаи быстрого обогащения «через это самое золото», как говорил Зотушка; то принимался «сумлеваться», зачем он тащится такую даль; то строил те воздушные замки, без которых не обходятся даже самые прозаические натуры. Что он такое теперь, ежели разобрать? Купец, который торгует панским товаром, – и только. Сыт, одет, ну, копеечки про черный день отложены, а чтобы супротив других из купечества, как в Ирбите, например, собираются, ему, Брагину, далеко не вплоть. А между тем чем он хуже других? Недалеко ходить, хоть взять того же Вукола Логиныча… А с чего человек жить пошел? От пустяков. От такой же жилки, какую он сейчас везет у себя за пазухой. Да… В воображении Брагина уже рисовалась глубокая шахта, из которой бадьями поднимают золотоносный кварц, толкут его и промывают. В результате получилось чистое золото, которое превращается в громадный дом с колоннами, в серых, с яблоками, лошадей, в лакированные дрожки, в дорогое платье и сладкое привольное житье. Первым делом он, конечно, пожертвует в церковь, тайно пожертвует… То-то удивится о. Крискент, когда из кружки добудет несколько радужных. Потом старухе на бедных да на увечных, потом… Все будут ухаживать за Гордеем Евстратычем, как теперь ухаживают за Шабалиным или за другими богатыми золотопромышленниками.
«Прежде гремели на Панютинских заводах золотопромышленники Сиговы да Кутневы», – раздумывал Гордей Евстратыч, припоминая историю уральских богачей.
Сиговым принес жилку один вогул, а Кутневы сами нашли золото, хотя и не совсем чисто. Сказывали, что Кутневы оттягали золотую россыпь у какого-то бедного старателя, который не поживился ничем от своей находки, кроме того разве, что высидел в остроге полгода за свои жалобы на разбогатевших Кутневых. Да, много неправды с этим золотом… Вон про Шабалина рассказывают какие штуки: народ морит работой на своих приисках, не рассчитывает, а попробуй судиться с ним, кому угодно рот заткнет. Мировой судья Липачек ему первый друг и приятель, становой Плинтусов даже спит с ним на одной постели… От этого богатства просто один грех, точно люди всякого «ума решаются». Но ведь это другие, а уж он, Гордей Евстратыч, никогда бы так не сделал. Да… Вон Нюша на возрасте – ее надо пристраивать за хорошего человека, вон сыновей надо отделять, пока не разорились. Теперь, конечно, все есть, всего в меру, а если разделиться – и пойдут кругом недостатки.
Приободрившаяся лошадь дала знать, что скоро и Полдневская. В течение четырехчасового пути Брагин не встретил ни одной живой души и теперь рад был добраться до места, где бы можно было хоть чаю напиться. Поднявшись на последний косогор, он с удовольствием взглянул на Полдневскую, совсем почти спрятавшуюся на самом дне глубокой горной котловины. Издали едва можно было рассмотреть несколько крыш да две-три избушки, торчавшие особняком, точно они отползли от деревни.
«Настоящее воронье гнездо эта Полдневская», – невольно подумал Брагин, привставая в стременах.
Полдневская пользовалась действительно не особенно завидной репутацией как притон приисковых рабочих. Не проходило года, чтобы в Полдневской не случилось какой-нибудь оказии: то мертвое тело объявится, то крупное воровство, то сбыт краденого золота, то беглые начнут пошаливать. Становой Плинтусов говорил прямо, что Полдневская для него как сухая мозоль – шагу не дает ступить спокойно. Чем существовали обитатели этой деревушки – трудно сказать, и единственным мотивом, могшим несколько оправдать их существование, служили разбросанные около Полдневской прииски, но дело в том, что полдневские не любили работать, предпочитая всему на свете свою свободу. А между тем полдневские мужики не только существовали, но исправно каждое воскресенье являлись в Белоглинский завод, где менялись лошадьми, пьянствовали по кабакам и даже кое-что покупали на рынке, конечно большею частью в долг. К таким птицам небесным принадлежал и старатель Маркушка, давнишний должник Брагина.
Спустившись по глинистому косогору, Гордей Евстратыч вброд переехал мутную речонку Полуденку и, проехав с полверсты мелким осинником, очутился в центре Полдневской, которая состояла всего-навсего из какого-нибудь десятка покосившихся и гнилых изб, поставленных на небольшой поляне в самом живописном беспорядке. Навстречу Брагину выбежало несколько пестрых собак с стоячими ушами, которые набросились на него с таким оглушительным лаем, точно стерегли какие несметные сокровища. В одном окошке мелькнуло женское испитое лицо и быстро скрылось.
– В которой избе живет Маркушка-старатель? – спросил Гордей Евстратыч, постукивая черенком нагайки в окно ближайшей избы.
В окне показалась бородатая голова в шапке; два тусклых глаза безучастно взглянули на Брагина и остановились. Не выпуская изо рта дымившейся трубки с медной цепочкой, голова безмолвно показала глазами направо, где стояла совсем вросшая в землю избенка, точно старый гриб, на который наступили ногой.
– Ну народец!.. – проворчал Гордей Евстратыч, слезая с лошади у Маркушкиной избы.
Архитектурной особенностью полдневских изб было то, что они совсем обходились без ворот, дворов и надворных построек. Ход в избу шел прямо с улицы. Только в виде роскоши кое-где лепились сколоченные на живую нитку крылечки. Где держали полдневцы лошадей – составляло загадку, как и то, чем они кормили этих лошадей и чем они топили свои избы. Гордей Евстратыч окинул строгим хозяйским взглядом всю деревню и нигде не нашел ничего похожего на конюшни или поленницу дров. У некоторых изб валялось по бревну, от которых бабы по утрам отгрызали на подтопку дров, – вот и все. «Ну народец! – еще раз подумал Брагин. – В лесу живут, и ни одного полена не отрубят мужики…»
– Господи Исусе Христе… – помолитвовался Гордей Евстратыч, отворяя низкую дверь, которая вела куда-то в яму.
– Аминь… – отдал из комнаты чей-то хриплый голос. – Это ты, Гордей Евстратыч?
– Я, Маркушко…
Послышалось тяжелое хрипенье, затем удушливый кашель. Гордей Евстратыч кое-как огляделся кругом: было темно, как в трубе, потому что изба у Маркушки была черная, то есть без трубы, с одной каменкой вместо печи. Вернее такую избу назвать балаганом, какие иногда ставятся охотниками в глухих лесных местах на всякий случай. На каменке тлело суковатое полено, наполнявшее избу удушливым едким дымом. Сам хозяин лежал у стены, на деревянных подмостках, прикрытый сверху лоскутами овчин, когда-то составлявших тулуп или полушубок. На гостя из-под кучи этой рвани глядело восковое отекшее лицо с мутным остановившимся взглядом, в котором едва теплилась последняя искра сознания. Мочального цвета бороденка, рыжие щетинистые усы и прилипшие к широкому лбу русые волосы дополняли портрет старателя Маркушки.
– Ну что, плохо тебе? – спрашивал Брагин, напрасно отыскивая глазами что-нибудь, на что можно было бы сесть.
Куча тряпья зашевелилась, раздался тот же кашель.
– Надо… надо… больно мне тебя надо, Гордей Евстратыч, – отозвалась голова Маркушки. – Думал, не доживу… спасибо после скажешь Маркушке… Ох, смерть моя пришла, Гордей Евстратыч!
– Надо за попом послать?
– Где уж… нет… вот ужо я тебе все обскажу…
Гордей Евстратыч подкатил к дымившейся каменке какой-то чурбан и приготовился выслушать предсмертную исповедь старателя Маркушки, самого отчаянного из всех обывателей Полдневской.
– Видел жилку-то? – глухо спросил Маркушка, удерживая душивший его кашель.
– Видел…
– Ведь пятнадцать лет ее берег, Гордей Евстратыч… да… пуще глазу своего берег… Ну, да что об этом толковать!.. Вот что я тебе скажу… Человека я порешил… штегеря, давно это было… Вот он, штегерь-то, и стоит теперь над моей душой… да… думал отмолить, а тут смерть пришла… ну, я тебя и вспомнил… Видел жилку? Но богачество… озолочу тебя, только по гроб своей жизни отмаливай мой грех… и старуху свою заставь… в скиты посылай…
Опять приступ отчаянного кашля, точно Маркушка откашливал всю душу вместе с своими грехами.
– Так ты поклянешься мне, Гордей Евстратыч, и я тебе жилку укажу и научу, что с ней делать… Мне только и надо, чтобы мою душу отмолить.
– А ежели ты обманешь, Маркушка?
– Нет, Гордей Евстратыч… Ох, тошнехонько!.. нет, не обману… Не для тебя соблюдал местечко, а для себя… Ну, так поклянешься?
Брагин на минуту задумался. Его брало сомнение, притом он не ожидал именно такого оборота дела. С другой стороны, в этой клятве ничего худого нет.
– Ладно, поклянусь…
– Исусовой молитвой поклянись!
– Нет, Исусовой молитвой не буду, а так поклянусь… Мы за всех обязаны молиться, а если ты мне добро сделаешь – так о тебе особая и молитва.
– Думал я про Шабалина… – заговорил Маркушка после тяжелой паузы. – Он бы икону снял со стены… да я-то ему, кровопивцу, не поверю… тоже вот и другим… А тебя я давно знаю, Гордей Евстратыч… особливо твою мамыньку, Татьяну Власьевну… ее-то молитва доходнее к Богу… да. Так ты не хочешь Исусовой молитвой себя обязать?
– Нет, Маркушка, это грешно… Хоть у кого спроси.
Больной недоверчиво посмотрел на своего собеседника, потому что все его богословские познания ограничились одной Исусовой молитвой, запавшей в эту грешную душу, как падает зерно на каменную почву. После некоторых препирательств Маркушка согласился на простую клятву и жадными глазами смотрел на Гордея Евстратыча, который, подняв кверху два пальца, «обещевался» перед Богом отмаливать все грехи раба Божия Марка вплоть до своей кончины и далее, если у него останутся в живых дети. Восковое лицо покрылось пятнами пота от напряженного внимания, и он долго лежал с закрытыми глазами, прежде чем получил возможность говорить.
– Ну, слушай, Гордей Евстратыч… Робили мы, пятнадцать годов тому назад, у купцов Девяткиных… шахту били… много они денег просадили на нее… я ходил у них за штегеря… на восемнадцатом аршине напали на жилку… а я сказал, что дальше незачем рыть… От всех скрыл… ну, поверили, шахту и бросили… Из нее я тебе жилку с Михалком послал…
– Отчего же ты сам не разрабатывал эту шахту, ведь Девяткины давно вымерли?
– Нельзя было… по малости ковырял, а чтобы настоящим делом – сила не брала, Гордей Евстратыч. Нашему брату несподручное дело с такой жилкой возиться… надо капитал… с начальством надо ладить… А кто мне поверит? Продать не хотелось: я по малости все-таки выковыривал из-под нее, а что мне дали бы… пустяк… Шабалин обещал двадцать целковых.
– Да ведь и мне настоящую жилку не дадут разрабатывать? – заметил Брагин, слушавший эту исповедь с побледневшим лицом.
– Не надо объявлять настоящей жилки, Гордей Евстратыч… а как Шабалин делает… россыпью объяви… а в кварце, мол, золото попадается только гнездами… это можно… на это и закона нет… уж я это знаю… ну надо замазать рты левизорам да инженерам… под Шабалина подражай…
– Хорошо, там увидим… Ты расскажи, где жилку-то искать?
– А вот как ее искать… Ступай по нашей Полуденке кверху… верстах в пяти в нее падает речка Смородинка… по Смородинке подашься тоже кверху, а в самой верхотине стоит гора Заразная… от Смородинки возьми на Заразную… тут пойдет увал… два кедра увидишь… тут тебе и жилка…
Гордей Евстратыч был бледен как полотно; он смотрел на отекшее лицо Маркушки страшными, дикими глазами, выжидая, не вырвется ли еще какое-нибудь признание из этих посиневших и растрескавшихся губ. Но Маркушка умолк и лежал с закрытыми глазами как мертвый, только тряпье на подмостках продолжало с хрипом подниматься неровными взмахами, точно под ним судорожно билась ослабевшими крыльями смертельно раненная птица.
– Все? – спрашивал Брагин, наклоняясь к самому изголовью больного.
– Все… ах, еще вот что, Гордей Евстратыч… угости, ради Христа, водочкой наших-то… пусть погуляют…
Через полчаса в яме Маркушки собралось почти все население Полдневской, состоявшее из трех мужиков, двух баб и нескольких ребятишек. Знакомый уже нам мужик в шапке, потом высокий рыжий детина с оловянными глазами, потом кривой на левый глаз и хромой на правую ногу низенький мужичонка; остальные представители мужского населения находились в отсутствии. Две женщины, одетые в полинялые ситцевые сарафаны, походили на те монеты, которые вследствие долгого употребления утратили всякие следы своего чекана. Испитые, желтые, с одичавшим взглядом физиономии были украшены одними синяками; у одной такой синяк сидел под глазом, у другой на виске. Очевидно, эти украшения были сделаны опытной рукой, не знавшей промаха. Вообще физиономии обеих женщин были покрыты массой белых царапин и шрамами самой причудливой формы, точно они были татуированы или расписаны какими-то не разгаданными еще наукой иероглифами.
– Славные ребята… – умилился Маркушка, любуясь собравшейся компанией. – Ты, Гордей Евстратыч, когда угости их водочкой… пусть не поминают лихом Маркушку… Так ведь, Окся?
Окся застенчиво посмотрела на свои громадные красные руки и хрипло проговорила:
– Тебе бы выпить самому-то, Маркушка… Может, облегчит…
Маркушка болезненно мотнул головой на эту ласку… Ведь эта шельма Окся всегда была настоящим яблоком раздора для полдневских старателей, и из-за нее происходили самые ожесточенные побоища: Маркушку тузил за Оксю и рыжий детина с оловянными глазами, и молчаливый мужик в шапке, и хромой мужичонка, точно так же как и он, Маркушка, тузил их всех при удобном случае, а все они колотили Оксю за ее изменчивое сердце и неискоренимую страсть к красным платкам и козловым ботинкам. Эта коварная женщина была замечательно непостоянное существо и как-то всегда была на стороне того, кому везло счастье. Теперь она от души жалела умиравшего Маркушку, потому что он уносил с собой в могилу не одни ботинки…
– Как же это вы живете здесь, – удивлялся Брагин, угощая собравшуюся компанию, – хлеба у вас нет, дров нет, а водка всегда есть…
– Нам невозможно без водки… – отрезал кривой мужичонко. – Так ведь, Кайло? Вот и Пестерь то же самое скажет…
Кайло – рыжий детина с оловянными глазами – и Пестерь – мужик в шапке – в знак своего согласия только поникли своими головами. Окся поощрительно улыбнулась оратору и толкнула локтем другую женщину, которая была известна на приисках под именем Лапухи, сокращенное от Олимпиады; они очень любили друг друга, за исключением тех случаев, когда козловые ботинки и кумачные платки настолько быстро охлаждали эту дружбу, что бедным женщинам ничего не оставалось, как только вцепиться друг в друга и зубами и ногтями и с визгом кататься по земле до тех пор, пока чья-нибудь благодетельная рука не отрезвляла их обеих хорошим подзатыльником или артистической встряской за волосы. Около Лапухи жалось странное существо: на вид это была девочка лет двенадцати, еще с несложившимися, детскими формами, с угловатой спиной и тонкими босыми ногами, но желтое усталое лицо с карими глазами смотрело не по-детски откровенно, как смотрят только отведавшие от древа познания добра и зла.
– Н, пей, Домашка… – говорила Лапуха, передавая Домашке недопитый стакан водки.
– Зачем ты ее поишь? – спросил Гордей Евстратыч.
– Да ведь Домашка-то мне, поди, дочь! – удивленно ответила в свою очередь чадолюбивая Лапуха.
– Домашка у нас молодец… – отозвался с своего ложа Маркушка. – Налей и ей стаканчик, Гордей Евстратыч… ей тоже без водки-то невозможно…
Пестерь и Кайло покосились на разнежившегося Маркушку, но промолчали, потому что водка была Гордея Евстратыча, а право собственности в этой жидкой форме для них было всегда священным. Домашка выпила налитый стаканчик и кокетливо вытерла свои детские губы худой голой рукой с грязным локтем, выглядывавшим в прореху заношенной ситцевой рубахи. Рспитая четверть водки скоро заметно оживила все общество, особенно баб, которые сидели с осоловелыми глазами и заметно были расположены затянуть какую-нибудь бесшабашную приисковую песню. Домашка хихикала без всякой видимой причины и тут же закрывала свое лицо порванным рукавом рубахи. Кайло и кривой мужичонко, которого звали Потапычем, тоже повеселели и все упрашивали благодетеля Маркушку в качестве всеисцеляющего средства выпить хоть стаканчик; но груда тряпья, изображавшая теперь знаменитого питуха, только отрицательно вздрагивала всеми своими лоскутьями. Один Пестерь делался все мрачнее и мрачнее, а когда бабы не вытерпели и заголосили какую-то безобразную пьяную песню, он, не выпуская изо рта своей трубки с медной цепочкой, процедил только одно слово: «У… язвы!..» Кто бы мог подумать, что этот свирепый субъект являлся самым живым источником козловых ботинок и кумачных платков, в чем убедилась личным опытом даже Домашка, всего третьего дня получившая от Пестеря зеленые стеклянные бусы.
– Так уж ты тово… не забывай их… – хрипел Маркушка, показывая глазами на пьяных старателей, когда Брагин начал прощаться.
О себе Маркушка не заботился: ему больше ничего было не нужно, кроме «доходной к Богу» молитвы Татьяны Власьевны.
IV
Вернувшись домой, Гордей Евстратыч, после обычного в таких случаях чаепития, позвал Татьяну Власьевну за собой в горницу. Старуха по лицу сына заметила, что случилось что-то важное, но что именно – она никак не могла разгадать.